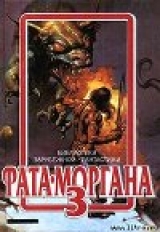
Текст книги "Фата-Моргана 3"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Урсула Ле Гуин
Звезды под ногами
Деревянный дом и окружавшие его постройки вспыхнули сразу, выбросив яркие языки пламени, и сгорели дотла, но купол, сооруженный из дранки и штукатурки поверх каменных, цилиндрической формы стен, уцелел. Последнее, что они сделали, – свалили обломки телескопа, инструменты, книги, карты и схемы на полу в центре под куполом, облили маслом и подожгли. Огонь охватил деревянные части большого телескопа и часового механизма. Жители деревни, смотревшие от подножия холма на купол, белеющий на фоне зеленого вечернего неба, вздрогнули и повернулись сначала в одну, потом в другую сторону, пока черный и желтый дым, полный искр, хлестал из продолговатых щелей: жуткое и отвратительное зрелище.
Темнело, на востоке зажигались звезды. Слышались выкрикиваемые команды. Солдаты спустились на дорогу гуськом, молчаливые, темные люди в темных доспехах.
Крестьяне продолжали стоять у подножия холма даже после ухода солдат. В жизни без каких-либо перемен и надежд пожар сойдет и за праздник. Они не поднимались наверх, а по мере того, как становилось все темнее, сбивались плотнее и плотнее друг к другу. Спустя некоторое время они стали расходиться по домам. Некоторые бросали взгляды через плечо на холм, там ничто не шевелилось. Звезды медленно спрятались за черный улей купола, но он не повернулся, чтобы следовать за ними.
Примерно за час до рассвета на пожарище прискакал, делая невероятные зигзаги, человек, спешился у развалин мастерской и пешком приблизился к куполу. Дверь была взломана. Сквозь нее была видна красноватая струйка света, очень тусклая, просачивающаяся из-под массивной деревянной балки, которая упала и истлела за ночь до сердцевины. Повисший, кислый дым наполнял воздух внутри купола. Высокая фигура шевелилась там, и ее тень шевелилась с ней, уходя вверх, в темноту. Иногда он нагибался или останавливался, затем медленно брел дальше.
Человек в дверях сказал:
– Геннар, Мастер Геннар.
Человек в куполе замер, глядя в направлении двери. Он уже что-то вытащил из месива обломков и полусгоревшего хлама на полу. Механически сунул этот предмет в карман своего плаща, все еще вглядываясь в дверной проем. Затем он подошел. Его глаза, красные и опухшие, были почти закрыты, он дышал прерывисто, с большим трудом, его волосы и одежда были испачканы и пахли золой.
– Где вы были?
Человек из башни показал куда-то на землю.
– Тут есть подвал? Это там вы находились во время пожара? Ей-богу! Уйти под землю! Я знал это, я знал, вы должны быть здесь. – Борд засмеялся, чуточку безумно, взяв Геннара под руку. – Пойдемте. Уйдем отсюда, ради всего святого. Восток уже светлеет.
Астроном пошел неохотно, глядя не на серый восток, а назад и наверх, на щель в куполе, где ярко горели несколько звезд. Борд вывел его наружу, помог ему взобраться на коня и потом, ведя его в поводу, быстро спустился с холма.
Астроном держался за луку седла одной рукой. Другую руку, которую он обжег поперек ладони и пальцев, когда поднял металлический обломок, все еще очень горячий под шубой пепла, он прижимал к бедру. Но он не замечал этого, как не замечал и боли. Иногда его чувства говорили ему: "Я еду верхом на лошади" или "Светает", но эти обрывочные сообщения не имели для него смысла. Он дрожал от холода, так как по мере того, как становилось светлее, усиливался ветер, заставляя шуметь темный лес, по которому двигались теперь два человека и лошадь, по темной узкой дороге, заросшей шиповником и ворсянкой. Но ни лес, ни ветер, ни бледнеющее небо, ни холод не касались его сознания, в котором ничего не было, кроме переливчатой темноты с вонью и жаром пожара.
Борд помог ему спешиться. Теперь вокруг них растекался солнечный свет, ложившийся далеко на камни над речной долиной. Там было укромное место, и Борд увлек и втащил его туда. Там было холодно, тихо и ничто не защищало от ветра. Как только Борд разрешил ему остановиться, он тут же присел, так как у него подкашивались колени, и почувствовал холодный камень под своими опаленными и пульсирующими руками.
– Уйти под землю, ей-богу! – сказал Борд, оглядываясь в свете свечи, вставленной в фонарь, на испещренные прожилками стены со шрамами, оставленными кирками рудокопов. – Я приду сюда, как только стемнеет, если смогу. Не выходите. Не ходите дальше внутрь. Это старая штольня, они не разрабатывают этот рукав шахты вот уже много лет. В этих старых тоннелях могут быть обвалы и ямы. Не выходите! Лежите тихо. Когда псы уйдут, мы переправим вас через границу.
Борд повернулся и ушел к вершине штольни в темноту. Звук его шагов давно стих, когда астроном поднял голову и оглядел темные стены вокруг себя и маленький огонек свечи. Он задул ее. На него навалилась темнота, пахнущая землею, молчаливая и абсолютная. Он увидел зеленые тени, бледные коричнево-желтые пятна, постепенно превращающиеся в черные; тени медленно растаяли. Монотонная, прохладная чернота была как бальзам для его воспаленных и болящих глаз и для его мозга.
Если он думал, сидя там, в темноте, его мысли не выражались словами. Он дрожал от истощения, наглотавшись дыма и получив несколько легких ожогов, его разум мутился. Но, возможно, работа его мозга, безусловно светлого и ясного, никогда не была нормальной. Ведь это ненормально для человека – провести двадцать лет, шлифуя линзы, строя телескопы, вглядываясь в звезды, делая расчеты, планы, карты и схемы тех объектов, до которых нельзя добраться, потрогать, подержать их в руках. И теперь все, чему он посвятил свою жизнь, разрушено, сожжено. А то, что осталось, должно быть погребено – как он сейчас.
Но она не пришла к нему, эта идея о собственном погребении. Все, что он остро осознавал, была большая тяжесть гнева и печали, груз, который он был не способен вынести. Это выжимало его разум, подавляло сознание. И тьма здесь, казалось,, облегчала эту тяжесть. Он привык к темноте, он жил ночью. Тяжестью здесь была только горная порода, только земля. Никакой гранит не бывает так тверд, как ненависть, и никакая глина так не холодна, как жестокость. Черная невинность земли обнимала его. Он лежал внутри нее, слегка дрожа от боли и облегчения от боли, и заснул.
Свет разбудил его. Граф Борд был здесь, зажигая свечу с помощью кремня и кресала. Лицо Борда было ярко освещено этим светом. Превосходный цвет волос и лица, голубые глаза сильного человека и охотника, красные губы, чувственные и волевые.
– Они идут по следу, – говорил он. – Они знают, что вы спаслись.
– Почему… – сказал астроном. Его голос был слаб; горло так же, как и глаза, было все еще наполнено дымом. – Почему они преследуют меня?
– Почему? Вам еще нужно объяснять? Чтобы сжечь вас живым, Мастер. За ересь, – голубые глаза Борда ослепительно сверкали сквозь ровное пламя свечи.
– Но они уже сожгли все, что я сделал.
– Нора выжжена, хорошо. Но где же лиса? Они хотят свою лису! Но черт меня возьми, если я позволю им схватить вас.
Глаза астронома, светлые и широко поставленные, поймали его глаза и задержались в них.
– Почему?
– Вы думаете, я глупец, – сказал Борд с усмешкой, которая была не улыбкой, а оскалом волка, вызовом жертвы и азартом охотника. – А я и есть глупец. Я был глуп, предупреждая вас. Вы никогда не слушали. Я был глуп, слушая вас. Но я любил слушать вас. Я любил слушать вас, когда вы рассказывали о звездах и движении планет и пределах времени. Кто еще говорил со мной когда-нибудь о чем-нибудь, кроме как о посевах и навозе? Вы понимаете? А я не люблю солдат и чужестранцев, и суды, и костры. Ваша правда, их правда, что я знаю о правде? Разве я Мастер? Разве я знаю законы движения звезд? Может быть, вы знаете. Может быть, они знают. Все, что я знаю, – это то, что вы сидели за моим столом и разговаривали со мной. Могу я видеть вас на костре? Божественный огонь, они говорят; но вы сказали, звезды – огни Бога. Почему вы спрашиваете меня "Почему?" Почему вы задаете глупый вопрос глупцу?
– Простите, – сказал астроном.
– Что вы знаете о людях? – сказал граф. – Вы думаете, они оставят вас в живых? И вы думаете, я позволю дать вам умереть на костре? – Он посмотрел на Геннара сквозь пламя свечи, скаля зубы, как загнанный волк, но в его голубых глазах вспыхнула искра веселья.
– Мы, которые живем на земле, видите ли, не парим наверху среди звезд…
Он принес трутницу и три сальные свечи, бутыль воды, голозку горохового пудинга, мешок с хлебом. Он скоро ушел, опять предупредив астронома не выходить из шахты.
Когда Геннар проснулся, какая-то странность в его положении взволновала его, но не та, которая беспокоила бы большинство людей, прячущихся в норе, чтобы спасти свою шкуру, но больше всего доставляющая ему страдания. Он не сознавал времени.
Это было не отсутствие часов, когда сладкий звон церковных колоколов в деревне призывал к утренней или вечерней молитве, или тонкая и добровольная точность хронометра, который он использовал в своей обсерватории и от чистоты которой зависело так много в его открытиях; то, что он потерял, было не часами, а Временем. Не глядя на небо, человек не может узнать о вращении Земли. Весь ход времени, солнечная яркая радуга и фазы Луны, парад планет, оборот созвездий вокруг Полярной звезды, более обширный оборот периодов звезд – все это было утрачено, основа, в которую была вплетена и его жизнь.
Здесь не было времени.
– О, мой Бог, – молился астроном Геннар в темноте под землей. – Как могло оскорбить тебя то, что восхваляло тебя. Все, что я когда-либо видел в свой телескоп, была одна искра твоей славы, одна мельчайшая часть устройства мира, тобой сотворенного. Ты не должен ревновать из-за этого, Господи! И только немногие верили мне, даже очень немногие. Было ли моей самонадеянностью то, что я осмелился описывать твою работу? Но как я мог не делать этого, Господи, когда ты позволил мне видеть бесконечные поля звезд? Мог ли я видеть и молчать? О, мой Бог, не наказывай меня больше, позволь мне вновь выстроить маленький телескоп. Я не буду рассказывать, не буду публиковать, если это раздражает твою святую Церковь. Я не скажу больше ничего об орбитах планет или о природе звезд. Я не буду говорить, Господи, только позволь мне видеть!
– Что за дьявол, успокойтесь, Мастер Геннар. Я слышу вас с середины тоннеля, – сказал Борд, и астроном открыл глаза ослепительному блеску его фонаря. – Они устроили наверху настоящую охоту за вами. Теперь вы колдун. Они клянутся, что видели вас спящим в своем доме; но в золе нет костей.
– Я спал, – сказал Геннар, закрывая глаза. – Они вошли, солдаты… Я… Я должен был послушаться вас. Я вошел в переход под куполом. Я построил его с таким расчетом, чтобы я,мог возвращаться в дом во время холодных ночей, когда от холода замерзали и не гнулись пальцы, я вынужден был иногда ходить отогревать руки. – Он вытянул свои почерневшие, покрытые волдырями руки и посмотрел на них рассеянно. – Потом я слышал их наверху…
– Здесь еще немного еды. Что за черт, вы ничего не ели?
– Прошло много времени?
– Ночь и день. Теперь ночь. Идет дождь. Послушайте, Мастер, сейчас в моем доме живут два пса в черном. Эмиссары Совета, черт, я обязан был оказать им гостеприимство. Это мое графство, они здесь, я граф. Поэтому мне трудно приходить к вам. Я не хочу присылать сюда кого бы то ни было из моих людей. Что если священники спросят их:
"Знаете ли вы, где он? Решитесь ли вы ответить Богу, что вы не знаете, где он?" Им лучше ничего не знать. Я приду когда смогу. С вами все в порядке? Вы останетесь здесь? Я заберу вас отсюда и переправлю за границу, когда они уберутся отсюда. Теперь они роятся, как мухи. Не разговаривайте громко, как в этот раз. Они могут заглянуть в этот старый тоннель. Вы должны уйти дальше вглубь. Я вернусь. Оставайтесь с Богом, Мастер.
– Ступайте с Богом, граф.
Он увидел голубые глаза Борда и тень, метнувшуюся на грубо вырубленный свод, когда он поднял фонарь. Свет и цвет умерли, как только граф, повернувшись, загородил фонарь. Борд ушел, Геннар слышал, как он спотыкался и ругался, нащупывая дорогу.
Геннар зажег одну из своих свечей, немного поел и попил, сначала съедая более черствый хлеб и отламывая чуть-чуть от очерствевшего большого куска горохового пудинга. В этот раз Борд принес ему три буханки хлеба и немного соленого мяса, еще две свечи, вторую кожаную бутыль воды и толстый шерстяной плащ. Сейчас Геннар не чувствовал холода. Он был одет в куртку, которую всегда носил в холодные ночи в обсерватории и очень часто спал в ней, когда спускался вниз, запинаясь от усталости. Это была добротная шерсть, грязная после его поисков среди обломков в куполе и опаленная на концах рукавов, но сама куртка была на редкость теплая и стала для него как собственная кожа. Он сидел в ней, ел и глядел сквозь сферу дрожащего желтого огонька свечи в темноту тоннеля вдали. Слова Борда "Вы должны уйти дальше вглубь" звучали в его мозгу. Когда он покончил с едой, он завернул оставшиеся продукты в плащ, взял этот сверток в одну руку, зажженную свечу в другую и стал спускаться по боковому тоннелю, а затем по штольне вниз и вглубь.
Сделав несколько сотен шагов, он пришел к большому тоннелю, пересекающему штольню, от которого уходило много коротких ходов и несколько больших пещер или галерей. Он свернул влево и очутился перед большой галереей из трех уровней. Он вошел туда. Самый дальний уровень был всего лишь примерно в пяти футах под сводом, который был укреплен все еще хорошо сохранившимися стойками и балками. В углу самого дальнего уровня, за углом кварцевого вкрапления, который шахтеры оставили выступающим как поддерживающее опору, он устроил свой новый лагерь, разложив еду, воду, трутовницу и свечи так, чтобы в темноте они были всегда под рукой, и постелил плащ как матрац на пол из глины. Потом он задул уже сгоревшую на четверть свечу и улегся в темноте.
После третьего возвращения в тот первый боковой тоннель и не найдя ничего, что бы говорило о посещении шахты графом, он пошел назад в свой лагерь и сделал ревизию припасам. У него оставалось еще две буханки хлеба, полбутылки воды и соленое мясо, к которому он еще не притрагивался, и четыре свечи. Он подумал, что, должно быть, прошло шесть дней после прихода Борда, но, может быть, их прошло три или восемь. Он страдал от жажды, но не решался попить до тех пор, пока у него не будет пополнен запас воды.
Он решил искать воду.
Сначала он считал шаги. Пройдя 120 шагов, он увидел, что столбы, поддерживающие свод, покосились и груда камней обвалилась, наполовину засыпав ход. Он пришел к подземной выработке, вертикальной шахте, спустился вниз, едва не свалившись, по тому, что осталось от деревянной лестнице, но после этого, на нижнем уровне, он забыл начать считать шаги. Скоро он увидел сломанную ручку от кирки, дальше выброшенную шахтерскую повязку, на которой еще держался огарок свечи. Он положил его в карман и пошел дальше.
Монотонность стен из вырубленного камня, укрепленных деревом, притупляла его сознание. Он шел как человек, которому нужно пройти бесконечный путь. Темнота следовала за ним и шла впереди него.
Свеча, догоревшая почти до конца, пролилась струей горячего сала на пальцы, причинив ему боль. Он бросил ее, и она погасла. Он искал ее в наступившей тьме, испытывая тошноту от запаха дыма и поднимая голову, чтобы не вдыхать эту горелую вонь. Перед собой, прямо перед собой, вдалеке, он увидел звезды. Крошечные, яркие, далекие, пойманные в узком, как щель в обсерватории купола, про"странстве.
Он вскочил, забыв о свече, и побежал навстречу звездам.
Они бросали причудливые тени на почерневшие лица и выхватывали причудливые блики из ярких живых глаз.
– Кто это здесь, Ханно?
– Что ты делаешь в этом старом штреке, приятель?
– Эй, кто это там?
– Хоть бы и дьявол, останови его!
– Ты, приятель! Держи!
Он побежал, ослепленный, в темноту, обратно, тем путем, которым пришел. Они следовали за ним, и он гнался за своей собственной тенью, гигантской тенью вниз по тоннелю. Когда прежняя тьма поглотила тень и прежняя тишина установилась снова, он все еще ковылял, спотыкаясь и запинаясь, так что очень часто оказывался на четвереньках. Наконец он свалился и лежал, сжавшись против стены, в его груди полыхал огонь.
Тишина и тьма.
В кармане он нашел огарок свечи в жестяной коробке, зажег его с помощью кремня и кресала и, освещая себе путь, нашел вертикальную шахту не далее пятидесяти шагов от этого места, где он остановился. Он вернулся назад в лагерь. Там он заснул, проснулся, поел и выпил оставшуюся воду, что означало необходимость встать и отправиться на поиски воды опять; заснул или задремал, а может, впал в состояние прострации, в котором он услышал голос, говорящий с ним.
– Вот ты где. Хорошо. Не бойся. Я не причиню тебе вреда. Я говорил, что это не гном. Кто когда-либо слышал о гноме такого же роста, как человек? Или кто когда-нибудь видел хоть одного, коли на то пошло. Их, друзья, увидеть невозможно, сказал я. А то, что мы видели, был человек, это уж точно. Тогда что он делает в шахте, сказали они, а что если он привидение, один из тех парней, которые погибли, когда потоки воды обрушились в старую южную шахту, может быть, они приходят сюда погулять? Хорошо, сказал я тогда, я пойду посмотрю. Я еще никогда не видел призрака, хотя слышал все о них. Я не боюсь того, чего нельзя увидеть, вроде гномов, а какой мне вред, если я увижу опять лицо Темона или старого Трипа, разве я не видел их во сне, в таких же забоях, продолжающих работать с потными лицами, точно так же, как в жизни? Почему бы нет? И вот я прихожу, но ты не привидение и не рудокоп. Ты можешь быть дезертиром или вором. А может, ты сумасшедший, так, бедняга? Не бойся, прячься, если тебе нравится. Что мне до этого? Здесь, внизу, есть место для тебя и для меня. Почему ты прячешься от солнечного света?
– Солдаты…
– Я так и подумал.
Когда старый рудокоп кивнул, свеча, прикрепленная колбу, качнулась и по своду штрека метнулись тени. Он сидел на корточках не более чем в десяти метрах от Геннара, его руки свисали между колен. Пучок свечей и кирка с короткой ручкой, инструмент замечательной формы, выглядывали из-за пояса. Его лицо и тело в неровном свете звездочки-свечки были грубыми и землистыми.
– Позвольте мне остаться здесь.
– Оставайся и добро пожаловать! Разве я владелец шахты? Где ты вошел? А, старый штрек над рекой? Тебе повезло, что ты нашел его, и хорошо, что ты пошел по этому пути к перекрестку, а не пошел вместо этого на восток. В восточном направлении этот горизонт тянется до провалов. Там очень глубокие провалы, ты не знаешь это? Никто не знает, кроме рудокопов. Они обнаружили провалы раньше, чем я родился, идя по старой жиле, которая проходила здесь и вверх. Я увидел однажды провалы, мой отец взял меня, ты должен увидеть это однажды, сказал он. Увидеть мир под миром. Пространство, которому нет конца. Пропасть, глубокая, как небо, и черный поток, падающий в нее, падающий и падающий до тех пор, пока огонь свечи не потухнет и нельзя будет следить за ним, а вода все падает в бездну. Звук ее доносился, как шепот, без конца из темноты. А дальше есть еще провалы, и еще ниже. Нет им конца, быть может. Кто знает? Пропасть под пропастью, блещущие кварцевыми кристаллами. Там кругом бесплодный камень. Все уже выработано здесь давным-давно. Это достаточно безопасная дыра, что ты выбрал, приятель, если бы ты не приковылял к нам. Что ты искал? Пищу? Человеческое лицо?
– Воду.
– В этом нет недостатка. Пойдем, я покажу тебе. На нижнем ярусе даже слишком много ключей. Ты повернул в неверном направлении. Мне пришлось работать там, внизу, по колено в этой чертовой холодной воде, прежде чем жила иссякла. Давным-давно. Пойдем.
Старый рудокоп оставил его в лагере, показав ему, где бьют ключи, и предупредил не спускаться вниз по течению, так как подпорки могли сгнить и шаги или звук могли вызвать обвал. Там, внизу, все балки, брусья были покрыты толстой блестящей белой шубой, возможно, селитрой или древесной плесенью. Это выглядело очень странно над маслянистой водой. Когда Геннар опять остался один, он подумал, что ему приснился белый тоннель, полный черной воды, и посещение рудокопа. Когда он увидел блики света далеко внизу тоннеля, то притаился за кварцевой глыбой с большим куском гранита в руке: весь его страх, гнев, горе здесь, в темноте, уступили место одному чувству; решимость не даваться в руки никому. Слепая решимость, тупая и тяжелая, как кусок камня, тяжелого, в его душе.
Это был всего лишь старый рудокоп, принесший ему толстый кусок сухого сыра.
Он сел и заговорил с астрономом. Геннар ел сыр, потому что у него уже не осталось еды, и слушал, что говорил старый рудокоп. По мере того как он слушал, ему, казалось, становилось легче. К тому же, похоже, его зрение в темноте обострилось.
– Ты не похож на солдата, – сказал рудокоп, и он ответил:
– Нет, я когда-то был ученым, – но больше ничего, потому что он не осмелился Сказать шахтеру, кто он. Старик знал обо всех событиях наверху; он рассказывал о сгоревшем Круглом Доме на холме и о графе Борде. – Эти, в черных сутанах, увезли его в город, чтобы, как они говорят, представить суду Совета. Судить – за что? Он когда-нибудь кого-нибудь обижал, кроме кабанов, оленей и лисиц, на которых охотился? Или Совет, что будет его судить, состоит из лисиц? Что это творится повсюду: суют нос в чужие дела, отрывают от работы, эти костры, эти суды? Лучше оставить честных людей в покое. Граф был честным, настолько, насколько может быть честным богатый человек, справедливый лендлорд. Но вы не должны верить им, никому из таких людей. Только здесь, внизу, вы можете верить людям, которые спускаются в шахту. Что еще берет с собой человек сюда, кроме собственных рук и рук своего друга? Что лежит между ним и смертью, когда случится обвал в горизонте или подземная выработка рухнет и он окажется замурованным в штреке? Только их руки, и их лопаты, и их желание откопать его. Не было бы серебра наверху под солнцем, если бы не было доверия между нами здесь, внизу, под землей. Здесь, внизу, вы можете положиться на своих товарищей. И никто не придет, кроме них. Видели ли вы владельца шахты, одетого в кружева, или солдат, спускающихся под землю по лестницам, все глубже и глубже в шахту, в темноту? Никогда. Они храбры громко топать по травке. Ну а какой толк от сабли или крика в темноте? Мне бы хотелось посмотреть на них, когда они спустятся сюда.
Коща он пришел в другой раз, с ним был другой человек, и они принесли масляную лампу и жестяной бидон с маслом, а кроме того, еще сыра, хлеба и несколько яблок.
– Это Ханно подумал о лампе, – сказал старый рудокоп. – У нее пеньковый фитиль. Если она будет гаснуть, дунь посильнее, и она разгорится снова. Вот здесь еще дюжина свечей. Малыш Пер украл много из коробки, там наверху, на травке.
– Они все знают, что я здесь?
– Мы – да, – сказал рудокоп коротко. – Они – нет.
Спустя некоторое время Геннар пошел по нижнему, уходящему на запад горизонту, по которому он шел в тот раз, до тех пор, пока не увидел свечи рудокопов, пританцовывающие как звезды, и он вошел в забой, где они работали. Они разделили с ним свою пищу. Они показали ему дороги в шахте, насосы и глубокий ствол шахты, где были установлены лестницы и висели шкивы с бадьями; он убежал оттуда, так как ему показалось, что всасываемый в ствол шахты воздух пахнет гарью. Они вернули его и разрешили работать с ними. Они обращались с ним как с гостем, как с ребенком. Они усыновили его. Он стал их тайной.
Мало приятного в том, чтобы проводить по двенадцать часов в день в черной дыре под землей всю свою жизнь, если ничего там нет, ни тайны, ни скрытых сокровищ, ничего.
Было серебро, разумеется. Но если раньше десять артелей по пятнадцать человек разрабатывали этот уровень и не было конца скрипу, лязгу и грохоту груженых бадей, поднимающихся на визжащем блоке, и пустых, опускающихся вниз, чтобы встретиться с гонщиками, бегущими с тяжелыми тележками, то теперь работала одна артель из восьми человек: всем за сорок, люди пожившие и не знавшие никакого ремесла, кроме ремесла рудокопа. В шахте оставалось еще немного серебра в твердом граните в маленьких жилках среди породы. Иногда они проходили один фут за две недели. "Это была замечательная шахта",– говорили они с гордостью. Они показали астроному, как устанавливать клин и подвешивать салазки, как подходить к граниту с прекрасно сбалансированным и остро отточенным кайлом, как сортировать и дробить руду, что искать, редкие яркие жилки чистого металла, как крошить богатую серебром породу. Он каждый день помогал им. Он был в галерее и поджидал, когда они придут, и окликал одного или другого, и весь день работал лопатой или кайлом или отвозил тележки с серебром по желобам, обшитым досками, к главному стволу шахты, или работал в забоях. Там они не позволяли ему работать долго; гордость и привычка запрещала это. "Послушай, не руби, как дровосек. Смотри: вот так, видишь?" Но потом другой просил его: "Ударь вот здесь, парень, видишь, по клину, вот так".
Они делились с ним своей грубой, скудной пищей.
Ночью, один в пустоте земли, когда они поднимались по длинным лестницам наверх, на травку, как они говорили, он лежал и думал о них, их лицах, голосах, их тяжелых, изрубцованных с въевшейся землей руках, руках старых людей с толстыми ногтями, почерневшими от ударов камней и стали. Эти руки, умудренные и уязвимые, вскрыли землю и нашли сверкающее серебро в твердом камне. Серебро, которого они никогда не держали, никогда не имели, никогда не тратили. Серебро, которое им не принадлежало.
– А если вы найдете новую жилу, новую залежь?
– Откроем ее и скажем хозяевам.
– Зачем говорить хозяевам?
– Ты что? Мы получаем плату за то, что выдаем на-гора! Или ты думаешь, мы делаем эту проклятую работу из любви к работе?
– Да.
Они все смеялись над ним, смех был громкий, насмешливый, простодушный. Живые глаза блестели на их лицах, почерневших от пыли и пота.
"О, если бы мы смогли найти новую залежь! Жена зарезала бы свинью, как мы сделали однажды, и, ей-богу, я купался бы в пиве! Но, если бы было серебро, они бы уже нашли его; поэтому-то они ведут работы так далеко в восточном направлении. Но там бесплодная порода, и здесь почти все выработано, крошки подбираем".
Время тянулось за ним и впереди него, как темные выработки и квершлаги шахты, тотчас появляясь там, где бы он ни проходил со своей маленькой свечой. Теперь, когда он был один, астроном часто бродил в тоннелях и старых выработках, зная опасные места, глубокие горизонты, полные воды, привыкший к качающимся лестницам и тесным проходам, очарованный игрой пламени своей свечи на каменных стенах и лицах, блеском слюды, который, казалось, приходил из самой глубины камня. Что это иногда так сверкает? Как если бы свеча находила что-то внутри блестящей слюдяной поверхности, и что-то мигало в ответ и меркло, как будто скрывалось за облаком или невидимым диском планеты.
"В земле есть звезды, – подумал он. – Если бы кто-нибудь знал, как их увидеть".
Не умея обращаться с киркой, он хорошо разбирался в машинах. Они восхищались его умением и принесли ему инструменты. Он починил насосы и лебедки; он подвесил на цепи лампу для Малыша Пера, работающего в длинном узком тупике, с рефлектором из жестяной коробки из-под свечей, разрезанной и разогнутой в лист и полированной мелкой каменной пылью и овчиной с подкладки его куртки.
– Это чудо, – сказал Пер. – Как днем. Только, находясь сзади меня, она не гаснет, когда воздух становится плохим и не указывает мне, что я должен возвращаться и отдышаться.
Дело в том, что рудокоп мог продолжать работу в узком забое только некоторое время после того, как свеча погасла от недостатка кислорода.
– Вы должны быть оснащены воздуходувными мехами в таких местах.
– Что, как в кузнице?
– Почему бы нет?
– Ты когда-нибудь поднимаешься на травку, по ночам? – спросил Ханно, гладя задумчиво на Геннара. Ханно был меланхоличный, задумчивый, отзывчивый парень. – Просто чтобы оглядеться кругом.
Геннар не ответил. Он пошел помогать Брану крепить; рудокопы выполняли все виды работы, которые когда-то выполнялись бригадами крепильщиков, землекопов, сортировщиков и другими.
– Он смертельно боится покинуть шахту, – тихо сказал Пер.
– Даже чтобы увидеть звезды и глотнуть воздуха, – сказал Ханно, как будто он все еще разговаривал с Геннаром.
Однажды ночью астроном выложил все содержимое своих карманов и посмотрел на то, что находилось в них с той ночи пожара в обсерватории: предметы, которые он поднял в те часы, часы, которые он теперь не смог бы вспомнить, те часы, когда он шел ощупью и спотыкаясь в дымящихся обломках, ища… ища то, что он потерял. Он больше не думал о том, что он потерял. Это таилось в его мозгу под толстым шрамом, шрамом от ожога. В течение длительного времени этот шрам в его мозгу не давал ему понять природу предметов, которые теперь выстроились перед ним на пыльном каменном полу шахты: комок бумаг, все исписанные с одной стороны; круглый кусочек стекла или кристалла, металлическая трубка, прекрасно обработанное деревянное зубчатое колесо; немножко согнутой черненой меди с вытравленными красивыми линиями, и так далее, кусочки, обломки, обрывки. Он положил бумаги обратно в карман, не пытаясь даже разъединить хрупкие полуобгорелые листки и разобрать красивый почерк. Он продолжал глядеть на все эти предметы и машинально подбирать и рассматривать другие, особенно кусочки стекла. Это, он понял, был окуляр его 10-дюймового телескопа. Он сам положил линзу на землю. Когда-он поднял ее, то держал очень осторожно, за ребрышки, чтобы выделения его кожи не попортили стекла. Наконец он начал ее тщательно полировать, используя для этого кусок замечательной овечьей шерсти от своей куртки. Когда она стала чистой, он поднял ее и поглядел на нее и сквозь нее во всех направлениях. Его лицо было спокойно и полно решимости, его светлые, широко поставленные глаза смотрели в одну точку.
Наклоненная в его пальцах телескопическая линза отражала пламя лампы в одну яркую крошечную точку около края и, по-видимому, ниже закругления забоя, как если бы линза выхватила там звезду из многих сотен ночей, в течение которых она была обращена к небу.
Он заботливо завернул линзу в кусочек шерсти и сделал для нее место в каменной нише с помощью трутницы. Затем он осмотрел один за другим все остальные предметы.
В течение следующих недель рудокопы меньше видели своего беженца, пока они работали. Он был занят важным делом: исследованием пустынных восточных районов шахты, сказал он, когда они спросили его, что он делал.








