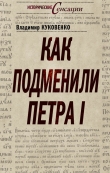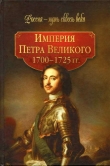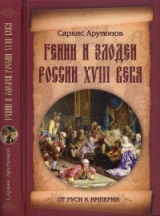
Текст книги "Гении и злодеи России ХVIII века"
Автор книги: Саркис Арутюнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Он тайно бежал из страны и обосновался во Франции, где уже действительно попытался сколотить заговор из русских эмигрантов, нащупать контакты с недовольными в России и сотрудничать в своих начинаниях с иностранными разведками. Так «липовые» заговоры, плодя обозленных преследованиями стойких оппозиционеров, вызывали к жизни заговоры уже настоящие. А группа сторонников Елизаветы под началом Семена Нарышкина в Париже становится в нашей истории одной из первых групп политических оппозиционеров-эмигрантов. Раньше, еще даже и в эпоху правления Петра I, для такого феномена, как политическая русская эмиграция, не было ни идейной почвы, ни самой кадровой базы из достаточного числа русских эмигрантов за пределами России.
Пока же первыми эмигрантами, тревожащими их, стали обиженные дворяне и сановники, мечтающие о более подходящем для себя монархе на русском престоле, да еще убежденные раскольники-староверы, у них была своя политико-религиозная эмиграция. Нарышкин же, проживавший во Франции с чужим паспортом с фамилией Тенкин, закончив в эмиграции Сорбоннский университет и подружившись в Париже с самим Вольтером, одним из первых русских политэмигрантов вступил в откровенное сотрудничество с иностранной разведкой против единого врага – существующего в России режима императрицы Анны. Именно через этого эмигранта и его соратников сторонники цесаревны Елизаветы из России позднее установят связь с дворами Франции и Швеции в надежде на поддержку грядущего переворота в пользу Елизаветы Петровны в России. И пусть эти контакты не станут определяющими в свершившемся в 1741 году военном перевороте русской гвардии с призванием Елизаветы на трон, пусть этот переворот станет в большей мере внутрироссийским заговором, сам факт очень примечателен.
Итак, он, находясь в Париже, в мае 1741 года был пожалован в камергеры, а 31 декабря того же года был назначен чрезвычайным посланником в Англию, на место бывшего там князя Щербатова. В рескрипте ему предписывалось: дать понять английскому министерству, что императрица желает продолжения доброго согласия и дружбы между Россией и Англией; не входить в обсуждение подробностей тогдашней европейской политической системы; наблюдать за намерениями Англии относительно войны с Испанией и за тем, какое участие может принять в этой войне Франция.
Нарышкин, проживший долгое время в Париже, где дружески сошелся с Дидро, с Фальконе и с русским посланником при французском дворе князем Кантемиром, более склонялся на сторону Франции, нежели Англии. Посланником в Лондоне Нарышкин пробыл лишь полтора года, до июня 1743 года, когда в Англию был снова отправлен князь Щербатов, а Нарышкин отозван в Петербург. Ходили разноречивые слухи о том назначении, которое получит Нарышкин: одни полагали, что он будет канцлером вместо А. П. Бестужева, другие думали, что императрица сделает его даже президентом Академии наук.
Осенью 1744 года он назначен гофмаршалом ко двору великого князя Петра Федоровича с чином генерал-лейтенанта. 18 декабря того же года награжден орденом Александра Невского. В 1757 году Нарышкин был произведен в генерал-аншефы и сделан обер-егермейстером. В 1760 году был награжден орденом Святого Андрея Первозванного. Примерно в то же время он был назначен присутствовать в Придворной конторе. Он спокойно умер в 1775 году в Москве.
Дело Ивана Петрова, регента придворного хора, расследуемое Тайной канцелярией в 1735 году, похоже на организацию такого же заказного со стороны власти преследования династических оппонентов, как и преследования Шубина с Нарышкиным. В нем фигурирует письмо неизвестного «о возведении на престол российской державы, а кого именно, того именно не изображено». И такие формулировки сразу наводят на догадку об искусственном раскручивании дела. Очевидно, и здесь пытались по заданию Бирона или Остермана «сшить» дело против Елизаветы. Поскольку, не добившись от Петрова никакой информации и выпуская его из застенка (редкий по тем временам случай такого оправдания), Ушаков лично предупредил хорового регента о том, что никому нельзя говорить о своем аресте и следствии, а особенно цесаревне Елизавете.
Заочно подозреваемую Елизавету по этим делам Ушаков и его сотрудники не допрашивали ни разу, держа от нее всю эту бурную деятельность по искоренению заговоров в тайне.
Дочь Петра Великого лично допрашивала по поводу всех этих подозрений только сама ее царствующая двоюродная сестрица Анна Иоанновна. В те годы у Ушакова и его службы тайной полиции в империи был еще не тот статус, чтобы вмешиваться в личные отношения главных представителей правящего рода Романовых.
При Ушакове впервые в России служба тайного сыска использовалась для такой миссии, как возвращение в Россию богатства бывших фаворитов, предусмотрительно вывезенных ими за границу. Бывший царский фаворит Александр Данилович Меншиков давно уже умер в своей сибирской ссылке, а его имущество уже отобрали при аресте (при обыске только лично у Меншикова нашли и конфисковали несколько миллионов рублей и груду драгоценностей). Однако в Тайной канцелярии привезенных из Сибири детей Меншикова угрозами заставили вернуть в страну его тайные вклады в банках Амстердама. Тогда это была новинка в действиях тайного сыска и руководившей им царской власти.
В высшем слое государственной власти было множество менее значимых политических процессов, следствие по которым вела Тайная канцелярия. Так вступил в конфликт с любимцами императрицы Анны и лидерами правящей «германской партии» при дворе Бироном и Остерманом и попал под следствие бывший личный секретарь и глава канцелярии Петра Великого Алексей Макаров (1674—1740). Следствие против бывшего петровского любимца велось Тайной канцелярией с 1733 года до смерти Анны Иоанновны в 1740 году, несколько раз Макаров брался под домашний арест, а в ведомстве Ушакова из его слуг пытались выбить фиктивные показания.
Доказать вину Макарова не удалось. Его обвиняли в соучастии в заговоре с целью свержения Анны и группировки Остермана и Бирона, а также в утаивании при уходе с должности неких секретных документов покойного царя Петра и опального князя Меншикова. В том же 1740 году бывший выдающийся деятель государства умер от болезни, прогрессировавшей под влиянием нервного стресса от следствия и ожидания скорого ареста. Из дела Макарова на следствии выделили отдельно обвинение в церковном заговоре группы Саровских монахов, повлекшее уже настоящие аресты, казни и ссылку виновных в Сибирь в 1738 году. Этот «процесс» Ушаков и его канцелярия раскручивали под руководством главного еще со времен Петра охранителя церковных нравов Феофана Прокоповича, главы Синода русской церкви, так что задания на организацию таких процессов Тайная канцелярия получала не только от светской, но и от церковной власти.
Инквизиционный и безжалостный характер методов следствия в ведомстве Ушакова отмечают практически все историки, занимавшиеся этим периодом жизни Российской империи.
Сведения от обвиняемых получали через физические истязания. В повседневной практике Тайной канцелярии пытки были настолько обыденным делом, что у зачерствелых сердец тех, кто заносил показания колодников на бумагу, они не вызывали ни боли, ни сострадания, ни удивления, ни отвращения. Смерть от пыток тоже не возводилась в ранг чрезвычайного происшествия.
У специальной группы палачей в Тайной канцелярии при Ушакове даже был старший палач, и до нас дошло имя этого мрачного человека – его звали Федор Пушников, а должность его в канцелярии именовалась «заплечных дел мастер».
Канцелярия А.И. Ушакова занималась разными делами, требующими ее вмешательства. Например, слежкой за иностранными посланниками в России или делами «изменников». В годы правления Анны Иоанновны «служба госбезопасности» выявила тайные контакты посла Саксонии в России Мориса Линара с племянницей императрицы Анной Леопольдовной, предназначенной царствующей теткой в свои наследницы. Тогда выяснилось, что речь шла не о шпионаже или выведывании немцем российских государственных секретов, а о банальной любовной интриге Анны и Линара. Об этом доложили императрице, которая вообще любила заслушивать доклады Ушакова по делам его сыска и читать прямо в кабинете принесенные им розыскные дела Тайной канцелярии. В результате громкого дела о шпионаже и международного скандала с Саксонией не получилось, племянницу царица только слегка пожурила. Линара быстро попросили покинуть Санкт-Петербург. Поскольку же по нашей традиции наказать кого-то все же требовалось, козлом отпущения сделали дворцового лакея Брылкина, помогавшего влюбленным в их тайных свиданиях и переписке. И вот несчастного Брылкина неоднократно допрашивали в Тайной канцелярии, а затем отправили в ссылку в Казань.
Андрей Иванович Ушаков мог спокойно отчитаться: тайная интрига была раскрыта, угроза государственной безопасности устранена, виновные наказаны. Знакомая картина осторожных действий политического сыска там, где могут быть задеты интересы персон из верхних эшелонов власти, и при этом же беспощадность к затертым в жернова политического сыска относительно бесправным «простым людям».
Россияне, которые попадали под подозрение в сношениях с иностранными дипломатами и разведчиками, доставлялись также в Тайную канцелярию. Так, в 1734 году лично Ушаков с большой группой своих подчиненных ездил в Смоленск с секретной миссией: арестовать смоленского губернатора князя Черкасского за его тайные сношения с поляками и пруссаками. Ушаков объявил Черкасскому, что направляется с секретной царской миссией в Польшу, а потом вероломно ночью после пирушки в губернаторской резиденции арестовал Черкасского с его приближенными, доставив их в Петербург для допросов в своей канцелярии. На суде доказать измену Черкасского в полном объеме не удалось, и его отправили вместо плахи в сибирскую ссылку.
Сибирский вице-губернатор Алексей Жолобов был обвинен в измене и казнен после пыток в Тайной канцелярии. Жолобова сгубила критика некоторых начинаний императрицы Анны, о которых в Петербург из Сибири сообщили доносчики, а также близкая дружба с бывшими «верховни-ками», оспаривавшими в 1730 году безграничность власти царицы в государстве. На следствии к нему, как и ко многим другим обвиняемым из высшей российской элиты тех лет (правитель Восточной Сибири в эту элиту входил), в Тайной канцелярии применили оригинальный «метод»: обвиняя одновременно в замысле государственной измены и в коррупции для личного обогащения.
Еще в мае 1733 года бригадира Сухарева губернская канцелярия посылает в Иркутск для следствия о злоупотреблениях вице-губернатора Жолобова. На эту должность последний был назначен в 1731 году, и почти сразу же в Тобольск и Москву стали поступать на него жалобы. Сенат решает сменить Жолобова К. Сытиным, который по приезде в Иркутск умер. Теперь в борьбу за власть в Иркутске вступили две партии. Враги Жолобова подьячий Татаринов, казачий атаман Лисовский и епископ Иннокентий убедили иркутян просить губернатора назначить вице-губернатором малолетнего сына Сытина под опекой полковника И.Д. Бухгольца. Но Жолобов путем интриг и, опираясь на иркутское купечество, добился для себя нового указа о назначении вице-губернатором, после чего стал мстить своим недругам.
В 1734 году в Иркутск с ротой солдат приехал Сухарев, но Жолобов попытался оказать ему сопротивление. Из указа императрицы следует, что он, «не имея от предер-зостей своих воздержания... обнажил свою шпагу и учинил противность» офицерам, посланным его арестовывать. Но отчаянная попытка устроить дуэль результатов не дала, и Жолобов был арестован. Сухарев по указу губернской канцелярии занял его должность и начал следствие.
Следователь выяснил, что Жолобов «нажил 34 821 руб.», собирая «с народа... лихоимством взятки золотом, серебром и прочим», присваивал часть жалованья казаков, «местных слобод с крестьян учинил на себя сбор, и по книгам явилось в покупке по приказам его, Жолобова, в дом его припасов на 308 руб.». Оказалось, этот преступник-казнокрад отбирал у иркутских дворян «земли и отдавал сам пашенным крестьянам и за то брал с них взятки же».
Сотрудники тайной службы рассуждали так: в Российской империи трудно найти чиновника, губернатора в провинции, не замешанного в мздоимстве (коррупции). И такие высокопоставленные обвиняемые в подвалах Тайной канцелярии, отрицая измену императрице, решались признать свои мелкие по сравнению с этим страшным обвинением личные грешки. Этого оказывалось достаточно для вынесения им смертного приговора за казнокрадство, и не нужно было выбивать и доказывать умысел на измену власти.
Считается, что этот метод придуман тайной службой именно в годы руководства Ушаковым, и срабатывал он наверняка.
Тот же печально известный Алексей Жолобов под пытками твердил: «Воровал, как и все на местах, но императрице не изменял». Теперь уже подследственный надеялся тем спастись, но этим подписал себе смертный приговор. Не помогла ему и попытка затянуть следствие, оговаривая все новых людей, все это все равно печально закончилось и для Жолобова, и для названных им соучастников. Его вина усугублялась поддержкой «верховников», когда его еще не тронули, а также тем, что в момент ареста в Нерчинске вспыльчивый восточносибирский губернатор оказал вооруженное сопротивление и ранил двух арестовывавших его офицеров. Жолобов в итоге был казнен, вместе с ним на Сытной площади Санкт-Петербурга отрубили голову нескольким проходившим по тому же делу о «заговоре Жолобова против верховной власти». В их числе был известный тогда в столице музыкант-песенник Егор Столетов, своеобразный народный бард XVIII века, в его песнях тоже усмотрели политическую крамолу.
В период 1739—1740 годов, уже на закате жизни императрицы Анны Иоанновны, два самых громких политических процесса по делам о государственной измене были проведены Тайной канцелярией. Это были дела семейства Долгоруких и группы кабинет-министра Волынского. И от Долгоруких, и от Волынского с его товарищами Ушаков на следствии, явно по поручению самой императрицы и Бирона, как водится, требовал дачи показаний на Елизавету и ее приближенных.
Расправа с группой бывшего любимца императрицы, известного дипломата и фактически первого министра России при Анне Артемия Волынского, арестованного по доносу в Тайную канцелярию его дворецкого Кубанца о сговоре его хозяина с цесаревной Елизаветой, считается самой позорной страницей правления императрицы Анны и периода бироновщины. Именно с этой эпохой засилья герцога Бирона неразрывно связана фигура князя Ушакова (в годы его активного руководства Тайной канцелярией).
Отдельные историки и романисты именуют эту эпоху еще и «остермановщиной», поскольку Бирон был лишь одним из лидеров этой группы немецких вельмож у трона
Анны Иоанновны наряду с вдохновителем Остерманом, советником царицы Левенвольде, полководцем фельдмаршалом Минихом и другими. В этой придворной группировке состояли кроме немцев и русские по происхождению интриганы, некоторые чиновники членом «бироновской камарильи» числят и самого Ушакова. Но «первый инквизитор» империи здесь скорее исполнитель в руках Бирона, Остермана и других деятелей «немецкой партии», недаром после их падения он станет и для этих немцев на русской службе инквизитором, каким был прежде.
Именно по негласному указанию хитреца Бирона и интригана Остермана тайная служба раздувает политические процессы Волынского и семейства Долгоруких. Таких массовых политических репрессий по масштабным делам об измене Российская империя не помнила с 1718 года, со времен процесса царевича Алексея, суздальских заговорщиков и старорусской оппозиции.
Показания об антиправительственном заговоре группы Артемия Петровича Волынского и Федора Ивановича Соймонова (1682—1780 гг., крупного российского навигатора и гидрографа, исследователя Сибири) подчиненные Ушакова при его личном участии выбивали варварскими методами. Когда фигурантов по этому делу – Волынского, Еропкина и Хрущова – привезли на казнь, у них были перебиты руки и вырваны языки. А чтобы этого не заметили иностранные послы, присутствовавшие при казни, в рот осужденным вставили по деревянному кляпу.
Вот так к процессам по делам истинных заговоров прибавились страницы состряпанных по неочевидным уликам и самооговору под пытками ложные дела. Самые первые прецеденты таких дел в нашей истории встречаются еще в годы стихийного сыска, даже до создания Тайной канцелярии.
Ведомством Ушакова система террора была запущена практически одновременно с началом массовых репрессий в Российской империи, то есть с 1737 года. Сколько до того на Руси было больших городских пожаров, когда целые города с их деревянными строениями выгорали. Но именно московский пожар 1737 года, когда весь центр старой столицы сгорел (по преданию, возгорание случилось из-за забытой в доме нерадивой служанкой свечки), повлек впервые массовый розыск умышленных поджигателей с арестами и применением всего пыточного арсенала. Это был первый прецедент. В мае 1737 года в День Святой Троицы в Москве случился страшный пожар, впоследствии названный Троицким: пострадал Кремль, сгорели дома на Волхонке, Знаменке. Именно во время этого пожара раскололся только что отлитый и еще находившийся в земляной яме Царь-колокол, сгорели и новые Красные ворота.
Многие российские историки сходятся в том, что заговор так называемых конфидентов Волынского все же существовал и они действительно собирались отстранить от трона своих немецких недругов Остермана и Бирона. Реальных доказательств того, что Волынский собирался посадить на российский престол именно Елизавету Петровну (дни Анны Иоанновны после обострения ее болезни почек ко дню казни Волынского летом 1740 года были уже сочтены), в известной нам истории не существует.
За год до этих событий, в 1739 году, Тайная канцелярия расследовала дело семейства Долгоруких, которых обвинили в заговоре по смещению Анны с трона. Долгоруким дорого обошлась их интрига с бывшим молодым императором Петром И, когда они добились при нем положения правящего клана и успели провернуть акцию с помолвкой царя-подростка с представительницей своего клана Екатериной Долгорукой. Когда заразившийся оспой юный император Петр умирал, отчаянная попытка Долгоруких у постели смертельно больного монарха организовать некое завещание в пользу своей невесты дорого обошлась затем всей знаменитой фамилии. Именно это загадочное завещание, якобы подделанное Долгорукими и хранимое ими в тайне, и стало поводом для репрессий против всего клана бывших фаворитов бывшего же царя.
Когда на царство призвали Анну Иоанновну, Долгорукие, опасаясь мести за свое исключительное положение при умершем Петре, продолжали интриговать вокруг загадочного завещания императора. Высказывают даже предположение, что они готовили в 1730 году захват власти силами верных покойному Петру II гвардейских полков, и императрица-авантюристка в нашей истории должна была появиться еще тогда в лице девушки-марионетки Катеньки Долгорукой в руках правящего семейного клана.
Итак, Долгорукие заговорили об упразднении императорской власти, учреждении в России дворянской республики под началом Сената и Верховного совета из числа представителей самых знатных российских родов. Именно эта дискуссия позволила обвинить их несколько лет спустя в замыслах учредить республику, а значит, в планах свержения императрицы и государственного переворота. Хотя и план силового возведения на трон Екатерины Долгорукой, и последующая овладевшая Долгорукими республиканская идея были выбиты из них позднее палачами Тайной канцелярии Ушакова. Если учесть, какими методами в 1739 году Долгоруких и их «сообщников» по этому процессу допрашивали, они могли бы признаться в чем угодно, лишь бы только сократить свои мучения.
Сначала, сразу после прихода в 1730 году Анны на трон, все семейство сослали в сибирский город Тобольск, разбросали по разным отдаленным городкам, но и там не оставили в покое. Подосланные сыщики ведомства Ушакова применили нестандартный прием, втершись братьям Долгоруким в доверие, они напоили одного из них вином и вызвали на откровенный разговор, в котором и получили улики по поводу существования заговора. После этого Ушаков послал в Тобольск для следствия комиссию сотрудников Тайной канцелярии под началом своего брата. Клан Долгоруких был обвинен в утаивании завещания покойного императора Петра II, а также в замыслах в непростой период перед коронацией Анны в 1730 году учредить в стране республиканское правление.
Поэтому, вероятно, дело Долгоруких можно считать первым в России политическим процессом против сторонников республиканского строя (какая республика могла быть в восемнадцатом веке?) и врагов монархии. Для отчаянно легкомысленных заговорщиков, если Долгорукие действительно вынашивали такой замысел, а не оговорили себя под пытками в канцелярии Ушакова, дело кончилось трагедией. В 1739 году начались аресты Долгоруких по всей Сибири, где их разбросали в ссылке, а также их сторонников. Часть Долгоруких, избежавших после опалы в начале 1730-х годов сибирской ссылки, доставлена в Тайную канцелярию из их имений и даже из монастырей. Их всех доставили в Петербург, где после пыток старшие братья были казнены, а их родственники порознь сосланы на окраины империи от Вологды до самой Камчатки.
В Тобольске комиссия во главе с Ушаковым, родственником столичного начальника полиции, и Суворовым, отцом будущего полководца, допрашивала Ивана Долгорукого и пытками довела его до безумия. Он выдал все, что знал, и то, чего не знал, о ложном завещании Петра II, Анна наконец нашла предлог удовлетворить свою ненависть. В начале 1739 года Василий, Сергей и Иван Григорьевичи присоединились к своему брату в Шлиссельбургской крепости... Иван Долгорукий был приговорен к четвертованию и к отсечению головы, Василий, Сергей и Иван Григорьевичи – только к обезглавливанию. 6 ноября, за два дня перед казнью, приговоренных снова пытали, спрашивая об их замысле в 1730 году основать республику.
Преследования по делу «республиканцев» Долгоруких шли почти год по всей Сибири и в столице. По этому же делу привлекли и представителей других громких фамилий из числа «верховников», пытавшихся в 1730 году поставить под сомнение законность коронации Анны Иоанновны.
Одним из арестованных стал известный князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665—1737), идейный лидер «верховников».
Пользовавшийся доверием еще у Петра I, он при Петре II был назначен главой Коммерц-коллегии, отменил ряд государственных монополий и снизил таможенные тарифы. Тогда же он ввел в Верховный тайный совет своего брата Михаила, ставшего главой Военной коллегии. В 1730 году Д.М. Голицын предложил пригласить на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, ограничив ее власть «кондициями» (которые фактически сводили ее роль к представительским функциям). Он сам разработал проект конституции, согласно которому абсолютная монархия в России упразднялась навсегда и страна превращалась в дворянскую республику. Голицынские идеи, безусловно, вызвали неприятие у части российского дворянства и некоторых членов Верховного тайного совета, который был распущен после того, как Анна разорвала «кондиции». Несмотря на то что Голицын возглавлял «конституционную» партию, после упразднения Верховного тайного совета он, в отличие от Долгоруких, не был сослан. Возможно, потому, что инициатива призвания Анны Иоанновны на престол исходила именно от него. Сохраняя звание сенатора, он спокойно жил в подмосковном имении Архангельском, где собрал богатейшую коллекцию (около шести тысяч томов) лучшей европейской литературы. Вскоре, однако, репрессии коснулись его зятя, за заступничество которому семидесятилетний князь в 1736 году был арестован, обвинен в подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер.
К несчастью, тайные агенты к частичной гибели уникальной голицынской библиотеки тоже приложили руки. Когда ищут доказательства заговора, то не думают о сохранении каких-то книжных раритетов Средневековья для потомков. Конфискацией книг из загородного имения Голицына в селе Архангельском под Москвой руководили лично Ушаков и секретарь Тайной канцелярии Топильский. Они искали в груде раритетных книг крамолу, в частности, нашли труды Макиавелли, запрещенного тогда к чтению в Российской империи, и сожгли или украли эти книги.
Без преувеличения можно отметить, что Тайная канцелярия к концу правления Анны стала главным и любимым ее орудием, применяемым при любом гневе императрицы или подозрении даже к самым высокопоставленным людям империи. Стоило, например, бывшему послу России в Лондоне Куракину на пиру во дворце обидеть государыню тем, что осмелился протереть край поданного ему самой императрицей бокала, как она в истерике зовет Ушакова, приказывает арестовать Куракина и начать против него следствие. Заслуженного дипломата в тот момент спас только Бирон, сумевший успокоить императрицу и превратить инцидент в шутку.
По существу, бездумная в жестокости императрица готова использовать свою спецслужбу для кары не за государственное преступление, а за личную обиду, да еще, возможно, и надуманную. И от такого «внимания» службы Ушакова не защищены даже самые знатные люди с бесспорными заслугами в деле служения Российской империи.
Репрессии против менее родовитых людей шли полным ходом, одного доноса и выкрика «Слово и дело» достаточно для начала неправомерного следствия.
Занимаясь поиском источников в российских архивах, мы найдем и массовые казни граждан Смоленска, о которых кто-то донес, что они собрались перейти в католичество.
Здесь же сохранились для историков и упоминания о вознаграждениях добровольным доносчикам. Некий Василий Федоров донес на армейского капитана Кобылина о «произнесении мятежных речей», и капитан после скорого следствия был казнен. Но по документам доносчик, получивший за свои заслуги из имущества казненного только корову и пару гусей, недоволен, он вновь жалуется, указывая на большее вознаграждение доносчикам по таким делам. В 1735 году солдат Иван Седов после следствия в Тайной канцелярии сослан в Сибирь по доносу сослуживцев за то, что сказал в адрес Анны Иоанновны: «Я бы ее камнем пришиб, почему она жалованья солдатам не прибавит?»
Наум Кондратов, также из солдат, в 1737 году попал в Тайную канцелярию и позднее сослан в Сибирь. Он вслух сказал явную глупость, но в плане политической безопасности довольно безобидную: «Было бы у меня много денег, я бы и царскую дочку уломал бы спать со мной». Но известно, что у самой Анны Иоанновны не было не только дочери, но и вообще детей, что не помешало придать самоуверенной фразе простого солдата характер политического преступления против российской власти.
Чиновник Торбеев был сослан в каторгу на Камчатку за то, что говорил в обществе знакомых: «За царицу все решает герцог Бирон». Еще один несчастный – дворцовый певчий Федор Кириллов – в том же году после пыточного следствия в Тайной канцелярии с вырезанным языком был сослан в Оренбург. В частной беседе он сказал знакомым, что царица по ночам ходит на интимные свидания с Бироном специально созданным для этого во дворце потайным ходом. Во всех этих случаях следствие по делам о «крамольных речах» начиналось с доноса кого-то из участников таких опасных бесед о политике или нравах во дворце.
Широкую огласку получил донос тех же лет в Тайную канцелярию, часто приводимый в пример как хрестоматийный, – об изображениях гербового двуглавого орла империи на чьих-то печных изразцах как глумление над святым символом государства. И этот донос тоже повлек за собой арест бедного хозяина «антигосударственной» печки.
Было и «дело священника Решилова», отправленного в Тайную канцелярию с сопроводительной запиской: «Арестован по важному делу, а по какому – неизвестно». Дело о казни сумасшедшего крестьянина из-под Киева, в очередной раз назвавшегося «спасшимся от отца царевичем Алексеем» (с ним в Тайную канцелярию притащили еще десяток мужиков, просто слушавших его сумбурные речи).
Развитая система доносительства по политическим мотивам сопровождает такие взрывы массовых репрессий, и именно тогда доносительство особенно востребовано сыском, и ему же способствует атмосфера страха в обществе. Когда в конце 1730-х годов аннинские репрессии набрали ход, страну просто захлестнул такой вал доносов граждан друг на друга, что он даже начал мешать нормальной работе Тайной канцелярии. Это же могло стать угрозой ее работе и похоронить сыскное дело под кипой нуждавшихся в проверке «изветов», иногда совершенно пустяковых или просто бредовых.
В империи появились санкции за напрасное отвлечение тайного сыска ложными доносами, доносами по маловажным обстоятельствам, бездельными доносами, самооговорами. Вышел специальный императорский указ: губернаторам и воеводам на местах тщательно разбираться с делами по выкрику «Слово и дело», отправляя в столицу в Тайную канцелярию дела и арестованных только по причинам, действительно важным для госбезопасности.
В те же годы правления Анны Иоанновны в начале 1730-х годов доносительство официально «закрепляется» в законодательстве и делается первая попытка его регламентации для нужд тайного сыска. Закон запрещал прекращать наказание виновного, даже если пойманный выкрикивает «Слово и дело», а также устанавливалась одновременно смертная казнь за ложный донос и такая же кара за недонесение по настоящим государственным преступлениям.
В те далекие годы юридическая граница между политическими и уголовными делами еще не была прочерчена, поэтому Тайная канцелярия по системе «Слово и дело» ведет и уголовный розыск по особо важным и крупным делам. В этих же застенках допрашивали таких известных обычных уголовников, как Иван Осипов (Ванька Каин).
Бывший разбойник Ванька-Каин очутился в Москве, явился в Тайную канцелярию и объявил, что он сам вор, знает других воров и разбойников не только в Москве, но и в других городах и предложил свои услуги к поимке преступников. Предложение Ваньки-Каина было с удовольствием принято, ему было присвоено звание доносителя сыскного приказа, а в распоряжение ему дана военная команда. Выдавая и ловя мелких воришек, он укрывал крупных воров. Он, преследуя раскольников, вымогал у них деньги. Иван даже открыл у себя игорный дом, не останавливался и перед открытым грабежом. Вся система сыска была у него на откупе и потворствовала его проделкам. Под покровительством Ваньки-Каина число беглых, воров, мошенников, грабителей и убийц увеличивалось в Москве с каждым днем.