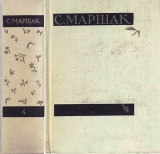
Текст книги "Собрание сочинения в четырех томах. Том четвертый. Статьи и заметки о мастерстве."
Автор книги: Самуил Маршак
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Поговорим о читателе. О нем говорят редко и мало. А между тем читатель – лицо незаменимое. Без него не только наши книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гете, Пушкина – всего лишь немая и мертвая груда бумаги.
Отдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о книгах, но за Читателем в большом, собирательном значении этого слова – и притом на протяжении более или менее продолжительного периода времени – всегда остается последнее слово в оценке литературного произведения.
Правда, оценка книги, утвердившаяся на известный срок, очень часто меняется. Какая-нибудь будка, расположенная вблизи, может заслонить башню, стоящую вдали. Но рано или поздно мы осознаем этот обман зрения и начинаем представлять себе литературные величины в более правильных масштабах.
Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему оценивает дошедшее до него литературное наследство. И если прозаик или поэт сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это объясняется не тем, что они были однажды зачислены в ряды гениев и классиков или увековечены воздвигнутыми в их честь монументами, а тем, что и новые поколения признают их ценными и нужными для жизни.
А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у нас на полке, постепенно и незаметно теряет свое обаяние. Она как бы уничтожается, сливаясь с другими, ей подобными.
Решает судьбу книги живой человек, читатель.
Все струны, которыми владеет автор, находятся в сердцах у читателей. Иных струн у автора нет. И в зависимости от качества игры на этих струнах они отзываются в душах людей то глухо, то звонко, то громко, то тихо.
Об этом не надо забывать, когда мы говорим о языке, о словаре поэта.
Вспомните, как приблизил Лермонтов к сердцу русского читателя стихи Гейне, переведя немецкие слова такими русскими:
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
Тютчевский перевод того же стихотворения Гейне, очень близкий к подлиннику, не вызвал у нас, однако, столь же глубокого отклика и потому не вошел в русскую поэзию наравне с оригинальными стихами.
Слова и сочетания слов связаны в нашем сознании со многим множеством самых сложных ассоциаций и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений.
А это зависит от того, что у самого автора на душе и за душой и насколько он владеет той мощной словесной клавиатурой, которая приводит в движение струны читательских сердец.
И дело тут не только в тонком и основательном знании языка, какое бывает у языковедов.
В поисках наиболее выразительного, единственного, незаменимого слова поэт или прозаик обращается не к одной лишь памяти, как врач, припоминающий латинские названия лекарств.
Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях – не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Нам не придет на память гневное, острое, меткое словцо, пока мы по-настоящему не разгневаемся. Мы не найдем горячих, нежных, ласковых слов, пока не проникнемся подлинной нежностью. Вот почему Маяковский говорит о добыче драгоценного слова «из артезианских людских глубин».
Это отнюдь не значит, что поэту нужны для выражения чувств какие-то необычные, изысканные, вычурные слова.
Найти самое простое и в то же время самое меткое слово подчас гораздо труднее.
Вспомните описание зимнего вечера в чеховском рассказе «Припадок».
«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах – все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег…»
Вот какими обычными, всем и каждому известными словами дает нам ощущение первого снега Чехов. Где же тут словесные «артезианские глубины», о которых говорилось выше?
В лирической сосредоточенности, в скупом и строгом отборе тончайших подробностей, в том ритме, который переносит нас в обстановку зимнего вечернего города.
В сущности, самые простые слова обладают наибольшей силой, если читатель воспринимает их с той свежей непосредственностью, какая свойственна поэтам и детям.
Чехов полушутя противопоставлял всем вычурным описаниям моря простейшее его определение: «Море было большое».
А в народном эпосе «Калевала» заяц, который приносит весть о гибели Айно, говорит ее родным, что девушка «в мокрое упала море».
«Большое море», «мокрое море» – так мог бы выразиться любой ребенок, воспринимающий мир впервые – крупно, сильно и просто.
Взрослый человек может найти более сложные эпитеты для характеристики моря. Но счастлив тот, кому удается сочетать зрелый опыт с таким свежим и непосредственным виденьем мира.
В народном эпосе, в древнегреческой поэзии, в латинской прозе, в надписях на древних памятниках простые глаголы полны движения и силы:
«Пришел, увидел, победил».
А какая сила и вес в строчке лермонтовского стихотворения «Два великана» – в глаголе «упал», поставленном в конце стиха, словно над крутым обрывом:
Ахнул дерзкий – и упал!
Поэт как бы возвращает словам первоначальную свежесть, энергию, полнозвучность – достоинства, которыми они не обладали, покоясь в бездействии на страницах словарей.
В глаголе «хохотать» звучат раскаты громкого смеха – «хо-хо-тать».
Мы давно привыкли к этому смеющемуся слову и, произнося скороговоркой, комкаем его, скрадываем безударные гласные.
А как явственно и сильно зазвучал каждый его слог в пушкинских стихах:
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударив в лоб рукою,
Захохотал.
Кажется, впервые этому слову предоставлен простор, необходимый для полного его звучания. Стихотворный размер заставляет нас ясно и четко произносить все гласные. Неизбежная после предыдущего стиха пауза создает ту тишину, после которой громом прокатывается заключенный в слове хохот – «захохотал».
Наша торопливая, подчас небрежная разговорная речь, которою мы пользуемся в быту для утилитарных целей, часто обесцвечивает и «обеззвучивает» слова, превращая их в служебные термины, в какой-то условный код.
Писатель пользуется теми же общепринятыми словами (хотя словарь его должен быть гораздо шире и богаче разговорного лексикона), но, мастер своего дела, он умеет так поставить слово в ряду других, чтобы оно играло всеми своими красками, звучало неожиданно, веско и ново.
А это удается ему только в том случае, если сам он относится к словам неравнодушно и непривычно, если он не только понимает их значение, но и воображает все то, что вложено в них «языкотворцем» – народом.
Не боясь нарушить правила стилистики, Чехов в своем описании первого снега не один раз повторяет слово «снег», которое и само по себе – без эпитетов – может много сказать читателю. Поэт верит в силу этого простого слова, как верит в него неискушенный в словесном искусстве взрослый человек или ребенок, для которого слова так же ощутимы и весомы, как и самые предметы. Но, конечно, не в одном только слове «снег» сила и обаяние чеховских строчек. В них есть и запах молодого снега, и мягкий хруст его под ногами, и заглушенный снегом стук экипажей, и белизна снега, и прозрачность зимнего воздуха, от которого фонари горят ярче обычного.
Вместе с Чеховым читатель не только видит этот первый «молодой» снег, но и слышит его поскрипыванье, и вдыхает свежий зимний воздух, пахнущий снегом, и, кажется, даже ощущает у себя на ладони холодок тающей снежинки.
Все пять наших чувств отзываются на те простые и в то же время магические слова, которыми так бережно пользуется в этом отрывке Чехов.
Его зимний вечерний пейзаж будит у читателей столько тонких, милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать нечто свое – такое, чего не назвал Чехов.
Читатель перестает быть только читателем. Он становится участником всего, что пережил и перечувствовал поэт.
И, напротив, он остается равнодушен, если автор проделал за него всю работу и так разжевал свой замысел, тему, образы, что не оставил ему места для работы воображения. Читатель тоже должен и хочет работать. Он тоже художник – иначе мы не могли бы разговаривать с ним на языке образов и красок.
Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель.
Но не всякая книга заставляет читателя, даже самого талантливого, работать – думать, чувствовать, догадываться, воображать.
В жизни нас почему-то пленяют, кажутся нам особенно поэтичными отдаленные звуки – далекий крик петуха, дальний лай собак, по которому мы узнаем, что где-то впереди деревня, дальний людской говор на дороге или обрывок песни, доносящийся к нам издалека. Нам интересно увидеть неизвестных людей в лесу у костра, пламя которого выхватывает из полутьмы их отдельные черты. Проходя по улице, мы иной раз не можем устоять против соблазна заглянуть в освещенное окошко, за которым идет какая-то своя, нам неизвестная жизнь.
Нам интересно все, что будит наше поэтическое воображение, умеющее по немногим подробностям воссоздавать целую картину.
Мы бесконечное число раз перечитываем «Тамань», написанную так немногословно, просто и строго, как пишут в прозе только поэты. Но что-то в этом рассказе всегда остается для нас загадочным, недовиденным, недослышанным.
Я имею в виду не какие-то лукавые недомолвки или сугубо тонкие намеки, которыми часто пользуются претенциозные писатели, желающие придать некиим полумраком таинственную многозначительность тому, что при ярком свете показалось бы примитивным и даже плоским.
Нет, речь идет о той сложности и глубине образа, мысли, чувства, при которых добраться до дна не так-то легко.
Что, казалось бы, мудреного в портрете Катюши Масловой, написанном рукою Льва Толстого? Но мы без конца перечитываем страницы, посвященные ей, чтобы понять, разглядеть, что именно в этом образе молоденькой девушки с такими счастливыми, чуть раскосыми, «черными, как мокрая смородина», глазами, а потом женщины-арестантки с бледным подпухшим лицом так поразило и взволновало нас на всю жизнь. Мы только догадываемся и поэтому стараемся прочесть между строк толстовского романа, что происходит в ее душе после трудного и болезненного перелома, как и когда проснулась в ней ее первая, так жестоко растоптанная любовь, примет ли она искупительную жертву Нехлюдова или найдет для себя какой-то другой путь, более трудный и высокий. Все эти вопросы не перестают волновать нас до последних страниц книги. Да и после того, как мы дочитаем ее до конца, для нашего воображения и мысли остается еще много работы.
И оттого, что автор заставляет нас на протяжении всего романа так много чувствовать, думать и воображать, мы не пропускаем в тексте ни одного слова, мы жадно ловим каждое движение действующих лиц, стараясь предугадать повороты их судеб.
По сложным, внутренне логичным, но в то же время не поддающимся расчетливому предвидению законам развиваются судьбы героев в повестях Чехова «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Три года».
А попробуйте заранее угадать, как и куда поведет вас М. Горький в любом из своих рассказов из цикла «По Руси», в «Отшельнике» или в «Рассказе о безответной любви».
Да и в нашем современном искусстве можно найти немало повестей, поэм, кинокартин, которые дают возможность читателю и зрителю быть полноправными участниками той реальности, которую создает художник.
Сложен и противоречив путь Григория Мелехова. Трудно предопределить – несмотря на всю их закономерность – повороты судеб героев «Хождения по мукам». На протяжении всей стихотворной повести, от первой строки до последней, ищет «страну Муравию» Никита Моргунок, и вместе с ним бродит по «тысяче путей и тысяче дорог» читатель, деля с героем поэмы раздумья и тревоги.
Однако и до сих пор еще в нашей беллетристике и поэзии не перевелись «маршрутные» автомобили, которые везут читателя не только к заранее намеченной цели, но и по заранее определенной трассе, не сулящей ничего нового, неожиданного и непредвиденного.
Читателю и его фантазии на такой наезженной дороге делать нечего.
И сам автор в процессе подобного писания вряд ли может найти или открыть что-либо ценное и значительное для себя, для жизни, для искусства. В сущности говоря, такие легкие дороги проходят мимо жизни и мимо искусства.
Читатель получает лишь тот капитал, который вложен в труд автором. Если во время работы не было затрачено ни настоящих мыслей, ни подлинных чувств, ни запаса живых и точных наблюдений, – не будет работать и воображение читателя. Он останется равнодушен, а если и расшевелится на один день, то завтра же забудет свое кратковременное увлечение.
Когда поднимается занавес в театре или раскрывается книга, зритель или читатель искренне расположен верить автору и актеру. Ведь для того-то он и пришел в театр или раскрыл книгу, чтобы верить. И не его вина, если он теряет доверие к спектаклю или книге, а иной раз, по вине спектакля и книги, к театру и литературе.
Зритель готов предаться скептицизму, может потерять доверие к приклеенным бородам и нарисованным лесам, если в считанные минуты спектакля он не занят внутренне, не следит за развитием сюжета, за разрешением жизненной проблемы, если он не взволнован и не заинтересован. Следя за взаимоотношениями действующих лиц, зритель забывает, что они сочиненные, вымышленные. Он плачет над трагической судьбой полюбившихся ему героев, он радуется победе добра и справедливости. Но фальшь, банальность или невыразительность того, что происходит на сцене, сразу же заставляют его насторожиться, превращают актеров в жалких комедиантов, обнажают всю дешевую бутафорию сценической обстановки.
У зрителя не должно оставаться ни секунды времени на сомнения!
Мысли о словахПисатель должен чувствовать возраст каждого слова. Он может свободно пользоваться словами и словечками, недавно и ненадолго вошедшими в нашу устную речь, если умеет отличать эту мелкую разменную монету от слов и оборотов речи, входящих в основной – золотой – фонд языка.
Каждое поколение вносит в словарь свои находки – подлинные или мнимые. Одни слова язык усыновляет, другие отвергает.
Но и в тех словах, которые накрепко вросли в словарь, литератору следует разбираться точно и тонко.
Он должен знать, например, что слово «чувство» гораздо старше, чем слово «настроение», что «беда» более коренное и всенародное слово, чем, скажем, «катастрофа». Он должен уметь улавливать характерные речевые новообразования – и в то же время ценить старинные слова, вышедшие из повседневного обихода, но сохранившие до сих пор свою силу.
Пушкин смолоду воевал с архаистами, писал на них эпиграммы и пародии, но это не мешало ему пользоваться славянизмами, когда это ему было нужно:
…Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны…
Высмеивая ходульную и напыщенную поэзию архаиста графа Хвостова, Пушкин пишет пародию на его оду:
И се – летит предерзко судно
И мещет громы обоюдно…
Се Бейрон, Феба образец… и т. д.
(курсив мой. – С. М.) {2}
Но тем же, давно уже вышедшим из моды торжественным словом «се» Пушкин и сам пользуется в описании Полтавского боя:
И се – равнину оглашая —
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.
Современное слово «вот» («И вот – равнину оглашая») прозвучало бы в этом случае куда слабее и прозаичнее.
Старинные слова, как бы отдохнувшие от повседневного употребления, придают иной раз языку необыкновенную мощь и праздничность.
А иногда – или даже, пожалуй, чаще – поэту может как нельзя более пригодиться слово, выхваченное из живой разговорной речи.
Так, в «Евгении Онегине» автору понадобилось самое простонародное, почти детское восклицание «у!».
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!..
Каждое слово – старое и новое – должно знать в литературе свое место.
Вводя в русские стихи английское слово «vulgar», написанное даже не русскими, а латинскими буквами, Пушкин говорит в скобках:
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести:
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме…
Тонкое, безошибочное ощущение того, где, в каком случае «годятся» те или иные – старые и новые – слова и словесные слои, никогда не изменяло Пушкину.
Это особенно отчетливо видно в его стихотворении «В часы забав иль праздной скуки…».
Тема этих стихов – спор или борьба прихотливой светской лиры и строгой духовной арфы. Но спор здесь идет не только между светской романтической поэзией и поэзией духовной. В стихотворении спорят между собою и два слоя русской речи – современный поэтический язык и древнее церковнославянское красноречие:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
. . . . . . . . . . . .
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
Если первая строфа этих стихов вся целиком пронизана причудливым очарованием свободной лирики, то во вторую уже вторгается иной голос – голос торжественного и сосредоточенного раздумья. Постепенно он берет верх и звучит уже до конца стихотворения.
Таким образом, стихи не только развивают основную тему, но и как бы материально воплощают ее в слове.
Человек нашел слова для всего, что обнаружено им во вселенной. Но этого мало. Он назвал всякое действие и состояние. Он определил словами свойства и качества всего, что его окружает.
Словарь отражает все изменения, происходящие в мире. Он запечатлел опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, развитию техники, науки, искусства. Он может назвать любую вещь и располагает средствами для выражения самых отвлеченных и обобщающих идей и понятий. Более того, в нем таится чудесная возможность обращаться к нашей памяти, воображению, к самым разным ощущениям и чувствам, вызывая в нашем представлении живую реальность. Это и делает его драгоценным материалом для поэта.
Какое же это необъятное и неисчерпаемое море – человеческая речь! И литератору надо знать ее глубины, надо изучать законы, управляющие этой прихотливой и вечно изменчивой стихией.
Поэт, который умеет пользоваться всей энергией слова, накопленной веками, способен волновать и потрясать души простым сочетанием немногих слов.
«Чертог сиял», – говорит Пушкин, и этих двух слов вполне довольно для того, чтобы вы представили себе роскошный пир изнеженной и самовластной восточной царицы.
…А все плащи да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги, —
всего только две строчки, но как передают они суровое и строгое величие двенадцатого года.
Если поэт живет в ладу со своим родным языком, в полной мере чувствует его строение, его истоки, – силы поэта удесятеряются. Слова для него – не застывшие термины, а живые, играющие образы, зримые, внятные, рожденные реальностью и рождающие реальность. Его словарь – оркестр.
И это мы видим не только на примере классиков – создателей нашего поэтического языка.
Какой звучности стиха и меткости изображения достигает наш современник Александр Твардовский в описании будничного зимнего утра на фронте:
…Шумным хлопом рукавичным,
Топотней по целине
Спозаранку день обычный
Начинался на войне.
Чуть вился дымок несмелый,
Оживал костер с трудом,
В закоптелый бак гремела
Из ведра вода со льдом.
Утомленные ночлегом,
Шли бойцы из всех берлог
Греться бегом, мыться снегом,
Снегом жестким, как песок.
Язык отражает глубокое знание жизни и природы, приобретенное человечеством. И не только специальный язык разных профессий – охотников, моряков, рыбаков, плотников, – но и общенародный словарь впитал в себя этот богатый и разнообразный житейский опыт. В живой народной речи запечатлелось так много накопленных за долгие века наблюдений и практических сведений из тех областей знания, которые по-ученому называются агрономией, метеорологией, анатомией и т. д.
Вступая во владение неисчерпаемым наследством своего народа, поэт получает заодно заключенный в слове опыт поколений, умение находить самый краткий и верный путь к изображению действительности.
В одной из глав «Василия Теркина» («Поединок») изображается кулачный бой.
Дерутся герой поэмы, «легкий телом» Теркин, и солдат-фашист, «сытый, бритый, береженый, дармовым добром кормленный».
В этом неравном бою
…Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.
Кажется, невозможно было изобразить более ловко и естественно тот отчаянный, безрасчетный, безоглядный удар, который мог, чего доброго, и в самом деле вынести (не вырвать, а именно «вынести») руку из плеча.
Мы знаем немало литераторов, которые любят щеголять причудливыми простонародными словечками и затейливыми оборотами речи, подслушанными и подхваченными на лету.
Но не этими словесными украшениями определяется качество языка. Такие случайные речевые осколки только засоряют язык. Подлинная народная речь органична, действенна, проникнута правдой наблюдений и чувств.
Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, – с придачей некоторого количества новых, – будут служить многие столетия после нас для выражения еще неизвестных нам идей и мыслей, для создания новых, не поддающихся нашему предвидению поэтических творений.
И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, емкий, умный язык.
В нем самом есть уже все элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и словесная живопись.
Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова – поэзии.
В словах «мороз», «пороша» мы чувствуем зимний хруст. В словах «гром», «гроза» слышим грохот.
В знаменитом тютчевском стихотворении о грозе гремит раскатистое сочетание звуков – «гр». Но в трех случаях из четырех эти аллитерации создал народ («гроза», «гром», «грохочет») и только одну («играя») прибавил Тютчев.
Все, из чего возникла поэзия, заключено в самом языке: и образы, и ритм, и рифма, и аллитерации.
И, пожалуй, самыми гениальными рифмами, которые когда-либо придумал человек, были те, которые у поэтов теперь считаются самыми бедными: одинаковые окончания склонений и спряжений. Это была кристаллизация языка, создававшая его структуру.
Однако немногие из людей, занимающихся поэзией, ценят по-настоящему грамматику.
В обеспеченных семьях дети не считают подарком башмаки, которые у них всегда имеются. Так многие из нас не понимают, какое великое богатство – словарь и грамматика.
Но, тщательно оберегая то и другое, мы не должны относиться к словам с излишней, педантичной придирчивостью. Живой язык изменчив, как изменчива сама жизнь. Правда, быстрее всего стираются и выходят из обращения те разговорно-жаргонные слова и обороты речи, которые можно назвать «медной разменной монетой». Иные же слова и выражения теряют свою образность и силу, превращаясь в привычные термины.
И очень часто омертвению и обеднению языка способствуют, насколько могут, те чересчур строгие ревнители стиля, которые протестуют против всякой словесной игры, против всякого необычного для их слуха оборота речи.
Конечно, местные диалекты не должны вытеснять или портить литературный язык, но те или иные оттенки местных диалектов, которые вы найдете, например, у Гоголя, Некрасова, Лескова, Глеба Успенского, у Горького, Мамина-Сибиряка, Пришвина, придают языку особую прелесть.
Всякая жизнь опирается не только на законы, но и на обычаи. То же относится и к жизни языка. Он подчиняется своим законам и обычаям – то выходит из своего русла, то возвращается в него, меняется, играет и зачастую проявляет своеволие.
Нельзя протестовать, скажем, против установившегося у москвичей обычая не склонять слово «Москва», когда речь идет о Москва-реке. Собственное имя реки, озера или города у нас как бы сливается со словами «озеро», «река», «город». И в этом своеобразное очарование (Пан-озеро – на берегу Пан-озера; Ильмень-озеро – на берегу Ильмень-озера; в Китеж-граде, в Китай-городе).
Чистота языка – не в педантичной его правильности.
Редактор «Отечественных записок» Краевский настойчиво указывал Лермонтову на неправильность выражения «Из пламяи света рожденное слово».
Лермонтов пытался было исправить это место в стихотворении и долго ходил по кабинету редактора, а потом махнул рукой. Пусть, мол, остается, как было: «Из пламя и света»!
И хорошо, что оно так и осталось, как было, хотя, разумеется, счастливая вольность Лермонтова никому не дает права пренебрегать законами языка.
* * *
Живое слово богато и щедро. У него множество оттенков, в то время как у слова-термина всего только один-единственный смысл и никаких оттенков.
В разговорной речи народ подчас выражает какое-нибудь понятие словом, имеющим совсем другое значение, далекое от того, которое требуется по смыслу. Так, например, слова «удирать», «давать стрекача», «улепетывать» часто заменяют слова «бежать», «убегать», хотя в буквальном их значении нет и намека на бег. Но в таких словах гораздо больше бытовой окраски, образности, живости, чем в слове, которое значит только то, что значит.
О живом языке лучше всего сказал Лев Толстой:
«…Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами… Невольное сравнение – отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы – с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее». (Из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету, 1-6 января 1871 г.)








