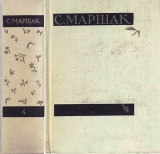
Текст книги "Собрание сочинения в четырех томах. Том четвертый. Статьи и заметки о мастерстве."
Автор книги: Самуил Маршак
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Голос нового века
Юность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века, а этот век с первых же дней показал свои львиные когти.
Во время моего детства и отрочества мы еще не знали (как странно представить себе это сейчас!) ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения.
В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля.
Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет – после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатили первые, еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую, громоздкую конку.
Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюля Верна; со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса.
И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.
То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях.
Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное.
Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами.
Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что в нем таится.
Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду.
– Вы видите перед собой, – заговорил он наконец, – недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, – в том числе и звуки человеческой речи. Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое название «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Соблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем!
От старшеклассников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в исправности», или: «Очевидно, нам придется вернуться к этому опыту в следующий раз!»
Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-но-граф…»
После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша.
Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше, – музыкальные шкатулки были нам знакомы.
А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжествующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон изобрел говорящий аппарат.
_____
Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приблизили нашу уездную глушь к столицам, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе, играя на просторном заводском дворе в города из обломков кирпича и в деревни из щепочек.
Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар.
Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей.
Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и более значительных событий.
Мне было лет семь, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер – да не просто умер, а «в Бóзе почил» – царь Александр Третий.
Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его «чудесном спасении» у станции Бóрки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение.
А вот теперь царь «почил в Бóзе». Я решил, что «Боза» – это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в Бóзе, как видно, ему спастись не удалось.
Года через полтора я услышал новое слово «иллюминация». В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин – Майдана и Лушниковки – прогуливалось в этот вечер вместе с горожанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед – слепой горбун – шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда «ходил на люминацию».
Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то «Ходынке». Страшным это слово казалось оттого, что его произносили вполголоса или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что Ходынка – это Ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы получить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вензелями царя и царицы под короной и гербом.
Неспокойно начиналось новое царствование.
Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известия о том, что в больших городах – в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове – все чаще и чаще «фабричные» бастуют, а студенты бунтуют и что студентов сдают за это в солдаты.
Одни из наших соседей – особенно соседки – жалели студентов, другие говорили, что так им и надо, – пускай, мол, не бунтуют, а учатся!
Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане, да и в городе.
Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера усатый красильщик – тот самый, что зачитывался приложениями к журналу «Родина». Отец говорил, что эта газетка все врет и «скверно пахнет». Я понимал его слова совершенно буквально – может быть, потому, что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом.
Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом, – «Новое время».
И когда я впервые заметил широкие листы «Нового времени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам.
В нашей семье газета появлялась редко – только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он «Неделю», которую называли «Неделей» Гайдебурова. За газетой велись жаркие споры.
Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три года скачи, ни до какого государства не доедешь».
У меня о Франции и французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:
Жил-был во Хранцыи
Король молодой,
Имел жену-красавицу
И двох дочерей.
Одна была красавица,
Что царская дочь,
Другая смуглявица,
Что темная ночь…
Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий да десяток французских имен из тех «рóманов», которыми снабжали меня торговавший в лабазе Мелентьев и сосед-красильщик.
Но все это казалось мне таким далеким – либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции в наши дни, и о людях, в самом деле существующих.
Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную жизнь и запомнился на долгие годы.
Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстергáзи, Клемансо, Лабори, Бернáр Лазáр, Пати де Клам, Эмиль Золя…
Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан Альфред Дрейфус.
Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на Чертов остров.
Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца.
Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове?
В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг.
Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжалования Дрейфуса.
Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги.
Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то – может быть, только потому, что он был офицер, – я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чириковéра, который когда-то лечил нас в Воронеже…
И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на Чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки.
Чертов остров! Само это название как бы говорит о том, что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь.
Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо в газету под названием: «Я обвиняю». Но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме.
Видно, недаром наша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко.
Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.
Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко, высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной тужурке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой – пышноусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках.
Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех концов света – там была даже марка острова Мартиника, – а мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесиках, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы.
Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по целковому, чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки.
Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться,
Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных с виду людей.
Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семевыч пел шутливые украинские песни.
Жалилася попадья,
Що пип з бородою…
Запрягала попадья
Гуси та индыки,
Поихала попадья
У Киив до владыки…
Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке.
Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей – новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий, шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя, которого Егор Данилыч называл по-русски: «Золá». Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Семен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором, в котором слышались и задор и насмешка, то веселая, то злая.
Мой брат и я давно уже считали себя настоящими «дрейфусарами» и сейчас были целиком на стороне Семена Семеныча, но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз, против своего обыкновения, не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая положить конец пререканиям:
– А ну их к шуту, вашего Дрейфýса вместе с Емилем Золой! Вас двоих не переспоришь.
Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова. Но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул:
– А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери – на Чертов остров, и дело с концом!
Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама.
– Довольно вам горячиться, – сказала она спокойно. – Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.
И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало обо всяких пустяках?
Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Егора Данилыча. И когда он наконец собрался домой и протянул мне на прощанье свою большую широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, задыхаясь от волнения:
– Возьмите, пожалуйста… Мне не надо!..
– И мне не надо! – сказал брат и тоже протянул Егору Данилычу свой целковый.
– Это еще почему? – спросил Егор Данилыч и даже слегка покраснел.
– Вы очень нехороший человек, – сказал я. – Вот почему.
А брат только молча кивнул головой. Егор Данилыч криво усмехнулся:
– Эх вы, Емели Зола!
Он положил оба новеньких целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.
Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побранила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые.
Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.
_____
Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке.
Войны, в которых участвовали наши, русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, стороживший арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь.
На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и «белого генерала», но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.
Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры.
Буром был и я, играя в войну сначала на улицах слободки, а потом и на гимназическом дворе.
Происшествия и события
Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимназия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизменным, как издавна установившиеся в ней порядки.
Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали жить по расписанию.
Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или на пароход. Он уже не располагает своим временем, а подчиняется общему распорядку. То же было и с нами. Гимназические уроки чередовались с переменами в точно определенные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за перегонами.
Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимназия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений, какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании вызова к доске или перед письменной работой.
Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.
По сравнению с неприглядным бытом пригородной слободы и уездного города тогдашнего времени гимназия казалась необыкновенно богатой и парадной.
Портреты в золотых рамах, блещущие лаком кафедры, учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в орденах и при шпагах, торжественные молебны и церемонные «акты», на которых выдавались аттестаты зрелости и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался «силами учащихся» концерт, где старшеклассники в праздничных мундирах играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн или «berceuse» [7]7
Колыбельная песня (франц.).
[Закрыть]и декламировали стихи Апухтина, – все это не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто впервые переступал порог гимназии.
Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой обстановке и начинали видеть за показной ее стороной унылые гимназические будни.
Будничным и однообразным было большинство уроков. Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда в них просыпалась страсть охотника, преследующего ускользающую добычу. Так, Павел Иванович из года в год охотился на тех, у кого не было атласа. Да и «немая» карта на стене служила этому зверолову западней, куда попадала чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы, горы, пампасы, джунгли – все то, что так увлекает подростков в книгах о путешествиях, становилось на уроках географии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угодить.
У Степана Григорьевича была своя западня – грамматика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно уже поняли и намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал страницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед, не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую позу и не сводил с Антонова глаз.
В конце кондов в западню попадал сам охотник.
Заядлыми егерями – или, вернее сказать, охотничьими собаками – были и два гимназических надзирателя, которые официально именовались «помощниками классного наставника». Они проводили весь день в коридоре, а в классы заглядывали только во время перемен или на «пустых» уроках.
Один из них – по прозвищу «Самовар» – служил до поступления в гимназию полицейским надзирателем. Но, в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.
Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на катке, если они задерживались на десять минут дольше дозволенного правилами часа, ловил их в театре, если они приходили на спектакль без особого разрешения начальства; на улице требовал от них предъявления «ученического билета», а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как они живут, с кем встречаются и что почитывают.
Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости.
Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:
– А правду ли говорят, будто твой батька получил к праздникам хорошую «пейсахóвку»?
Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан «пейсаховки» (пасхальной водки) всегда ожидал его прихода.
Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Константинович Мигунов, прозванный «Шваброй».
Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как Самовар. А на перемене или на «пустом» уроке мы заблаговременно узнавали о приближении Швабры по его громкому и судорожному кашлю, который был слышен издалека.
Однажды во время «пустого» урока ребятам удалось каким-то образом похитить из учительской классный журнал и пронести его по коридору под самым носом Аркадия Константиновича.
У нас было два классных журнала – большие плоские книги в аккуратных черных переплетах. Переплеты были такие плотные, что их крышки откидывались со стуком. Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном отмечались наши успехи и поведение, в другом – заданные на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было строго запрещено, и только по движению руки учителя опытные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вывел он в графе журнала.
И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Баландина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре, а третий остался сторожить у дверей.
Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхрабрились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже четверки, похожие на те, что ставили учителя. Особенно щедро дарили они хорошие отметки по предметам, которые преподавали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были, например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и «француз» Леонтий Давидович, который никак не мог запомнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи указательного пальца.
Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над поправками в журнале.
Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгновенно исчезал под крышкой кафедры.
Наконец Чердынцев сказал: «Ну, на этот раз хватит!» – и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учительскую, но только после того, как Дьячков объявил, что путь свободен.
В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.
Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш географ, придя в класс на следующий день, откинул крышку журнала и стал пристально вглядываться в страницу, прищурив один глаз.
– Елкин! – сказал он удивленно. – Разве я тебя спрашивал на этой неделе?
Смущенный и перепуганный Елкин не успел встать с места, как за него ответило несколько голосов.
– Спрашивали, Павел Иванович, – сказал Баландин.
– Конечно, спрашивали! – подтвердил Чердынцев.
– И я поставил тройку?
– Откуда ж я знаю, – пробормотал Елкин. – Я же не смотрел в журнал!..
Павел Иванович покрутил головой.
– Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя отметил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти, чтоб они могли переправить двойку на тройку. Первым у меня в списке стоял Елкин… И вдруг – извольте радоваться! – против его фамилии уже стоит троечка.
Елкин неловко поднялся с места и сказал заикаясь:
– Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват! Вы просто забыли…
После урока Елкина потребовали к директору, а на другой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы Елкин-младший отвечал только одно:
– Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?
Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ивановича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват, он бы непременно сознался до того, как получил свою порцию сполна. А «порция», ежели правду сказать, была на этот раз солидная!
На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.
Тем дело и кончилось. Только на всякий случай – в виде предупреждения – весь наш класс оставили «без обеда». Вот и все.
_____
Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины, справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых отчаянных ребят ставили в угол, «под часы», к стенке, оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было напрасно. В классах по-прежнему играли в «тесную бабу» или «жали масло», то есть усаживались по пять, по шесть человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих посередине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый день происходили во время большой перемены жаркие кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сражения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах, которые с полным удовольствием изображали резвых боевых коней.
А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть ли не вся гимназия строила на перемене «слона».
Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взбирались те, кто был еще меньше, и, наконец, на самый верх влезали малыши-приготовишки, почти упиравшиеся головами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и невредимым из такой игры, когда все это огромное живое сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его основу.
Иногда устраивали поединок между двумя «слонами». Это была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участников набивал себе шишку на лбу, в худшем – дело кончалось вывихом, а то и переломом ноги или руки.
Еще более удалые игры и развлечения затевались в гимназии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окончившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве. Это были дюжие добродушные парни, которым некуда было девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешуточные бои – «стенка на стенку», а ночью выворачивали в саду и на улице скамейки и фонари.
Таких «мальчиков» не оставляли без обеда и не ставили «под часы», а вызывали к директору и после двух-трех предупреждений отсылали восвояси.
Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо называл «немцá».
_____
В часы, когда все преподаватели покидали учительскую и, один за другим, шли по длинному коридору в классы, впереди всех несся Густав Густавович Рихман. Высокий, не слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, озабоченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди оба журнала – для отметок и для записи заданных уроков. Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая, закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена. Пуговицы ярко блестели, на вицмудире – ни пылинки. Выражение лица такое, будто он только что проглотил очень вкусную и ароматную конфету.
Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как настроение его мгновенно менялось.
Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а когда Рихман милостивым кивком головы позволял им сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по направлению к учительской кафедре. Густав Густавович подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки двигались. Это было какое-то почти бесшумное, но грозное наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из кармашка жилета с золотыми пуговичками крошечную записную книжечку и говорил:
– На, довольна! Я хорошо знай, кто тут есть глявни машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом он будет беседоваль с господин директор!
– Густав Густавович! Это не мы, это парты сами двигаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..
Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу должен был читать перед началом занятий короткую молитву.
Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторяли два, три, а то и четыре раза подряд.
Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает, молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова других молитв, в том числе и заупокойных.
Рихман терпеливо слушал это странное попурри, стоя перед кафедрой и низко наклонив – из уважения к чужому вероисповеданию – слегка лысеющую голову.
Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить перед немецким уроком целые молебны и панихиды.
Дежурный возглашал дьяконским голосом:
– Паки, паки, миром господу помолимся!
А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхватывали:
– Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!
Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят за нос.
– На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть молитва перед урок!
– Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густавович! – оправдывался самый старший из ребят, второгодник, пытавшийся петь басом. – Вот мы и читаем великопостную!
Но Густав Густавович твердо решил положить конец этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, священника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и, придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из кармана.
– На, теперь читайт ваша молитва. Я буду провериаль каждый слёво!
_____
Что бы ни происходило в городе или в стране, – гимназия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию. Однако по временам и она ощущала какие-то подземные толчки – отзвуки больших событий.








