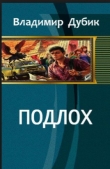Текст книги "Железный бульвар"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
СЧАСТЛИВЫЙ ТИЦИАН
Светлейший князь, превосходительные господа!
С самого детства я, Тициан из Кадора, стремился изучить искусство живописи – не из корысти, а из желания достичь некоторой славы…
Из прошения Совету Десяти, 1513 г.
Благоденствие бессюжетно. Только перемены счастья двигают судьбу. В жизни Тициана, словно во владениях его покровителя – императора Карла V, – солнце не заходит.
Уживчивый гений, удачливый. Благоразумный баловень истории. Обстоятельства расступались перед ним.
В эпоху, когда религиозную истину добывали силой оружия, когда роль человека в мироздании выяснялась на дыбе, – целых сто лет не знать тоски.
В стране, где шла немолчная резня, где свирепость и коварство процветали превыше изящных искусств (да ведь и кровь дешевле краски), – мирно пользоваться почетом, ничего не опасаясь, кроме чумы.
Прожить столько, и на самом виду, и не врезаться в память Европы ни поступком, ни причудой, ни занятным словцом…
Великий художник довольствовался биографией жизнерадостного ремесленника, венецианского купца. Преуспел в оптовой торговле зерном и лесом. Разбогатев, купил дом на Бири Гранде, на северном берегу. Женился, овдовел, выдал замуж дочь. Из сыновей один, как водится, вырос мотом, зато другой унаследовал от отца оборотистость.
Путешествовал Тициан мало, был домосед. Приходили в гости Сансовино, модный ювелир, и знаменитый наемный публицист Аретино. Втроем пировали в саду, любуясь видом на залив. Тянулся праздник, сверкала волна, играла духовая музыка, ломился стол. «Что за мясо едим мы здесь, в Венеции», – восхищался Аретино. И, поглядывая на закат, в сторону разоренной Италии, благодушно кивал Тициан – маклер Немецкого подворья, граф Палатинский, рыцарь Золотой шпоры, любимец тиранов и знатных дам, единственный мастер, не знакомый с усталостью и печалью, счастливый, бессмертный…
Он как будто заранее знал, что предстоит плодотворная старость, и дебют разыгрывал не спеша. Не жалел времени на финансовые операции, на придворные интриги. Ранняя пора не ознаменована великими произведениями. Оттого-то, когда сверстники все умерли, никто не мог припомнить, сколько же Тициану лет.
Но тут была еще причина. Гениальный приятель затмевал молодого Тициана. Вот кто действительно торопился раскрыть свой дар – этот Джорджоне из Кастель-Франко. Одну за другой он писал незабываемые картины – тоже как будто знал, что левантийский бриг, на котором приплывет в Венецию чума, уже спущен на воду.
Джорджоне все давалось легко: живопись, музыка, любовь и слава. Нельзя было не восхищаться им, нельзя не подражать, и Тициан поступил к нему в подручные, и гордился, когда их работы сходством обманывали знатоков. Та же мечтательная прелесть, и безоглядная нагота, и серьезные, взволнованные лица, и вместо сюжета – внезапное сопоставление отрешенных друг от друга фигур и пространств, – как в поэме, которую через несколько лет закончит Лодовико Ариосто.
Но левантийский бриг в 1510 году причалил к набережной Большого канала, у моста Риальто, и Тициан уехал в Падую расписывать стены бедных тамошних церквей, а Джорджоне был влюблен в одну даму и остался, и заразился от нее чумой, «так что в короткое время преставился в возрасте тридцати четырех лет».
Рассказав об этом, тогдашний искусствовед прибавляет: многочисленные друзья Джорджоне «перенесли сей ущерб и сию утрату, утешаясь тем, что после него остались два отличнейших его ученика» – Себастьяно дель Пьомбо и Тициан из Кадора, «который не только сравнялся с Джорджоне, но значительно его превзошел».
Нельзя стать великим художником под гнетом любви к чужому мастерству. И Шекспир сочинил первую свою трагедию не прежде, чем погиб, не дописав свою последнюю, Кристофер Марло.
Умер учитель, ровесник, соперник, предтеча – тогда-то и началась для Тициана другая, вечная молодость, нескончаемый полдень, в лучах которого нам отсюда, через полтысячи лет, не разглядеть обид и неудач.
Тут начинается настоящая судьба Тициана – история его стиля.
Годы уходят на то, чтобы дописать неоконченные картины Джорджоне и забыть о них. Но долго еще Тициан будет решать композицию как сюжетную антитезу («Любовь земная и небесная», «Динарий кесаря»), и редкая из его Венер и Данай осмелится переменить позу, предписанную автором «Отдыха Венеры», и навсегда усвоят портреты этот странный, сосредоточенный взгляд, не видящий вас, но проникающий насквозь, безоружный взгляд человека, уверенного, что он совсем один.
Потом рисунок и цвет потихоньку меняются ролями, и мысль перетекает в краску.
Тициан научился, с головокружительной, неуследимой подробностью варьируя оттенки цвета, передавать этой игрой теплоту, тяжесть, легкость, влажность, шероховатость – насколько вообще способны окружающие тела радовать человека свойствами своих поверхностей.
Одной жизни не хватило бы на это, но Тициан ведь прожил две.
Он дал зрению силу осязать. Этот сплав, этот сдвиг в строе чувств дарует человеку пронзительную вспышку особой явственности сущего. Это созерцание ярче и проникновенней обладания.
Поистине, как пишет один старый итальянец, Спероне Сперони, «Господь сотворил в красках Тициана рай для нашей чувственной жизни».
Никакой сюжет не может выразить столь нестерпимой жажды быть и видеть. Но вполне достаточно – человеческой фигуры, окруженной всею роскошью существования. Можно подумать, что Тициан изображает обнаженных красавиц и пышно разодетых гордых крепышей. На самом деле не наготу он пишет, а соблазн; и не характеры, а чувство тайны, внушаемое настоятельной реальностью чужого «я».
Когда ушли друзья, состарились дети и вообще стало темней, он вдруг заметил, что различие между телами и пустотой – мнимое, так же как нет границ, отделяющих предмет от предмета. Линия и цвет – всего лишь обобщения. Подлинно видимое состоит из мельчайших мазков и переливается в глазах неразличимо разноцветным, текучим, обжигающим, плотным маревом, подобным ореолу над горящей свечой.
Он бродил по дому и, к ужасу учеников, снимал со стен свои картины, чтобы переписать.
Чтобы, например, непременно проступала сквозь краску холстина. Чтобы лица и вещи сияли в плоском воздухе сгустками рукотворческой воли.
Шедеврами последних лет считаются «Тарквиний и Лукреция» (кажется, в Лувре) и эрмитажный «Святой Себастьян», столь похожий на подмалевок. То ли так и придуман, то ли не дала додумать чума.
Отыскала-таки дом на Бири Гранде. В 1576 году.
И черная лодка по реке Братьев доставила Тициана Вечеллио, будто бы 1476 г. р., в его любимую церковь.
Там – в Санта-Мария Глориоза Деи Фрари – он и погребен, создатель картин, в которых жизнь чудесна, как живопись, и человек счастлив, как художник Тициан.
1976
СТРАСТИ ПО РЕМБРАНДТУ
Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они, просто, глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью.
Гоголь
Рембрандт написал сто автопортретов. Провел перед зеркалом больше времени, чем любая красавица мира. По целым суткам и по двое суток вглядывался в свое отражение, гримасничал, на разные лады драпировался в роскошное тряпье, купленное у старьевщика. Изучил игру лицевых мускулов, образующую выражение взгляда. Подробно исследовал, как дрябнет кожа, вбирая порами время; как далеко с теченьем лет отступает правда лица от первоначального божественного рисунка; как сходятся складки, морщины, отеки, прожилки в биографическую тайнопись, – по ним можно угадывать прошлое и будущее, словно по линиям руки.
Современников Рембрандт пишет как родственников – ищет сходства. Эрмитажные портреты пожилых и печальных обитателей XVII века подчеркивают, что человек состоит из времени. Человек – это возраст и взгляд, причем возраст означает не сколько прожито, но – главным образом – сколько осталось. А взгляд говорит, что модель знает свой приговор. (Пожаловаться нечем: вместо рта – щель, как у маски.) Все прочее – причуды костюмера: тюрбан или берет, кружевной воротник, золотая застежка. И больше ничего не разглядеть: лоснятся красноватые потемки, обволакивают фигуру. Как будто люди живут в темноте.
Как будто художник думал, что жизнь не праздник и не подвиг, а скорее похожа на терпеливое блуждание по краю ночи, в зыбких пределах души.
Какое странное, какое ненадежное пространство! Ни клочка неба, ни пяди земли, нет линии горизонта, ни деревца, ни ручейка, ни камня. Иногда проглянет в глубине картины тусклый и небрежный театральный задник – и это все. А перспектива сомнительна, и тела не чувствуют своей тяжести, не уверены в объеме, который занимают, – всё как в зеркале. И человеческие лица сияют из теплой живой тьмы, какую можно увидеть, только закрыв глаза. Она течет и клубится, она прозрачна и бездонна, очень много краски тратится на нее.
Рембрандт пластает световым лучом эту вязкую, безвоздушную среду. Луч падает куда хочет, а откуда – неизвестно; то распылится во мгле, то вдруг ударит прямо в человека. В природе не бывает такого освещения. Невольно подумаешь о ночной страже, о потайном фонаре. Но именно такие пылающие обрывки выхватывает из небытия наша память.
Рембрандт смотрит на человека так, словно видел его во сне и теперь вспоминает. И модель отвечает ему таким же взглядом – в упор, но издалека. Об эрмитажном Иеремии де Декере специалисты прямо полагают, что это портрет посмертный. А Саския в этом нелепом буколическом наряде, с посохом и венком? Как она глядит, робко и прощально, – не на нас, конечно, а на своего обожаемого мастера. Перед картиной Рембрандта зритель вообще довольно часто чувствует себя лишним: смущает явное присутствие автора, это его тут ждут, его ищут глазами, он герой и носитель изображенной реальности. Пример – так называемая «Даная». Что нам делать подле нее?
Господин ван Рейн играет в Тициана. Госпожа ван Рейн старательно, хотя и без блеска, изображает негу и желанье – в неудобной позе, на чересчур роскошном ложе и, кажется, на сквозняке. Наверное, оба слегка потешались над этой затеей, но за шутливой ужимкой страсти был и простодушный порыв похвастать: смотрите, как мы счастливы, и как привлекательна Саския, и как Рембрандт гениален.
Как светится нагота, и сверкает позолота, и женское тело утопает в мягкой рухляди. У этого тела нет тайн от Рембрандта ван Рейна. И он с утонченной нежностью и бессердечным мальчишеским любопытством трогает кистью понятные лишь на ощупь изъяны оплывшей, как свеча, прелести – уязвимой, несовершенной, преходящей, обреченной, единственной. Рембрандт, видимо, любил Саскию.
Но через несколько лет после ее смерти переменил на картине лицо и улыбку, взяв их у другой жены.
И нет больше ни Саскии, ни Хендрикье, картина заперта на ключ, – ищите рентгеном, как звать героиню. Нет здесь больше никого – один Рембрандт.
Он был самовлюбленный мечтатель и легко принимал за вдохновение внезапный каприз. В заказных композициях случалось ему сфальшивить, восполняя недостаток чувства резким сюжетным эффектом.
Игривость Рембрандта угрюма, откровенность – презрительна. Чем сильнее он хочет быть понятым и восхитить, тем надменней отвергает опознавательные шаблоны, так что названия и фабулы многих картин до сих пор неизвестны.
Словом, не то удивительно, что сразу после смерти Рембрандта забыли на двести лет, а то, что при жизни он все-таки нравился и даже был знаменит в своем краснокирпичном Амстердаме.
Возможно, что дальновидные сограждане поняли: этот безответственный господин ван Рейн, собиратель ненужных редкостей, подписывающий свои картины детским, домашним именем, этот художник Рембрандт открыл точку зрения, с которой некрасивое постигается как прекрасное. Им представлялось, что это удачный прием, изысканная манера: диссонансы человеческого лица гармонически уравновешены воображенным фоном, так что хоть и модель нехороша, и портрет верен, а картина блистает красотой. В Амстердаме было много некрасивых, но умных людей. И они заказывали Рембрандту свои портреты.
А он писал бедность человеческого лица сквозь непролитые слезы неотвратимой разлуки, прозревая в нем печать частной судьбы и общей участи. Он окидывал фигуру жарким драгоценным облаком такого пространства, в котором душевное волнение автора материальней, чем телесная оболочка персонажей. Это волнение состоит из нестерпимой жалости к личному, временному, смертному; из страха перед исчезновением и мечты о покое; из памяти обид и надежды на милосердие; и благодарности за томительную радость все это чувствовать.
Всё небрежней контуры, всё безразличней любая определенность; немое ожидание становится сюжетом; времени, оказывается, тоже нет: душа навсегда остается подростком-сиротой, и только одно, только одно событие составляет ее судьбу.
И вот Давид расстается с Ионафаном, и Блудный сын припадает к Отцу. Нам видны вздрагивающие плечи. И утрата, и встреча, и вся жизнь – одно безмолвное объятие, один взгляд в теплой густой вечности, одна любовь.
«С любовью дело обстоит так, – писал сосед Рембрандта, молодой философ Спиноза, – что мы никогда не стремимся избавиться от нее (как от удивления и других страстей) по следующим причинам: 1) так как это невозможно, 2) так как это необходимо, чтобы мы не избавлялись от нее».
1977
ЗАБАВЫ АНТУАНА ВАТТО
И тогда на цыпочках,
тихонько вверх по лестнице
молчаливо в комнату
вошли комедианты:
Arleccino,
Pantaeone,
Il Dottore
и
Colombina,
которые с весьма большой любовью
унесли на своих плечах
одетого в белое клоуна из Бергамо;
а куда – мы не знаем.
Карл II, король Испании, был стар, детей у него не было. По совету приближенных и с благословения папы римского король 2 октября 1700 года подписал завещание, в котором назначил своим наследником французского принца – Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV. В ноябре король умер. Наследство было принято. Политическое равновесие в Европе нарушилось. Весной 1701 года началась война.
Тогда-то, спасаясь от рекрутского набора, долговязый, но слабогрудый Антуан Ватто, семнадцатилетний сын кровельщика, ушел из родного Валансьена, знаменитого своими кружевами и крепостными сооружениями. Позади оставалась мещанская юность, по обеим сторонам дороги догорал XVII век, навстречу брели новобранцы, догоняющие свой полк, скрипели колеса маркитантских повозок. Антуан надеялся, что в Париже сумеет продать свою жизнь дороже, чем на полях Фландрии. Он думал – жизнь вся впереди, а половина была уже прожита. Он шагал налегке, все имущество его составляли рисовальные принадлежности, меланхолия, чахотка, талант.
В столице нового столетия Ватто не затерялся. Совпадение случайностей, похожее на судьбу, вывело его из толпы безвестных мастеровых, доставило заказчиков и друзей.
Мало сказать, что он сделался модным живописцем. Его муза стала любимой камеристкой моды, ее наперсницей и наставницей. Появились прически и шляпки a la Watteau, он расписывал веера и крышки клавикордов. Раскупались нарасхват и его картины, вернее – картинки: эти творения не скрывали своего родства с утварью, не забывали, что они – вещи, что ими можно обладать; они искали благоволения зрителя с такой интимной предупредительностью, какая не снилась гордому искусству Пуссена или Рубенса. Ватто не подписывал и не датировал свои картины и не давал им названий. К чему? Разве менуэт или парик нуждается в имени? Он должен нравиться – вот и все. И молодой провинциал мастерил одну за другой композиции, мелодичные, как бой каминных часов; изящный жест запирал каждую из них, как шкатулку; взоры, встречаясь и расходясь, держали пространство, мнимое и глубокое, словно в зеркале. В этих картинках салон мечтал о саде, и платья атласного шелка не боялись травы. Под сенью рощ дамы и кавалеры играли невинно-пикантную пантомиму, плыл – с приличной игривостью – бесконечный куртуазный сюжет: любое прикосновение открывает новую главу; приглашение к танцу – событие; в мановении руки – намек… Нарядные человечки не притворялись всамделишными, жили тихо, как будто в натюрморте. Хлопотали порознь кто о чем, но все вместе выражали состояние покоя.
Все это называлось – галантные празднества. И Ватто написал их много. Цену за них он спрашивал низкую; на него находили припадки ярости, и тогда он свои работы с мстительным наслаждением уничтожал. Ватто, хоть и не получил образования, к живописи относился серьезно. Он слегка презирал эти роскошные безделушки, хотя они были красивы и кормили его и восхищали меценатов. Ватто, по-видимому, не замечал, что нелюбимые дети все-таки похожи на него, что, машинально тасуя легкомысленных персонажей, он невольно выдавал свои заветные мысли.
Можно сказать, что есть два наклонения мечты: желательное и условное. Один строит воздушные замки, другой – карточные домики. Праздники Ватто – игра, забава, меланхолическая и монотонная, как пасьянс.
Вот как наставлял Ватто своего ученика: «Он посоветовал Лайкре отправиться в окрестности Парижа и нарисовать несколько пейзажей, затем нарисовать несколько фигур и из этих зарисовок скомпоновать картину по собственному воображению и выбору». Так он и сам поступал. Он рисовал с натуры каждое утро. Сочинение картины состояло в том, чтобы выбрать из альбома разные моменты разных жизней и склеить их на полотне. Не меняя ни позы, ни жеста, одни и те же фигурки порхают с холста на холст, из пейзажа в пейзаж, из одной компании в другую. Эти господа держатся непринужденно, однако не умеют уверить нас, будто их трогает веселая суета ситуации. Каждый живет в глубине своего мгновения, чуждого окружающему. Выдает их главным образом взгляд: и друг на друга, и на зрителя они смотрят внимательно и печально. Так, узнавая, вникают в собственное отражение. И зрителю передается случайность и эфемерность существования этих условных любовников и мнимых счастливцев; заводные игрушки, нарядная мошкара – вот что такое люди; и Ватто с сострадательным пренебрежением подчиняет их своей прихоти, заставляет обниматься и плясать. Подражая провидению, он утешал свою гордость.
Так он жил, играя в чет и нечет чужими, воображаемыми радостями. Это скоро приелось, как и восторги знатоков. Ватто скучал, презирая себя и других, мечтал уехать куда-нибудь – хоть в Валансьен, если нельзя в Италию. «Единственными его недостатками, – говорит мемуарист, – были равнодушие да еще любовь к переменам».
В гуще города Парижа он вел жизнь одинокую и скромную, чуждый кипевшему вокруг роскошному разврату Регентства.
«Но свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени… Алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.
…Образованность и потребность веселиться сблизила все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию» (Пушкин. «Арап Петра Великого»).
В 1716 году из двадцатилетнего изгнания вернулась в Париж итальянская труппа и стала давать спектакли в Бургундском отеле. Ватто влюбился в комедию дель арте. Она говорила, что мир полой ряженых; чтобы разгадать людей, надо их переодеть; чтобы сыграть жизнь, довольно дюжины масок. Чем тверже маска, тем беззащитней лицо. Ватто узнал себя в неловком и простодушном Пьеро. Современники вдруг увиделись ему распавшейся труппой комедиантов, способной представить в лицах его тоску, и страх, и нежность. В ту пору Ватто переживал кризис. Одиночество сломалось. Люди выросли в глазах Ватто, и он поверил в реальность их существования. Он понял, что можно писать портреты знакомых, как свою предсмертную исповедь, и создал несколько пронзительных шедевров. Но было уже поздно. Если верить легенде, Ватто умер с кистью в руке.
В Эрмитаже зябнут несколько картин Ватто. Вот одна из них. В парке с прозрачной листвой сидит на прямоугольной каменной плите молодая дама в черном платье и с черным бантом в рыжеватых волосах. Правой рукой дама присобрала подол. От этого по платью идут очень красиво написанные волны складок. На кавалера дама не глядит, сидит к нему спиной, только голову повернула, чтобы показать, что слушает. А он полулежит, опираясь локтем на ту же каменную плиту. Мне сдается, что позу эту он сохраняет не без труда: вес тела приходится на локоть, а сложения кавалер плотного. Он, разумеется, в камзоле, на нем берет со страусовым пером. И, разумеется, он смотрит на нее. О выражении лиц можно без натяжки сказать только одно: кавалер улыбается, а дама – нет.
Изящная модная картинка, справедливо замечает исследователь. Простое сопоставление фигур, связанных условной ситуацией. Этого самого кавалера в той же позе легко узнать на другой картине Ватто – «Праздник любви» (в Дрезденской галерее).
Да, простое, еле слышное созвучие, прямоугольный – 42 на 34 сантиметра – вымысел, окно внезапной тишины: время не остановилось, его просто нет. Композиция такая незначительная, что кажется таинственной.
Можно ли усмотреть здесь хотя бы проблеск сюжета? Только если придать черному платью значение траурного. Тогда перед нами – молодая вдова и соблазнитель, а мраморная плита на окраине парка вводит кладбищенский мотив. Тогда это даже не простой сюжет, а знаменитый… Не могу удержаться и приведу перечень реквизита, необходимого для старинной пьесы «Каменный гость» в комедии дель арте: «Старая шпага для Полличинеллы; фонарь; два сачка для ловли рыбы; две корзины; плащ; свежая рыба; пучок редьки; метла; палки, чтобы бить; список для Полличинеллы; траурное платье для донны Анны; письмо; два кресла; труба; два подсвечника с зажженными свечами; лютня; барабан и другие музыкальные инструменты; приспособления для полета; люк; надпись для статуи; буфет и роскошные приборы для ужина; шкафчик со всеми необходимыми принадлежностями; предметы для еды и питья, все черное, траурное…» и т. д.
И не подумаю настаивать на этом сближении. Разве что краешком мысли Ватто допускал тень такой реминисценции в свою картину. Да ведь и не в сюжете дело. Есть небо, листва, шелк, есть гармония цвета. И то, что люди так бесконечно разобщены, точно куклы, забытые в саду детьми, обогащает содержание оттенком нереальности и щемящей загадки. Вот и все.
Художник Мерсье назвал свою гравюру с этой картины «La Boudeuse». Глагол bouder означает «дуться», «сердиться», «надувать губы», «с досады отказываться от чего-либо». Стало быть, наша «Капризница» вполне может именоваться и «Недотрогой» или еще как-нибудь. Какая разница? Картина Ватто даже и самого рассудительного зрителя соблазняет поиграть в нее, принять в ней участие, наделить ролями, характерами, речами – бубновую даму и валета треф…
Роковая комедия игрушечной плоти. Рококо.
Вскоре после смерти Ватто краски на его полотнах померкли. Так сбегает улыбка с лица. Какими-то правилами ремесла пренебрегал, говорят, живописец. Сквозь масло и лак проступила печаль.
Это тайна судьбы проступает сквозь тайну стиля.
1975