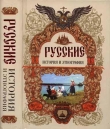Текст книги "Камень Солнца. Рассказы этнографа"
Автор книги: Рудоль Итс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
«Тебе просто хотелось думать так, – укорял он себя, – ты давно уговорил себя. Что же, получай свою краску, но не черную, а голубую, лазурную, как пишет тот же монах».
Эх, если бы узнать правду у очевидцев победных церемоний или хотя бы у их потомков! Побродить по горным селениям Гватемалы. Здесь люди помнят свою далекую историю; здесь звучат то переливчатые, как ручьи, то мощные, как гул водопада, песни предков; здесь сохранились древние обычаи, и, присутствуя на церемониальном празднике, ты переносишься на много веков назад. Невозможное становится возможным.
Но как далеко от берегов Невы, где висит фреска Бонампака, до берегов Усумасинта, где звучат песни потомков майя!
* * *
Приглашение на концерт мексиканских и гватемальских студентов оказалось очень кстати.
Концерт проходил на небольшой сцене Дома ученых.
Кузнецов за кулисами видел все, что происходит за сценой, рассматривал национальные костюмы, достал бумагу, чтобы сделать зарисовки. Студенты готовились к выступлению не как артисты-профессионалы, а как участники подлинных народных представлений. Второе отделение было посвящено старинным индейским танцам и песням.
– А кто ставил эти танцы? – задал вопрос Кузнецов.
– Это все наш маленький Артуро, – ответили ему. – Вон тот, совсем смуглый. Он очень гордится тем, что только его деревня сохранила память о танцах воинов древних времен...
Артуро, кончив петь, вихрем ворвался за кулисы.
– Хосе, ты не брал черную краску? – крикнул он.
Хосе подбежал к столу. Кузнецов смотрел на юношей,
искавших краску... Краску!
– Артуро, Хосе, зачем вам черная краска? – Он стоял перед ними, не понимая, что говорит слишком громко для кулис, почти кричит. – Зачем черная краска? Для танца воинов?!
Артуро схватил его за руку и оттащил в дальний угол. Приложив палец к губам, он зашептал:
– Я буду изображать вождя победителей. Только в нашей деревне умеют танцевать древний танец победы. Старики говорят, что в древности воины на церемонии в честь победы красились в черный цвет. Черный Чака – западный – побеждает даже солнце. Поэтому воин победы – черный воин. Мы сейчас танцуем танец победителей. Я их вождь, я должен быть черным.
Черный цвет – цвет воина победы. Не эфиопы или какие-нибудь другие скитальцы из Африки, а индейцы создали цивилизацию Центральной Америки, равную цивилизации античного мира Средиземноморья...
В зале погас свет, тихо зазвучали гитары и барабаны. Луч прожектора упал на сцену и осветил Артуро, вымазанного черной краской, с накинутой на плечи шкурой ягуара...
СОСНОВЫЙ ЛОБ

«Старое стойбище», «Старая застройка», «Сосновый лоб» – по-разному называли высокий выступ гряды холмов наволочной стороны Енисея сургутинские, пакулихинские кеты и дальние их соплеменники на севере – у берегов Курейки, на юге – у Подкаменной Тунгуски.
В половодье столетние сосны свысока смотрят на верхушки затопленных берез, елей и горделивых кедров, вынужденных ютиться у подножия лба. Сосны, как солдаты, захватившие господствующую вершину, удерживают свои позиции, и только исполинская, в три обхвата, лиственница допущена ими на открытую поляну у самого края. Этот край обращен к далекому восточному берегу Енисея.
Лоб обширен, и, как всегда в сосновом бору, деревья не липнут друг к другу, а щедро делятся землей, питающей корни, и лучами солнца, насыщающими хвою крон. Здесь просторно и чисто.
В жаркий полдень летом в мягком плотном ковре опавшей за столетия хвои глохнет шум шагов. Разросшиеся вершины создают тенистый шатер. Пожалуй, и в сильный дождь редкая капля падает на землю. Здесь всегда сухо.
Зимой, когда снег по низким местам наваливает огромные сугробы, на лбу малоснежно и легко развернуть оленью упряжку меж деревьев.
Западный склон лба более пологий. Тут сосны, сбежавшие вниз, задерживаются перед небольшим, но глубоким и прозрачным озером.
В озере много рыбы: сиг, пелядь, чир, окунь и щука. Иногда по неширокой извилистой Мамонтовой речке, вытекающей из озера и впадающей в приток Енисея, заходят осетры. У толстой лиственницы в самый большой мороз не замерзает родник.
Вода, рыба, незатопляемая в половодье земля, сосны – где этот обетованный край, названный Старым стойбищем?
Тот, кто говорит нам о Старом стойбище, машет то на север, то на юг. Рассказ о нем мы слышали на многих кочевьях. Он похож на легенду, повторенную, как эхо, рассказчиками из разных мест.
Думаешь, окажись рядом со стойбищем и сразу узнаешь его. Но наша экспедиция еще не видела этот край, где все нужное таежному охотнику и рыболову совместила природа.
Люди двести, триста лет подряд из поколения в поколение, ценя редкий дар природы, селились там.
И вдруг они покинули лоб. Не только покинули, но навсегда увели вдаль от него тропы и дороги. Неужто поглупели люди, что перебрались в места, где нет такого изобилия рыбы, где надо спасать жилье от воды, а зимой рубить просеку для оленьих упряжек?
Никто не отвечает на эти вопросы. Что же там сейчас? Рассказчики с еле уловимым сожалением возвращаются к давним дням: «Прежде людей там много жило. Утром новую парку, что мехом наружу, надеваешь, а к вечеру нет меха, одна ровдуга осталась. О людей мех вытер. Вот сколько народу было. Теперь там гагары и орлы из дерева, много, сильно много. Они всюду, под каждой сосной, пожалуй, шаманов хоронили! Правда, не на самом стойбище, рядом.
А вот лет двадцать пять назад большого шамана Сенебата с Печальки там зарыли».
Шаман с Печальки... Пожалуй, только старики знали его настоящее имя, ну а те, кто помоложе, называли шамана его вторым именем – Сенебат (что значит – «Старик шаман»).
Сильным шаманом был Сенебат. Казалось, ничто не может сокрушить его силу. Здесь долгое время его слово было законом, его поступкам подражали, его объяснениям всего, что казалось неясным, загадочным, верили беспрекословно.
Сенебат со своим могуществом был прошлым этого маленького народа, обреченного царскими сатрапами на вымирание. В этом прошлом – вечные спутники кета-охотника и рыболова: невежество, голод, болезни и постоянный страх перед неведомыми явлениями природы. Короткие парки из оленьей шкуры, надетые на голое тело, не могли согреть охотника, застрявшего в зимней ночной тайге. Не грел его и костер, чадивший посреди чума. А много ли могли помочь больному песнопения шамана, склонившегося у изголовья?
Проходили годы, десятилетия, столетия. Мать рожала ребенка, но не видела, как он начинал ходить. Дети умирали от чахотки. Постоянно холодно было в чуме, поставленном прямо на снегу и защищенном от злых сибирских метелей лишь тонкой берестяной покрышкой. Всегда сырой была одежда.
От мучительной, беспросветной жизни люди искали забвения в шаманских песнях, призывных звуках бубна, неистовом шаманском танце. Люди боялись шаманов.
Сенебат был силой и властью прошлого. Он стоял между своими людьми и пришельцами, несущими новую жизнь в затерянные таежные стойбища.
Чтобы пойти против шамана, нужно было обладать мужеством. Наш старый знакомый Дагай, смелый, удачливый охотник, много лет назад юношей, совсем еще мальчишкой, восстал против шамана, против старого света. Он первым поставил свой чум у красной фактории, отвез больного отца к настоящему доктору, а младших братьев отвел в школу. Бессильный остановить новое, Сенебат ушел из жизни.
Шаман умер четверть века назад. Сколько же отмерило время с тех пор, сколько изменило! Новые дома, поселки, современное оружие. Изменились люди. Кеты овладели специальностями пилота, радиста, моториста. Кеты-охотники получили семилетнее, а то и десятилетнее образование. Среди них солдаты, прошедшие войну, кавалеры орденов и медалей!
Почему же люди не возвращаются на Сосновый лоб? Вновь задаем вопрос. И снова недоуменно пожимают плечами: «А кто знает? Разное говорят...»
– Что говорят? – пытаемся расшевелить рассказчика, но он невозмутимо берет кружку с черным, как смола, чаем и в лучшем случае повторяет: «Разное говорят...» Разговор исчерпан.
Так повторяется и на южных станках у Подкаменной Тунгуски, и на Елогуе, и в Пакулихе, и на севере, на берегах Курейки.
Сосновый лоб, первоначально отмеченный в наших записях как одно из мест древнего поселения, постепенно отвоевывает страницы, захватывает внимание, мешает сосредоточиться на чем-то ином.
Должна же быть какая-то логика, какой-то смысл в том, что заставило людей покинуть Старое стойбище?
Страх! Именно Дагай первым произнес это слово.
Он стоит рослый, плечистый. Черные, с еле заметной сединой жесткие волосы зачесаны назад, его худое длинное лицо с выступающим орлиным носом, с резко очерченными скулами и подбородком кажется точеным. Он отрывисто бросает:
– Наши люди боятся.
Дагай удивленно смотрит на наши разочарованные лица. Мы ждали какого-то иного – более материального, что ли, объяснения.
– Страх, – повторяет Дагай, – перед шаманскими душами. Стариков страх преследует: молодые той дороги не знают...
Было время – умирал человек, и его родичи, не понимая, что произошло, долго ждали пробуждения. Смерть считали сном, но только слишком затянувшимся, и орда бросала мертвеца, ей нужно идти дальше. Никто не плакал, никто не боялся «уснувшего». Древние не осознавали еще тяжести утраты.
«Уснувший» продолжал жить, но где-то в другом месте, и заботливые руки оставляли около него еду на первый случай, оружие и орудия труда, чтобы он смог добыть себе пищу. Люди не боялись мертвых.
Призрак смерти, страх перед мертвецами появился тогда, когда древние люди стали объяснять непонятные события злыми и добрыми поступками мертвых.
По их представлениям, «уснувший» – мертвый человек – чаще всего приносил зло. И появляется культ умерших предков. Живые приносят им жертвы, спешат умилостивить их, просят защиты, но не надеются на то, что мертвец останется доволен своей участью. Они роют глубокие могилы, заваливают их после погребения камнями, сколачивают гробы из толстых досок, кладут каменные плиты, мертвеца связывают по рукам и ногам – теперь он никогда не выйдет к живым!
Живые понимают разницу между жизнью и смертью и начинают бояться смерти. Сны нет-нет да и «воскрешают» умерших. Но как мог (из такой глубокой ямы!) явиться умерший? Древние не могут объяснить этого. В жизнь человека вторгаются духи и души, вползает суеверие.
Жутко на шаманском кладбище в тайге. Чем могущественнее был шаман, тем больше деревянных гагар и орлов над могилой, а кругом тайга с голосами кричащих и плачущих ночных птиц, с сердитым урчанием ручьев и рек на перекатах, с тяжелым дыханием леса под порывами ветра.
...Мы ждем продолжения, а Дагай вопросительно смотрит на нас. Не в обычае кетов говорить больше того, что тебя спрашивают. Я задаю вопрос:
– Кто разрешил устроить кладбище на месте жилья? Ведь такое не в обычаях вашего народа?
– Сенебат не только большой шаман был, умный, хитрый враг был. Раньше других понял – конец его власти пришел. Смертью своей мстить захотел. Наш обычай – шаманов хоронить там, где Сосновый лоб. Прежде, очень давно, там всегда хоронили, но не на самом стойбище, а за ручьем. Сенебат на земле стойбища велел себя хоронить.
Дагай внимательно посмотрел на нас, задумался и продолжал:
– Много лет после гибели шамана прошло. Никто из наших людей той дорогой через Сосновый лоб не ходил: никто из нас сети в озеро, где рыба косяками плавала, не кидал; на соснах каждый год шишки появлялись, лишь проходная белка там зимовала.
Много лет там, на снегу, только легкие следы белки да боровой птицы были – никто не прокладывал широкую охотничью лыжню. Никто. Там духи шаманов жили – «злых шаманов», как говорили пугливые люди. Недаром двухметровую яму шаманам роют и толстые плахи – половину кедрового ствола – сверх колоды с покойником кладут.
У нас кладбище своих родичей не принято посещать. После похорон последний, идущий по тропе, не оглядываясь, поперек тонкий прут бросает и приговаривает: «Чтобы нам никогда этой дорогой не ходить».
Люди хоронят близких и не возвращаются к их могилам. Родные сами к живым придут – в обличии медведя придут. Наш обычай такой, и мы на свои кладбища не ходим, особенно на кладбище шаманов – злых шаманов.
Дагай медленно отвел упавшую на глаза седую прядь волос.
– Был случай до войны еще. Охотник Чуй пошел белковать на Сосновый лоб. Много белки там добыл. Много больше других охотников. Но умер по дороге на факторию. Все согласны были, он от болезни умер. Давно он болел. И все знали об этом. Но по чумам ходили старики, нашептывали: «Зря на лоб ходил, Сенебат его задрал».
«Чуй зря пошел. Мы не ходим, где мертвые!» – так многие говорили.
Я над ними посмеялся и сказал: «Летом избу, которую для нас русские поставили, подправлю и зимой на лбу жить буду». Парни моих лет сказали: «Вместе пойдем!»
Летом мы вместе пошли, далеко пошли – на войну.
Молодые на фронте, на стойбищах старики и бабы остались. Старики боялись, они в шаманов и духов еще верили. Железные печи прогорели, новых никто не делал – война. Как прежде, в чумах костры стали разводить. Прошлое вновь над людьми нависло, и кто-то вновь начал шаманить.
Нас, фронтовиков, мало было, но мы другими людьми стали, столько всего увидали, сколько старики и древние шаманы не видели. Никто не посмел шаманить, когда мы вернулись. Но в эти годы страх перед лбом держался. Никто туда не ходил.
И тут Паша Зуев – хозяин избы, в которой мы остановились, – не удержался:
– А ты? Ты не боишься? Переночуй там, чего по другим местам шатаешься!
Дагай нехотя ответил:
– И ночевал бы, да могила матери рядом. Мы на свои кладбища не ходим.
Дагай медленно поднялся. Паша остановил его:
– Причем здесь мать? Не обижайся. Я ваш обычай знаю, но ты ведь бойкий человек. Старовера Терентия с Имбака знаешь?
– Что же, знаю. Его небылицу о лбе расскажешь? – усмехнулся Дагай.
– И расскажу, – запальчиво ответил Паша и, обращаясь к нам, продолжал: – Как-то осенью Терентий очутился около лба. Поднялась метель. Он ехал на собаках. Разыскал уцелевшую избушку, там думал переждать метель. Ночь наступила быстро. Окна были без стекол тогда. Скрипели половицы.
Устроился Терентий в маленькой комнате, отгороженной тонкими досками от большой. После полуночи скрипнула половица. "Наверное, собака", – подумал он. Затем кто-то затопал. Он вздрогнул, смотрит – все собаки около него, шерсть дыбом. За стеною голоса, звон подвесок – шаманы пришли...
Паша рассказывает, а я представляю себе, что может показаться человеку во вьюжную ночь, когда с пронзительным скрипом трутся ветви деревьев, дрожат стены ветхой избенки, а сквозь плохо прикрытую дверь порывисто дует ветер. В безветренную погоду тайга не бывает молчаливой: где-то вскрикнет птица, где-то треснет сучок, упадет шишка, зашуршат листья. Сколько же голосов добавляет тайге ветер! И как многоголоса она в метель!
Голос у Паши дрожит, переходит в шепот, а глаза совсем пропали, только изредка испуганно вытаращатся и спрячутся под веки.
– Терентий крикнул. За стенкой: "Ук-ук, ха-ха!" И громче подвески дзинькают. Шаги к его комнате приближаются. Терентий вскочил и, не оглядываясь, бросился прочь из дому. Собаки за ним. С трудом запряг собак и в ночь, в метель, подальше от лба. Тридцать километров проехал, прежде чем на людей наткнулся. Заскочил к кому-то в чум, всех перепугал. Отдышался и все рассказал людям.
Паша замолчал. Я ловлю себя на том, что чему-то удивлялся во время рассказа. Удивляла искренность. Паша верил, что говорит правду. Неужели даже он верит всей этой чертовщине?
– Дагай, ты слышал такой рассказ? – спрашиваю я.
Дагай мрачно смотрит на Пашу и, толкнув дверь, роняет:
– Слышал, но не верю. Такого не было. Павел тоже боится. Я всем говорил. Страх Сосновый лоб прячет.
Стукнула дверь. Обиженный хозяин кричит вслед:
– Ты знаешь туда дорогу да Терентий!
Выясняется одно: на лоб никто не ходит.
Кому-то надо идти туда, надо вернуть его людям.
Надо идти нам!
Четвертый полевой сезон наша экспедиция работает в Туруханском районе, раскинувшемся на многие сотни километров по Енисею, по его притокам.
Мы изучаем культуру и быт кетов – небольшого народа, который издавна населяет этот край. Никогда у этого народа не было письменности. Никто еще не составил его истории. Никто еще даже не знает, откуда он появился в этих местах. Если сейчас не установить каких-то фактов истории, они просто ускользнут.
Новая жизнь здесь в корне изменила вековой быт. Радио, газеты, самолеты – сегодня такие же привычные вещи, как парка или нарты.
На станках – так называют здесь селения, разбросанные по енисейским берегам (через тридцать-сорок километров делали первые русские поселенцы и кандальные ссыльные остановку – стан, и на месте этих станов выросли большие и маленькие поселки – станки), – обычная летняя жизнь. С утра колхозники ездят проверять сети. У каждого рыбака свое привычное место. Прежде такие места были у каждой кетской семьи, их наследовали дети. Сейчас по традиции сохранились названия самых удачных мест лова.
В тридцати километрах от станка вверх по реке Сургутихе – такое место у Дагая.
На большой лодке Дагай привозит свой улов, ему помогает рыбачить сын Токуле.
Юного Токуле мы не видели, он все лето жил на угодье, в шалаше из гнутых прутьев, покрытых берестой. Вообще сейчас в поселке мало народа. Из колхозных рыбаков двое – Павел и Дагай, остальные с семьями ушли на Енисей неводить селедку, осетров и стерлядь. Шла путина.
Наш отряд здесь оказался случайно. Завершив часть маршрута и выйдя со стойбищ, мы ждали катера. Скоро катер должен прийти. Нас ничто не может задержать.
А как Сосновый лоб? Видно, самые разумные планы должны полететь к черту...
Нас в отряде пятеро. Пять разных характеров. Люба Быкова – начальник отряда, самый большой специалист по истории и этнографии кетов. Она никогда не раздражается, если я или кто-нибудь другой что-либо делаем не так. Чаще всего она переделывает сама, если еще что-то можно переделать. Сергей Дремов держался степенно: он был нашим главным и единственным антропологом. И я и Люба были виноваты в том, что Сергей оказался здесь. Мы убедили его, что открытие первой серии древних кетских черепов – достойный вклад в науку. Пока такого открытия не произошло, и Сергея раздражала наша задержка на станке. Всегда спокоен и бодр был самый молодой член экспедиции художник Саша Козлов. Четвертым членом отряда была переводчица Клава Хозова – культработник из Келлога, самого большого кетского поселения. Она умела удивительно искусно строить наш таежный быт. Пятым участником отряда был я.
Хотя каждый делал вид, что занят чем-то своим, все думали об одном – о Сосновом лбе. Но никто не заговаривал о нем.
– Так, – начал Сергей, – собирать материалы на Подкаменной будет дядя?
– Что ты предлагаешь? – подзадорила его Люба.
– Я просто уточняю ситуацию: конец лета – раз, несколько недель и конец навигации – два, а планы...
Тут я перебил его:
– Перестань! Планы? Никто не предлагает торчать на лбу месяц. Найдем его, переночуем две-три ночи. Для дела хватит.
– Найдем, вот именно. Шутник! Иглу в стоге сена ищи. Найти лоб в тайге? Где он?
– Проводника возьмем. Дагая уговорим.
– Чудак! Слышал, что сказал твой Дагай? Мать там! Не найдем проводника, а без него идти глупо.
– Что ты предлагаешь? – повторила Люба.
– Что он предлагает? Он ведь так... вообще! – выкрикнул из угла Саша.
– Да, я вообще! Нужно брать антропологический материал на Подкаменной или нет?
Сергей чуть не добавил: зачем же тогда он ехал? Люба опередила меня:
– Конечно, нужно. Давайте разделимся. Сергей с переводчиком едут на Подкаменную, а мы найдем лоб и догоним вас. Возьмите с собой Сашу.
– Нет уж! – заявил Саша. – Мне, как художнику, тут интереснее.
Прения оборвались. Сергей, обидевшись, вышел и сел на порог дома. В слаженном механизме что-то расстроилось. Думая развеселить всех, Сашка прокричал:
– Исследователи! Мы только подумали о лбе, а Сенебат уже мстит нам, ссорит нас.
Поддерживать шутку не было настроения. Я взял фотоаппарат, полевой дневник и пошел к большому дому, где жило несколько семей. Оставшиеся в доме старики, наверное, сейчас в сборе – обедают. Предложение разделить отряд, возможно, было разумным, но делать этого никому не хотелось, и больше всех, вероятно, Сергею.
...Пронзительный плач разбудил наш отряд. Я выскочил во двор. К женскому причитавшему голосу присоединился другой, третий...
– У кого несчастье? – выбежала Люба.
Голоса доносились от большого дома. Люба прислушалась к тревожному пению, пытаясь уловить смысл слов: она лучше всех нас понимала кетский язык. Мы ждали. Люба растерянно оглянулась и села на ступеньку крыльца.
– Ребята, что-то с Дагаем!
Сашка рванулся за калитку, но я успел остановить его.
– Нельзя. Сами скажут. Сейчас нельзя.
В необычных буровато-серых тенях раннего утра к нашему дому спешил старик Лукьян.
...Берег, начавшийся высоким угором у поселка, снижается постепенно. Затем он превращается в пологий выступ, исчезающий в воде, и здесь река резко поворачивает на север.
Массивная дощатая лодка на веслах с трудом шла вверх. На крутом повороте она чуть не уткнулась в громаду берегового леса, неожиданно вставшего над водой.
В лодке, заваленной мокрыми сетями, Дагай правил на корме, а за веслами сидел удивительно похожий на него, черноглазый, черноволосый, узколицый юноша Токуле.
Отец и сын уже вынули все сети. За поворотом реки их стан, их прутяной шалаш.
Лодка из-за поворота появилась бесшумно, неожиданно.
Отъевшийся за лето, жирный неповоротливый гусь медленно плыл навстречу. Он не учел опасности.
Дагай успел кивнуть Токуле, тот задержал весла на весу и носком сапога подтолкнул к отцу тозовку – малокалиберную винтовку, лежавшую на сетях.
Дагай за ствол дернул винтовку. Спусковой крючок зацепился, и тут же треснул выстрел...
Десять, пятнадцать, двадцать минут радист не может наладить прямую связь с Туруханском. Над районом магнитная буря. Нет прохождения на север. Радист вновь дает позывные и начинает выстукивать текст. На щите замигала лампа приема. Переключение настройки на телефонную связь. Дребезжащий голос в репродукторе:
– Я борт двести десять. Что у вас случилось? Прием.
Самолет АН-2 номер 210 поймал наши сигналы. Радист
протягивает микрофон Любе.
– Тяжело ранен грудь охотник Дагай. Нужен хирург. Туруханском связи нет. Помогите связаться больницей. Закажите санрейс. Прием.
– Я борт двести десять. Вас понял. Иду санзаданием Верещагино. Мы...
В эфире раздается гром, протяжные посвисты. Связь нарушилась.
В колхозной больнице медсестра сделала перевязку Дагаю. Врач на косе с рыбаками. Мы ждем у рации, мы надеемся, что связь с районом будет. Мы ничего не говорим друг другу, но помним последние слова Лукьяна, принесшего горестную весть на рассвете: «Дагай сеть вынул, на лоб, говорят, идти решил. Вот и сходил...»
– Самолет! – Саша рванул дверь почты и понесся под угор на реку.
Вдоль Сургутихи от Енисея шел самолет АН-2, борт номер 210. Около мостков засольни на мертвом якоре качалась бочка. С ходу, снижаясь, самолет ударил поплавками по воде и, подняв брызги, подрулил к бочке.
В Верещагине был хирург. Когда прилетевшие врачи скрылись в больнице, я заметил, что к засольне пристала моторка. Двое вышли на берег. Один поспешил к больнице, другой – грузный пожилой человек – шел к нам.
– Удружили, нечего сказать, – с упреком сказал председатель Гавриленко. – Я собирался на зиму на лоб людей уговаривать, а теперь! Что делать теперь?
– Зимой и пойдете.
– Кто пойдет? Наши люди знаешь что говорят: проклятое это место. Сначала – Чуй, теперь – Дагай.
Прокоп Гавриленко с досадой махнул рукой.
– Слушайте, Прокоп Васильевич. Вы-то понимаете, что происшедшее случайность?
– Да что я. Вы охотников убедите. Пока там кто-нибудь из здешних не побывает, никого туда не заманишь.
– Мы пойдем!
– Вы? – Гавриленко покачал головой. – Я проводника вам дать не смогу. Вы не найдете. Лучше отправляйтесь на катере на Подкаменную, а мы здесь, вот поправится Дагай, сами разберемся.
Операция прошла успешно. Пулю вытащили, она только слегка задела легкое. Дагай потерял очень много крови, но рана была не опасная.
После переливания крови и долгого сна Дагай почувствовал себя лучше. Здешний врач Толя Клитко, приехавший с Гавриленко, позвал меня и Любу в больницу.
– Вас Дагай зовет. Идите к нему, только ненадолго.
Дагай лежал на широкой больничной койке. Даже
сквозь загар проступала болезненная бледность, лицо осунулось, но глаза были прежними – умными и подвижными.
Мы присели около него. Он слегка приподнял руку, протягивая ее для приветствия. Люба поправила ему подушку и тихо спросила:
– Очень больно?
Дагай улыбнулся.
– Я сам виноват. Зачем за дуло тянул? Сглупил, а на лоб надо идти. Поправлюсь – пойду, там жить буду. Место хорошее. Там человек поживет, и наши люди про шаманов не вспомнят.
Вошел врач. Нам пора уходить.
– Дагай, наш отряд – и Люба, и Саша, и даже Сергей, – все мы пойдем на лоб. Завтра же. Мы еще придем к тебе. Ты скажешь, как идти, хорошо?
Дагай схватил меня за руку и, напрягаясь, пожал ее.
– Я знал. Вы пойдете. Завтра идите. До моего рыбачьего стана дойдете, там мой сын Токуле вас ждет. Я знал. Он вас ждет.
– Спасибо, Дагай. Поправляйся, скорей поправляйся!
* * *
Все готово для похода. Гавриленко дал нам колхозную моторную лодку.
С утра задул южный ветер. По многовековым наблюдениям, он приносит ненастье – дождь или снег. Тучи сгрудились над поселком, и вдалеке уже повисли дождевые полотнища. На реке, сжатой высокими берегами, только на северной стороне заметное волнение.
Дождь некстати, но все собрано, все в сборе. Откладывать отъезд невозможно. На берегу появляются старики. Скоро в домах никого не осталось. Любопытство и тревога привели людей на берег. Они провожают нас, им не безразлично, куда пойдут «верховские», – приехавшие с верховьев Енисея.
В суматохе, беспокойстве мы не обратили внимания, что все эти дни не появлялась переводчица Клава. Ее нет сейчас с нами, нет на берегу. Мы сидим в лодке, ждем ее. Она должна прийти.
К нам спускается дед Лукьян.
– Клаву не ждите. Старики ее отговорили. Не нужна она. Токуле ваш язык лучше, чем она, знает. Северного берега держитесь. На той стороне – мели.
Лукьян столкнул нашу лодку с камней и медленно пошел в гору. Когда он взобрался на берег, Сашка дернул ремень мотора. Лодка пошла против течения, вверх по Сургутихе. Дождь не переставал.
Мы не искали необычных приключений – мы работали. Поездка на лоб была той же работой – может быть, чуть сдобренной романтикой таинственности, но все же работой.
Сосновый лоб имел особое значение в жизни здешних людей, но мог быть и просто местом древнего поселения, исследовать которое входит в нашу задачу. Те, кто часто бывает в экспедиционных походах, любят повторять совершенно справедливую фразу: «Приключения начинаются тогда, когда нет достаточной организации и порядка».
Мы собрались достаточно организованно. Без приключений одолели первый участок пути. Мошка, отставшая от нас на реке, напала на берегу. Даже дождь ей не мешал.
Токуле ждал нас. Он заякорил лодку и задал всего один вопрос:
– Как отец?
В прутяном шалаше было просторно, чисто. Никаких вещей, кроме чайника и ружья. Токуле уже собрался в поход. На реке капли дождя пузырились – будет вёдро... Стоило переждать. Перед входом в шалаш стояла железная печурка. Молча кипятим традиционный чай.
Юный Токуле одет, как все юноши поселка, в темные шерстяные брюки и вельветовую куртку.
Церемония знакомства показалась нам несколько необычной. Токуле спросил, так ли каждого из нас зовут, как он думает. И не ошибся, он сразу узнал нас по описаниям отца.
Токуле уже два года учится на подготовительном отделении Красноярского мединститута и через год перейдет на основной курс. Последние годы он видится с отцом только летом – сначала интернат, теперь институт. Это обеспокоило меня.
Сможет ли Токуле провести нас на лоб, куда люди постарше его не знают дороги? Я спросил его об этом.
– Я там не был, но отец мне рассказал путь.
Юноша отвечал уверенно, и я счел за благо не делиться своими опасениями с товарищами. Я не встречал еще в здешних местах ни одного человека, малого или старого, который бы не сделал того, за что брался.
Дождь перестал.
Можно двигаться дальше.
Все заняли свои места в лодке, только Саша расстался с мотором, уступив его проводнику. Ветер стихал, небо очищалось от туч. Большими разорванными хлопьями они перемещались на каменную сторону – на восток.
Крутые берега Сургутихи медленно отступали за корму. Чем дальше вверх, тем сильнее течение, и скорость моторки падала. Росшая на берегу осина пожелтела, у черемухи опадали листья, а на рябинах пунцовели гроздья ягод. Конец августа здесь, считай, середина осени.
Кажется, приключения все-таки будут. Надо же было умудриться забыть вторую канистру на станке, на берегу.
Бензин кончится, мотор заглохнет, и... останутся только весла. Против течения грести на тяжелой лодке трудновато.
Что предпринять? Внезапно наступившая тишина отвлекла от раздумий. Началось! Приехали!
Лодка глубоко уткнулась в вязкий илистый берег. Токуле, отворачивая ботфорты бродней, пролез на нос и спрыгнул на ил. Увяз по колено. Сильно дернул цепь, втащил нос лодки чуть выше.
– Саша, ты в броднях, вылезай. Остальные подождите, сейчас тальник наломаем.
Распоряжался Токуле. Вдвоем с Сашей они сломали несколько кустов тальника и сделали нечто вроде настила по самому вязкому краю берега.
Я подошел к проводнику.
– Мотор заглох. Наверное, бензин кончился. Дальше на веслах придется.
– Почему заглох? Я его выключил. Пока приехали. Дальше на моторке нельзя, на ветке-долбленке надо. Узко очень, и коряжин много. Вашу лодку здесь оставим.
Забрав всю поклажу, которая уместилась в двух массивных рюкзаках (три лопаты и пару кирок нес Сергей), мы пошли по самой кромке береговой вершины. Метров через двести берег перерезала узкая протока, в горловине которой стояли две осиновые лодки-долбленки, знаменитые кетские «ветки».
Ветку кеты делают из осины, а их соседи селькупы – из кедра. От толщины дерева зависит и размер ветки. Из прямого, ровного по толщине ствола вполобхвата может получиться ветка на одного, а чтобы делать на семью в 3-5 человек, нужно выбрать ствол в два обхвата!
Главное достоинство веток – легкость. Двое мужчин могут на себе перенести лодку через перевал, или, по-местному, перетаск.
Одна из двух ожидавших нас веток была около пяти метров длиной, другая – не более трех с половиной.
В протоке мы плыли по течению. Грести почти не приходилось, только успевай наклонять голову под стволы нависших деревьев.