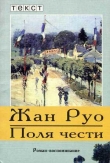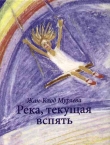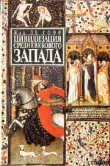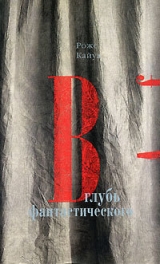
Текст книги "В глубь фантастического. Отраженные камни"
Автор книги: Роже Кайуа
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Композиция в целом с первого взгляда приводит в замешательство. Но тайна рассеивается, как только мы понимаем намерение автора и, если можно так сказать, правило игры: следует выбрать библейскую цитату, содержащую ключевое слово, затем гравировать сцену, о которой говорит Священное Писание, или на худой конец любую другую, лишь бы задуманное слово на нее намекало; наконец, окружить изображение рамой (наступающей, впрочем, на саму картину), составленной из соответствующих дидактических мотивов. Ни художники, заботящиеся о точности и полноте (И. А. Фридрих, Г. Д. Хейманн, Й. Г. Пинц, X. Шперлинг и др.), ни читатели, которые, я полагаю, пользовались этой книгой как своего рода занимательной энциклопедией, думать не думали о фантастическом: оно является нам только сегодня, когда необходимо приложить усилие, чтобы постичь столь нелепый метод.
Что касается описания экспедиций в далекие земли, иллюстраторы, работавшие понаслышке, по отчетам, уже содержащим искажения, не преминули оставить нам материалы, в которых экстравагантность цветет пышным цветом. В составленной Джозеффо Петруччи апологии сочинений о. А.Кирхера[74]74
Prodromo apologetico alii studi Chircheriani. Amsterdam, 1677. P.95 et 142.P.K.
[Закрыть] мы видим то людей с лошадиными головами, то рыбака, который предательски убивает некое гибридное существо, почти человека, несмотря на голову моржа и рыбий хвост. Больше чем через сто лет эта книга достойно принимает эстафету сочинения Улисса Альдрованди «De Monstris»[75]75
«О чудовищах» (лат).
[Закрыть]: здесь на гравюре изображена обитательница Луны в большой корзине, снесшая несколько яиц, причем один из новорожденных разбивает скорлупу яйца, которое она держит в руке. В 1678 году в Лондоне издано иллюстрированное описание четвероногих животных, принадлежащее доктору Джону Джонстону[76]76
A Description of the Nature of Four-Footed Beast. London, 1678. Единороги представлены на ил. X, XI, XII. Изображение грифона – на ил. XLIX. Р.К.
[Закрыть]. Не считая грифона, в нем содержится не менее восьми различных изображений тех или иных видов единорога, о которых имеются свидетельства. Единственное словцо во фразе позволяет предположить, что автор не вполне убежден в реальном существовании таких животных в природе, но в конце концов он придерживается традиции и следует за авторитетами в этой области.
Случается также, что обряды, маски, богослужения народонаселения, встреченного путешественниками – первопроходцами, представляются поистине в фантастическом свете, но это нисколько или почти совсем не связано с фантазией гравера. В подтверждение сошлюсь лишь на две иллюстрации к «Путешествиям капитана Кука», сделанные Бенаром.
Первый рисунок – вытянутая в ширину панорама – изображает высокий помост, крытый навесом из сухих волокон. Там покоится умерший. У подножия этого несложного сооружения безутешная женщина вытирает глаза полой своей накидки и в знак скорби воздевает руку к небесам. Она одета и причесана на манер женщин Древней Греции. Распростертый у ее ног мужчина обхватил голову руками. Возникает мысль, будто это какая-нибудь Ифигения, заблудившаяся в тропиках, феерическая растительность которых великолепно обрамляет сцену. С правой стороны из аллеи пальм, возвышаясь над кокосом и длинными изрезанными листьями банана, показывается громадного роста персонаж: голова без лица окружена ореолом лучей – вероятно, соединенных вплотную одна к другой тростинок, образовавших грандиозный венец. Сопровождающий исполина голый человек, чьи очертания почти сливаются с фоном, едва достает ему до пояса. По-видимому, это ведущий траурной церемонии: стоя на ходулях, он кажется великаном. Вдобавок у него как будто нет рук, вместо них – широкое черное полукружие, над которым, по обе стороны того, что должно быть его лицом, подняты ввысь два белых световых пятна. Явление медленно приближается, а скорбящая пара его пока еще не замечает. Не многие из известных мне изображений вызывают столь же сильное впечатление сверхъестественного ужаса.
Другой документ представляет нам двойную пирогу с Сандвичевых островов, на ней ритмично работают веслами гребцы в масках. При помощи паруса она плывет с большой скоростью вдоль гористого берега. Вопреки указанию, данному в названии, на гребцах надеты скорее каски, а не маски: в действительности, что-то вроде капюшонов, непроницаемых и жестких, причудливо увенчанных листьями. Головные уборы, как правило, позволяют видеть лицо, словно заключенное внутри полого шара, но иногда они снабжены еще своеобразной выпуклой решеткой, которая прерывается на уровне подбородка (там, где замыкается сфера), а затем продолжается, опускаясь до середины груди. На самом деле это пустотелые бутылочные тыквы, к которым спереди прикреплены узкие параллельные полоски ткани. Они напоминают средневековые шлемы, забранные проволочной сеткой, а еще больше – шлемы водолазов. По признанию Кука, ему неизвестно, в каких случаях дозволено или положено их надевать. Таким образом, маловероятно, чтобы мы когда-либо узнали, какая миссия возложена на гребцов с закрытыми лицами и куда они держат путь, с такой поспешностью двигаясь по залитой солнцем морской глади. Будь они вооружены, мы бы тут же предположили какую-нибудь зловещую карательную экспедицию. У одного из них в руках идол. Быть может, они направляются в укромное место для совершения тайного обряда? Гравер, очевидно, располагавший для своего рисунка только теми сведениями, которые он мог получить от Кука, также этого не знал. Как и любому зрителю, ему приходилось догадываться о смысле изображаемой сцены, которая уже тогда предоставляла его воображению, как и нашему, полную свободу.
В качестве последнего примера я заимствую изображение соляной копи в Англии, в Марбери близ Нортвича, из одной немецкой книги, предназначенной юным читателям и озаглавленной «Museum der Naturgeschichte und Schopfimgswunder»[77]77
Музей естественной истории и чудес творения» (нем).
[Закрыть], изданной в Глаце без указания даты, но приблизительно в 1810 году, если принять во внимание характер печати. В1946 году я случайно наткнулся на один из разрозненных томов этого дешевого издания (наподобие тех, которыми торговали вразнос) у букиниста в Берлине, в ту пору более чем на три четверти разрушенном. Полистав книгу, я был поражен своей удачей: она изобиловала наивными диковинами. Возьму лишь этот рисунок соляной копи, менее всего на свете напоминающий какую бы то ни было копь, как бы мы ее себе ни представляли. Правда, то же можно сказать и об умопомрачительном «Алмазном прииске» Мазо да Сан Фриано из Палаццо Веккьо во Флоренции.
С первого взгляда мы замечаем только бескрайнюю местность, погруженную во мрак спускающейся или уже наступившей ночи, где высятся восемь огромных чернильно-черных столбов, отблескивающих на фоне менее густой тьмы. Эти неровные колонны кубического сечения похожи на грубо обтесанные балки черного дерева. Видимо, они не поддерживают ни крышу, ни потолок Они теряются в вышине, как геометрические менгиры. В центре три элегантно одетых персонажа, в сюртуках или фраках ярко-красного и ярко-синего цвета, в эффектных шляпах, окружают плетеную решетчатую гондолу, соединенную жестким стержнем с белым овалом, необъяснимым посреди сумрачного пространства, будто петля, прорезанная в ночном небе. Вдали, вдоль неотчетливого подножия мягких холмов, слабо отсвечивающих на горизонте, бесконечно тянутся одна за другой какие-то балюстрады, между которыми маячат крошечные силуэты. Отраженный свет при отсутствии его видимого источника пробуждает любопытство. На все воздушное пространство накинута тонкая сеть, нечто вроде тканого покрова.
Огромные столбы отбрасывают лиловые тени: поначалу их сизый оттенок не выделяется на черной земле. Перед гондолой, там, где земля внезапно светлеет, видно, что она вся покрыта прожилками, как поверхность мадрепорового коралла с необычайно гибкими и трепещущими извилинами. Приходится во второй раз задуматься, откуда идет рассеянный свет. Несомненно, он пробивается из центрального отверстия, повисшего в пустом пространстве, которое, выходит, не является небом. Значит, нужно все пересмотреть. Действительно, понемногу новая картина встает на место первой. Колонны, стало быть, поддерживают свод. Он невидим, это правда. Но он непременно есть, поскольку уже неяркое свечение, скупо просачивающееся в этот обездоленный мир, могло бы проникнуть только через округлую дырку, проделанную в толще коры. Холмистая местность с балюстрадами, казалось бы не имеющая границ, накрыта куполом, хотя она беспредельна. Это гигантская пещера, которая сообщается с миром дневного света только через пупочное отверстие колодца. То, что мы приняли было за стержень, – на самом деле кабель, предназначенный для перемещения хрупкой корзины, которая представляет собой не что иное, как грузоподъемник Безмерность этого подземелья, простирающегося так же далеко, как бескрайняя поверхность Земли, рождает тревогу. Взгляда не останавливают ни стены, ни (что еще важнее) потолок. Гость этих мест не знает, что над ним: крепкий свод дома или неощутимый, необъятный небесный свод. Тогда возникает мысль – и в ней сила неумелой гравюры – о повторении, о заключенных одна в другую грандиозных концентрических темницах: свет, скупо в них проникающий, всегда освещает высокие, лишенные стен залы, незаметно переходящие в эспланады, луга, холмы, пустыни, планетарную поверхность. Каждый раз то, что можно назвать открытым воздухом для сферы, ближайшей к центру, оказывается пещерой для следующей сферы, в свою очередь объемлющей первую.
Итак, технические, документальные, научные труды, словно соревнуясь, предлагают иллюстрации, в которых поиск реального приводит к встрече с фантастическим. Они открывают больший простор для грезы, ставят больше проблем, удивляют или тревожат сильнее, чем произведения, где художник сознательно спекулирует ощущением тайны, стремясь внушить его зрителю. Повторяю: фантастическое, вызванное не явным намерением автора произвести ошеломляющее впечатление, а как будто вопреки его воле или даже втайне от него проникающее в плоть произведения, на поверку оказывается особенно убедительным. Мы понимаем: в этом случае фантастическое – не каприз, не хитрость, оно верно своей природе, суть которой заключается в том, чтобы направлять ум к реальности еще неизвестной, доступной лишь предчувствию. Вот почему, на мой взгляд, фантастическое с неопровержимой силой и столь же неопровержимой наивностью воплощается в произведении, автор которого с превеликим трудом и отвагой старался достичь только правдоподобия и был бы глубоко огорчен, узнай он, что его изображение ошибочно.
Существует, таким образом, фантастическое догадки и поиска: оно исчезает по мере прогресса позитивного знания, для которого поначалу служит как бы антенной, дающей побудительный импульс. Справедливость требует уделить должное внимание эпюрам, где, вопреки намерениям авторов, мир фантазии оттеснил реальность, и потому сегодня они стали для нас прежде всего источником знаний о воображении.
V. Продуктивная неопределенность
Существует мир смутных устремлений души, ее желаний, ее разочарований – от опасности бесследно растаять его охраняет необоримая темнота. Ни слова, ни видимые образы не способны уловить точные контуры этих внутренних реалий – бесформенных, непостоянных, ускользающих от описания или изображения. Имея дело с ними, нельзя обойтись без перифраз. Чтобы приблизиться к этим реалиям, пробудить ностальгические чувства к ним в других людях, необходимо прибегнуть к языку-посреднику и воспользоваться способом познания, к которому еще более, нежели к тому, что описан в Послании к Коринфянам, может быть отнесено данное апостолом определение: увиденное в зеркале отражение загадки[78]78
1 Послание апостола Павла к Коринфянам, XIII, 12: «Per speculum in aenigmate» (лат). (Приведем полный русский перевод этого стиха: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».)
[Закрыть].
Именно тогда фантастическое искусство так же, как и поэзия, пускает в ход продуктивную двусмысленность, и я почти готов усматривать в этом их подлинное призвание. Впрочем, они предлагают лишь косвенный путь к приручению того, что по природе своей не дается ни языку, ни изображению. Но никакой иной путь невозможен. В довершение всех бед в этой области любой обман легок, соблазнителен, даже забавен. Он чарует нас, подобно цветным стеклам волшебного фонаря на заре его истории. Я не собираюсь отрицать прелесть этих чар. Но глубокая, подлинная тайна не перестает быть тайной – не составленной кем-то развлечения ради из отдельных фрагментов, а тайной, которую необходимо пережить, поскольку рассеять ее невозможно. Иным чувствительным натурам она порой не дает покоя, а других тревожит будто издалека, время от времени напоминая о себе. Некоторые художники пытаются расставить ловушку для незримого и хотят, как и поэты, силой вырвать у него крупицу тайны. Они надеются, что в их творчестве оно оставит свой след, мерцание своей тишины. Думаю, не случайно и художники, и поэты выражают тогда себя с помощью того, что в той и другой областях называют образами.
И в речи, и на картине только образы, то есть приблизительный, условный, метафорический способ выражения, могут хотя бы в некоторой степени удовлетворить мучительное, почти непереносимое стремление. Такого рода образы живут в самом сердце фантастического, на пол пути между теми образами, которые я однажды назвал бесконечными, и образами связанными. Первые в принципе тяготеют к алогизму и несут в себе сознательный отказ от всякого смысла. Вторые переводят определенные тексты на язык символов, с которого, при помощи соответствующего словаря, возможен дословный обратный перевод на обычный язык Это образы закрытые, они таинственны лишь в силу случая – оттого, что ключ к ним потерян, или оттого, что он стая не нужен. Изначально в них не было никакой тайны. Нет ее точно так же и в бесконечных образах – слишком открытых, придуманных с одной только целью: удивить – и быстро утрачивающих эффективность. Как можем мы удивиться только потому, что это нужно, и продолжать удивляться, если заранее знаем, что потрясение, которое мы должны испытать по желанию автора, – это и есть все, чего ему важно добиться? Я готов засвидетельствовать, что он получил то, чего хотел, но, по моему убеждению, в его недальновидной затее нет места для тайны.
По счастью, подобные случаи в чистом виде никогда не встречаются. Ибо художник с неизбежностью оставляет в произведении, иногда помимо собственной воли, какие-то ориентиры, выдающие значимое предпочтение с его стороны. Поскольку желание автора сбить с толку намного сильнее, чем его невольное признание, почерпнутое отсюда указание неминуемо окажется стертым и искаженным. Если все же указание повторяется, если оно очевидно вступает в сочетание с другими знаками, может случиться так, что на фоне организованной бессмыслицы постепенно начнут проступать элементы менее произвольные, обладающие скрытой логикой. Благодаря этим разрозненным сигналам бесконечные образы обретают возможность заключать в себе отдаленную весть, что сближает их с метафорическими образами, о которых я говорил ранее, – их можно было бы также назвать гипотетическими и аллюзивными. В итоге я предпочитаю назвать их аналогичными или аналогическими (сказал бы:«апагогическими»[79]79
От греч. anagoge – «раскрытие внутреннего смысла»; богословский термин, относящийся к толкованию мистического, духовного смысла образов Священного Писания.
[Закрыть], если бы был уверен, что они открывают доступ к какой-либо высшей реальности) – потому, что их значение (если только у них есть значение), по крайней мере, их действенность основана на системе совпадений и запретов, многочисленных интерференций, соответствий между регистрами, заменяющей в этом царстве аллегории яркий свет аналитического знания.
Сопротивление толкованию в поэзии – феномен той же природы, не имеющий особых отличий. Порой родство проявляется не только в манере и слоге, но обнаруживается и в содержании. Так, сонеты цикла «Химеры»[80]80
Их автор – французский поэт Жерар де Нерваль (1808–1855).
[Закрыть] интерпретировали с помощью алхимических ключей. Не отрицаю и не исключаю того, что открытые таким образом точные соотношения между этими стихотворениями и забытой символикой реальны или правдоподобны. Нерваль, действительно, мог черпать из этого источника. Но я придаю второстепенное значение этим сближениям: главное сходство заключается в параллельном обращении к миру эмблем – миру множественных эквивалентностей, разнородному и одновременно логичному. В нем живут божества, цари и герои: на вызов судьбы или обстоятельств они отвечают торжественными, метафорическими деяниями, буквальный смысл которых оправдан лишь отсылкой к реальности отсутствующей, быть может, невыразимой.
Не думаю, чтобы Нерваль (он и сам дает это понять) вложил вполне конкретный смысл в свои сонеты: это означало бы, будто ему было нужно только замаскировать ясное высказывание; но еще сомнительнее, чтобы поэт сочинял свои стихи наудачу, стараясь лишь избавить их от такого зла, как внятность.
Как я могу предположить, скорее он хотел передать нечто, не до конца понятное ему самому, и прибег к лабиринту аллегорий, решив, что каждый читатель сможет найти в нем свое, лишь бы подспудная логика сети озадачивающих образов показалась ему достаточно заманчивой. Как бы то ни было, возможно, связность здесь – только иллюзия и за нею – ничего, кроме тупика. Но пусть даже и так: ведь это связность, которая выражает некий порядок или свидетельствует о нем, и потому наши блуждания в поисках этого порядка, наверное, не напрасны. Кипение ума, жаждущего раскрыть спрятанный от него секрет, не может не развить в нем гибкость, чуткость, а обретенные благодаря этому сила и радость навсегда останутся его достоянием. Каких еще милостей ждать от искусства, если не такого обогащения?
Некоторые прозаические произведения отвечают той же цели. В жанре «Marchen»[81]81
Сказки (нем).
[Закрыть], характерном для литературы немецкого романтизма, легко сплетаются в узор символы, заимствованные при случае из какой-либо посвятительной традиции (например, «Зеленая змея» Гёте) или, по крайней мере, обыкновенно интерпретируемые как таковые. Роман Рэймона Русселя «Locus solus»[82]82
Руссель Рэймон (1877–1933) – французский прозаик, предшественник сюрреалистов, высокоценимый также писателями «нового романа». Locus solus (лат) – единственное место.
[Закрыть] представляет собой пример загадки, не имеющей ключа. Тайна, тщательно продуманная, разветвляется и постепенно кристаллизуется, а между тем даже в необъяснимом утверждается единство, спасающее от произвола массу необычных элементов, включенных в систему.
Недавно Оливье де Маньи[83]83
Автор предисловия к немецкому изданию романа: Roussel R. Locus Solus. Neuwied; Berlin: Luchterhand, 1968.
[Закрыть] удачно и убедительно показал, что исключительная притягательность, которой обладают подобные произведения, в основном объясняется именно тем, что они дают повод подозревать в них связность. «Locus Solus», – пишет он, – «высится перед вопрошающим читателем, как замкнутый в себе иероглифический памятник, где каждая часть, каждая деталь отсылает к другой детали глубоких извилистых лабиринтов этого каменного чуда; однако же исходящее от памятника странное сияние говорит о его кристаллической структуре и позволяет нам предположить наличие скрытых смыслов внутри этой блистающей загадки. Загадки блистающей, а главное – наделенной логичностью бесчисленных призм. Каждая из поразительных находок Русселя, предлагаемых читателю, начиная с летающей девицы, выкладывающей мозаику из зубов («Рейтар, дремлющий в темной крипте»), и кончая исполинским бриллиантом, в котором плавает танцовщица с «музыкальной» шевелюрой или огромной витриной, где целые и невредимые мертвецы разыгрывают главную сцену своей человеческой жизни, – каждое из этих изобретений соединяет нити невероятных соответствий, устанавливает связи между причинами и следствиями, на первый взгляд, разделенными астрономическим расстоянием, сплетает сеть взаимовлияний между самыми разнородными элементами, координирует систему взаимодействий, реакций и последствий, предопределенных и стянутых в единый узел в театре вселенной, от зенита до надира, – короче, каждое из этих ухищрений воплощает объективный анализ невозможной и, однако, явной аналогии. Множество детальных описаний умопомрачительной сложности, регулярно сопровождаемых демонстрацией функционирования описываемого объекта, объяснением его происхождения, назначения и связанных с ним аллюзий, скрытых в разных пластах исторического или легендарного прошлого, позволяет нам проникнуть в перспективы фантастической логики целого, воспринимаемого как нечто поддающееся пониманию, несмотря на то что смысл ускользает по мере нашего приближения и оставляет нас, как заблудившихся путников посреди лабиринта догадок, как пленников в сердце проблематичного мира».
Я счел необходимым полностью процитировать рассуждения критика, поскольку, мне кажется, их можно было бы с успехом применить к некоторым комплексам изображений. Стоит выбросить совсем немного (разве что конкретные намеки на роман Русселя) – и создастся впечатление, будто это скорее описание серии гравюр Пиранези «Тюрьмы» или пустынных городов, изображенных Де Кирико около 1925 года, или какого-то иного мира, замкнутого и вместе с тем загадочного, населенного странными существами и наполненного необычными предметами: его потаенная геометрия подчинена неведомым законам, которые мы смутно улавливаем. Тайну неизменно и в равной мере порождают и гипотетический порядок, и то видимое безумие, которое он организует. Ведь именно этот порядок наводит на предположение, что безумие – не более чем видимость и что эта озадачивающая шахматная доска – клетки и фигуры – нужна для какой-то игры, правила которой, должно быть, возможно восстановить.
Такого рода живопись, фантастическая направленность которой заранее обдумана автором, неизбежно является живописью дискурсивной, или, как говорят, литературной – в том смысле, что она обнаруживает явное намерение о чем-то рассказать. Ее довольно часто в этом упрекают, не осознавая, однако, в достаточной степени, что склонность нагружать изображение информацией приспосабливается к особенностям живописи как таковой не хуже, чем символическое повествование осваивает качества литературного стиля. Беллини остается великим живописцем в своих аллегориях, а Раймонди – столь же выразительным графиком в офортах со скрытым смыслом. Точно так же, Нерваль-поэт в «Химерах» великолепен, как никогда, а Кафка-прозаик нигде не достигает такой прозрачности, как в лабиринтах «Замка».
Едины не только цели, но и пути их достижения. Неважно, что слово и знак, эмблема и девиз меняются местами. Словарь заменен репертуаром форм, название – изображением, вместо слогов – линии, вместо звука – цвет. Все равно речь идет о том, чтобы представить неуловимо изменчивый мир опосредованно – с помощью аналогии, метафоры, вроде того, как в плане материальном электронный микроскоп переводит в разряд видимых мельчайшие феномены, не достигающие длины световой волны. Здесь же художник или поэт таким вот гадательным способом, посредством форм или слов, хотят сделать доступной для восприятия чрезмерно тонкую субстанцию, которую ни обрисовать, ни назвать не удается. Не утверждаю, что затея их осуществима. Но, в конце концов, они дерзают, и трофеи, добытые ими на этой охоте, пусть и обманчивые, обладают несомненными достоинствами и притягательной силой.
Фантастическая картина, подобно стихотворению, стремится уловить ускользающую реальность.
Выразить ее пытаются, и в том и в другом случае, странно схожими способами, усиленно добиваясь хорошей проводимости, то есть гарантированного поступления тока ценой наименьших потерь. Иногда как писатель, так и художник избегают ярких эффектов: то, что они выражают или изображают, кажется слишком естественным, и только позже мы замечаем, что все залито светом грезы, который преображает произведение и делает его неисчерпаемым. Иногда, напротив, тайна не растворена повсюду, а сконцентрирована в каком-либо образе, и внезапная ее вспышка напоминает тусклый блеск свинцового излома, вдруг озаряющий черную поверхность антрацита. Крайняя резкость или предельная сдержанность – возможно, с подобными контрастами манеры мы сталкиваемся в любом искусстве. В фантастическом искусстве они в равной мере помогают придать обстоятельствам, вначале почти немым, силу красноречия, необходимую, чтобы удерживать внимание разума и побуждать к плодотворным грезам воображение.