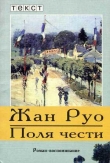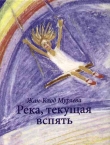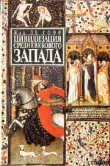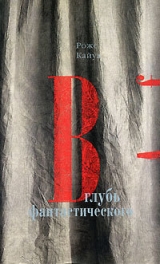
Текст книги "В глубь фантастического. Отраженные камни"
Автор книги: Роже Кайуа
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Примечания
Отступник
С. 157. «..Положим в его основание саму материю».
Считаю небесполезным процитировать мое самое раннее описание этих пограничных между мыслью и грезой состояний, основой для которых послужили скорее минералы, чем, к примеру, христианские образы или тантрические символы. Это первое признание помещено в книге «Камни» («Pierres»; Gallimard, 1966. Р. 107–109):
«Внимательно разглядывая камни, я иногда стараюсь, не без наивности, разгадать их секреты. Я погружаюсь в смутные представления о том, каким образом сложилось столько загадочных чудес, возникших в результате законов, как видно, часто ими нарушаемых, словно они порождены суматохой, вернее, праздником, которые ныне их способ существования подвергает осуждению. Я пытаюсь настигнуть мыслью горячий миг их генезиса. Тогда на меня находит своего рода особенное возбуждение. Я чувствую, что становлюсь почти соприродным камням. В то же время они сближаются с моей собственной природой благодаря неожиданным качествам, которые мне случается им приписывать в моих умозрениях, попеременно точных и свободных, где сплетаются нить грезы и цепочка знания. Здесь без конца воздвигаются и рушатся хрупкие, быть может, необходимые здания. Здесь метафора подкрепляет (или разлагает) силлогизм, видение дает пишу строгости (или сбивает ее с пути). Между неподвижностью камня и кипением ума возникает своеобразный ток, и в какое-то мгновение – правда, незабываемое – я черпаю в нем мудрость и поддержку. Еще немного, и я усмотрел бы в этом возможное семя неизвестного и парадоксального направления мистики. Подобно прочим, оно как будто приводит душу к получасовой тишине, к растворению в некой нечеловеческой огромности. Но в этой бездне, видимо, нет ничего божественного, более того, она всецело материальна и только материальна: активное, клокочущее вещество лавы и шихты, подземных сотрясений, оргазмов и великих тектонических ордалий[119]119
Ордалия – «суд Божий», испытание невинности огнем или водой.
[Закрыть] – и недвижное вещество самого длительного покоя.
Тогда медитация беспрепятственно переходит в опьянение, в экстаз. Не знаю, может ли подобная основа дать импульс к озарению, которое, как говорят, освобождает от превратностей судьбы и внутренних перевоплощений. Со своей стороны, я склонен полагать, что основа не имеет значения. Мне кажется, я знаю из более надежного источника, что если бы случайно я был одарен этим преимуществом (или введен в заблуждение этой иллюзией) и однажды обрел бы цельность и достиг отрешенности, то в следующую секунду темные ночи и замки души вернули бы меня – точно так же, как и других освобожденных (других очарованных), – в обычное состояние, на свое место, в свое бренное тело, не являющееся ни долговечным, ни каменным. Все же у меня осталось бы воспоминание, некая заноза, едва заметный, но не проходящий след. Ибо совсем не пустяк – подобное затишье посреди грохота, посреди безостановочной, не разделенной запятыми речи, что поглощает наши дни».
Возможные сады
Этот текст, как и «Поддельные знаки», представляет собой попытку, исходя из самого широкого понятия (здесь: сад, алфавит, медаль), вывести разнообразные формы, которые могут принимать соответствующие объекты, не только реально существующие, но и все мыслимые объекты, подразумеваемые данным понятием.
Сикоморы
С. 1б9– «..Хотя такое бывает».
Я имею в виду, в частности, фикусы, которые в очевидном самолюбовании срастаются если не ветвями, то по крайней мере воздушными корнями: эти жесткие, выпрямленные, покрытые корой и листвой корни не отличить от настоящих ветвей. В этом отношении особенно впечатляют фикусы сквера Лапа в Рио-де-Жанейро. В эссе «Деревья Лапа» я пытался их описать и выразить отвращение, внушаемое подобными противоестественными союзами («Обман поэзии»: «Les impostures de lapoesie», 1945. P. 15–21). Омерзение и ужас вызывает этот безудержный блуд распутных растений, этот возврат хаоса.
С. 169. «Сам Данте…»; ни Данте, ни Сад. Кажется, только у Марианны Андро родился замысел срастить плоть двух ладоней, правда, имеются в виду обе руки одного истязуемого (MarianneAndreau. Lumiere d’epou-vante. Paris, 1955).
С. 174. «..И завлечь его в роковую сеть…».
Идея поимки звезд – очень древняя. Феокрит посвятил одну из «Идиллий» фессалийским волшебницам, которые заманивали луну в колодец и удерживали ее там на привязи все время, пока они колдовали. Хашим ибн Хаким аль-Муканна, Закрытый Покрывалом, хорасанский пророк VIII века, в течение двух месяцев каждый вечер вызывал из колодца светящийся шар, подобный луне, который поднимался и, достигнув определенной высоты, возвращался в исходную позицию («Таджарибас-Салаф», перевод на персидский яз. аль-Фахури, с. 121). Хашима считают лжецом: ортодоксальная традиция недвусмысленно дает понять, что так называемое чудо сводится к ловкому фокусу.
Поддельные знаки
Этот текст, как и некоторые другие из написанных мной и в еще большей степени, чем предыдущие, имеет целью напомнить, что между творениями природы и человека, который представляет собой часть природы, нет коренной разницы и, во всяком случае, больше сходства, чем принято думать. Впрочем, то, что человек составляет часть вселенной, – банальность, чтобы не сказать: вещь самоочевидная. Более трудным оказывается принять крайние последствия этого, простые и настоятельные констатации, которые род человеческий в силу гордыни нередко предпочитает забывать или игнорировать.
С. 198. «..Изображены Фу-си и Нюй-ва».
Речь идет об отпечатке с одного из рельефов, открытых в провинции Шаньдун экспедицией Шаванна[120]120
Шаванн Эдуард (1865–1918) – французский китаевед.
[Закрыть]. Он воспроизведен в «Китайской цивилизации» Марселя Гране (Marcel Granet, «La civilisation chinoise», Paris, 1929, Planche I). Его датируют II веком н. э. Примерно шесть столетий спустя Сыма Чжэнь[121]121
Сыма Чжэнь – исследователь и комментатор «Исторических записок» («Шицзи») Сыма Цяня – первого китайского историка (11—1 вв. до н. э.). Сыма Чжэнь жил в эпоху Тан (VIII в.); он дополнил сочинение Сыма Цяня главой «Основные записи о трех властителях».
[Закрыть], желая отодвинуть в глубь веков хронологию Китая, придумал предпослать Пяти Императорам трех первовластителей. Он разделил легендарную чету Фу-си и Нюй-ва и даже сделал последнюю мужчиной, последователем Фу-си, не заботясь о том, что «Нюй» означает «женщина»[122]122
Последний упрек автора в адрес Сыма Чжэня необоснован, однако, согласно комментаторам, в ранних китайских источниках (I–II вв.), действительно, нет единства относительно пола Нюй-ва (с тех пор, как она возводится в ранг «властителя»).
[Закрыть]. Он поступил бы разумнее, объединив их в одно существо – гермафродита. Это действительно была неразделимая пара – брат и сестра, рожденные одной матерью, изобретатели брака и, быть может, самодостаточной сексуальности.
Великий Юй, проходя под землей, встретился с Фу-си близ Ворот Дракона в массиве Хуаинь, изобилующем минералами и металлами, которые рассматривались как величайшее чудо. Гробница Нюй-ва, согласно преданию, находится недалеко от порога на реке Дун-хэ, то есть в том же районе.
Циркуль и угольник символизируют благоприятное устроение природы и совокупность действенных институтов. Циркуль, воплощение кривой, имеет отношение к женщине и является атрибутом Нюй-ва; угольник, составленный из прямых, относится к мужчине: это эмблема Фу-си. Однако Небо, считавшееся круглым, отождествляется с мужским началом, а Земля – квадратная – с женским (Marcel Granet. Dances et légendes de la Chine ancienne. Paris, 1926. T. И. P. 498, n. 2).
Речь идет, таким образом, о перекрестном обмене качествами, призванном подчеркнуть либо то, что угольник и циркуль взаимо дополнительны и неразлучны по примеру Фу-си и Нюй-ва, либо то, что Земля, хотя (или потому что) она квадратная, нуждается в циркуле, а Небо, хотя (или потому что) оно круглое, требует ортогонального инструмента.
Супруги вдобавок изобрели музыкальные инструменты: Фу-си – 25– или 35-струнные гусли (прямоуольные), а Нюй-ва – шэн, своего рода портативный органчик из 13 или 19 трубок, крепящихся на корпусе из бутылочной тыквы (округлой формы) (Сыма Чжэнь, «Основные записи о трех властителях» – Se-Ма Tcheng, «Annales des Trois Souverains», in: Se-ma Ts’ien, «Mémoires historiques de la Chine», trad. Chavanne, 2-e éd., Paris, 1967. T. I. P. 8–10).
Предполагаю, что на Западе сочетание угольника и циркуля, к которым скоро добавился отвес, никак не связано с этой далекой мифологией, долгое время остававшейся неизвестной. Скорее оно ее подтверждает, как будто указывая, что согласно необходимым для рода человеческого представлениям, любой памятник, если не любая упорядоченность и регулярность, строится на основе прямого угла и круга. Во всяком случае, человек охотно признает в них собственное изобретение.
Однако круг и прямой угол существовали в природе до человека, как и равносторонний треугольник, совершенные полиэдры, логарифмическая спираль и многие другие фигуры: он заново открыл их геометрию и научился их строить. Вот почему я вздрогнул, когда в толще древнего камня распознал призрак элементарных орудий, доставивших человеку славу строителя. Я был не менее взволнован тем, что в рельефах из Шаньдуна они получили раннее космическое освящение. Меня так радуют знаки, подтверждающие, как мне кажется, тот факт, что человек – продолжение природы, даже когда он воображает, будто отстоит от нее дальше всего, и кичится тем, что спорит с ней.
Эпилог
Вначале я озаглавил этот текст не «Раненые камни», а «Немезида». Он был нужен для того, чтобы прояснить довольно таинственное, на первый взгляд, различие между критериями ювелира, который вставляет драгоценные камни в оправу и делает из них желанные украшения, и мечтателя, открывающего источник радости в рисунках и формах минералов и рассматривающего их как своего рода микрокосм.
Мне кажется значимым следующее противопоставление. Для торговца драгоценными камнями, как известно, их ценность зависит от прозрачности. Трещинки, пятнышки, помутнения – любая примесь снижает их качество, а значит и ценность. Тот, кто выбирает камни основой для грез, испытывает совсем другие чувства. Конечно, и ему не особенно нравятся позорные дефекты – волосок или облачко пота, портящие совершенство и блеск в остальном восхитительного камня. Зато он с охотой отыскивает минералы, отмеченные настоящими ранами, которые порой придают им потрясающий вид. Так что, в конце концов, если и для него почти невидимый недостаток снижает достоинство камня, то очевидное повреждение прибавляет ему ценности. Однако это изменение должно быть ярким: можно сказать, именно оно должно привлекать внимание и всецело завладевать им, именно в нем, больше, чем в составе минерала, должен заключаться интерес образца.
Как обычно, установив противоположность, я попытался объяснить расхождение неким законом, общим если не для вещей и людей, то по крайней мере для природы и искусства.
Библиографическое примечание
Первым вариантом «Возможных садов» было предисловие к каталогу выставки Роберто Бурле Маркса в Музее Гальера в мае 1973 года. «Девонское наследие» послужило введением к выставке образцов мрамора из Эрфуда, содержащих ископаемые органические остатки, в выставочном зале Эспас Карден (сентябрь-октябрь того же года). Я расширил эссе «Яшма с берегов Арно» (под заголовком «Известняки Тосканы» этот текст сопровождал в качестве комментария экспозицию, организованную Клодом Булле также в октябре 1973 года).
Что касается второй части («Хищения»), вместе с приложенным тестом «Открытие природных медалей» и графическими иллюстрациями Карреги она была напечатана ограниченным тиражом (издатель Андре де Раш); четвертая часть, «Отражения камней», сопровождаемая литографиями Рауля Юбака, публиковалась издательством «Адриан Мэт».
Вехи жизненного пути Роже Кайуа
1913, Реймс. 3 марта у служащего сберегательной кассы Гастона Кайуа и его жены Андре Фернанды родился сын Роже.
В годы Первой мировой войны Реймс оккупирован немцами, Гастон призван в армию, семья вынуждена покинуть родные места.
1918, Витриле-Брюле (Верхняя Марна). Роже живет у бабушки и открывает мир деревни – новые впечатления глубоки и незабываемы. В семье Кайуа рождается второй ребенок – Ролан, будущий философ.
1925, Реймс. У лицеиста Роже появляется старший друг и сосед Роже Жильбер-Леконт, который позже станет одним из основателей группы «Большая игра».
1929, Париж. Гастон Кайуа – секретарь столичной сберегательной кассы. Роже, блестящий ученик, поступает в лицей Людовика Великого.
1930–1931. Жильбер-Леконт вводит Кайуа в круг молодых писателей и художников, членов близкого к сюрреализму объединения «Большая игра».
1932. Кайуа учится на подготовительных курсах для поступающих в Эколь Нормаль. Газета «Энтрансижан» публикует анкету о литературных вкусах будущих студентов. Отвечая на вопросы от имени группы учеников, Роже подчеркивает значение сюрреализма. Посылает свой ответ Андре Бретону и вскоре, по приглашению мэтра сюрреализма, вступает в его группу.
1933–1936. Роже – студент Эколь Нормаль. Он поступает также на отделение религиоведения Высшей школы практических исследований, где посещает лекции Жоржа Дюмезиля, Александра Кожева, Марселя Мосса (вплоть до 1939 года).
Публикует эссе «Богомол» в журнале «Минотавр». Порывает с сюрреалистами. Эссе «Интеллектуальный процесс над искусством».
Участвует в антифашистских и коммунистических демонстрациях.
Знакомится с философом Жоржем Батаем и и готовит совместный проект антифашистского и антисталинского манифеста «Контратака» (поссорившись с Батаем, Кайуа отказывается подписать манифест).
По предложению Жана Полана начинает сотрудничать с журналом и издательством «Нувель Ревю Франсэз».
Вместе с Тристаном Тцара, Луи Арагоном и Жюлем-Марселем Монро основывает орган Группы исследований феноменологии человека – журнал «Энкизисьон» («Расследования»). Выходит лишь один номер этого журнала.
Получает степень «агреже» по специальности «Грамматика» с правом преподавания в лицее.
Знакомится со своей будущей женой Иветт Бийо.
Посещает Польшу, Италию, Чехословакию, Лапландию.
1937. Вместе с Жоржем Батаем и Мишелем Лейрисом основывает Социологический коллеж. «Богомол» издан отдельной книгой.
1938–1939. Публикует книгу «Миф и человек».
Лекции и статьи Кайуа вызывают полемический отклик, обвинения в проповеди «фашистской революции». Он объявляет себя коммунистом.
1939. Знакомится в Париже с Викторией Окампо – яркой женщиной, на 22 года старше Кайуа, оказавшей глубокое влияние на его личность и судьбу. Блистательная аргентинская аристократка руководит журналом и издательством «Сур» («Юг»). Это своего рода мост между латиноамериканской и европейской культурой. По ее приглашению молодой культуролог летом прибывает в Буэнос-Айрес. Он не знает испанского, по-французски читает лекции о мифе. Во Франции выходит его книга «Человек и сакральное». Для журнала «Сур» он пишет статью «Природа гитлеризма».
1940–1944, Латинская Америка. Кайуа сотрудничает с Великобританией и читает антифашистские лекции в Уругвае. Протест германской миссии закрывает ему путь на родину. Вместе с соотечественниками организует в Аргентине Комитет поддержки генерала де Голля.
Виктория Окампо знакомит его с латиноамериканскими писателями и их творчеством.
В марте 1940 года во Франции рождается его дочь Катрин, и в 1941-м Кайуа женится на Иветт Бийо, приехавшей с ребенком в Аргентину.
С помощью Виктории Окампо издает журнал «Леттр Франсэз» – рупор свободной Франции. Устанавливает контакты с писателями, покинувшими оккупированную Францию (Андре Бретоном, Сен-Жон Персом, Жюлем Сюпервьелем, Жоржем Бернаносом, Жаком Маритеном и др.).
Совершает путешествие в Патагонию и пишет очерк «Патагония». Совершает поездку с лекциями в Бразилию. Выходят его книги «Детективный роман», «Сизифов камень» (в Аргентине), «Власть романа» (в Марселе).
1945–1950, Франция. По возвращении в Париж Кайуа возглавляет новую коллекцию издательства «Галлимар» «Южный Крест» – собрание произведений испанской, португальской, латиноамериканской литературы. Переписывается с Викторией Окампо – их переписка продлится всю жизнь (Виктории суждено пережить Кайуа на месяц).
Руководит журналом «Констелласьон» («Созвездие»).
Совершает командировки в США, Мексику, Колумбию, Гватемалу в целях развития культурных связей. В 1948 году принят на службу в Бюро идей ЮНЕСКО.
Готовит к изданию Полное собрание сочинений Монтескье. Публикует ряд эссе («Обман поэзии», «Словарь эстетики», «Вавилон», «Описание марксизма» и др.).
Его брак с Иветт распадается.
1951. В коллекции «Южный Крест» выходит первый том – «Вымышленные истории» X. Л. Борхеса. По поручению ЮНЕСКО Кайуа работает над программой переводов латиноамериканской литературы. Публикует «Четыре эссе по современной социологии».
1952–1953. Кайуа создает журнал «Диоген» – орган Международного совета по философии и гуманитарным наукам – и разрабатывает теорию «диагональных» наук (исследования «пограничных» проблем, объединяющих смежные дисциплины).
Присоединяется к организованному Альбером Камю комитету защиты Виктории Окампо, преследуемой правительством генерала Перона.
1954. Выходит в свет его книга «Поэтика Сен-Жон Перса».
В этом году и в дальнейшем Кайуа совершает много поездок по поручениям ЮНЕСКО.
1955–1965. Бессрочный контракт с ЮНЕСКО. Публикуются книги «Поэтическое искусство», «Сокровища мировой поэзии», «Антология фантастического», «Игры и люди», «Понтий Пилат», «Обобщенная эстетика», «В глубь фантастического»…
В 1957 году Кайуа женится на Алёне Вихровой.
С увлечением коллекционирует минералы.
1966. Выходят в свет книги «Камни»; «Образы, образы…». Кайуа совершает поездка в Аргентину, вновь встречаетсся с Викторией Окампо.
1967. Кайуа назначен руководителем Отдела культурного развития ЮНЕСКО.
1970. Изданы его книги «Клеточки шахматной доски»; «Письмена камней». Он выступает в защиту чехословацкого профессора Вацлава Черны, жертвы нападок газеты «Руде право».
1971.4 января Кайуа избран членом Французской академии.
Читает в Оксфорде доклад, посвященный асимметрии.
Мигель Анхель Астуриас вручает Кайуа шпагу от имени латиноамериканских писателей.
1973–1976. Выходят в свет «Асимметрия», «Спрут», «Подходы к воображаемому», «Рискованные связи», «Отражённые камни».
1977. Кайуа избран иностранным членом Бразильской литературной академии.
1978. Изданы опыт автобиографии «Река Алфей» (премия имени Марселя Пруста); «Встречи», «Подходы к поэзии», «Три урока тьмы», «Скрытые повторения». В сентябре писатель удостоен Национального Гран-при в области литературы.
21 декабря Кайуа умирает. Его похоронили на Монпарнасском кладбище в Париже.
Наталия Кислова
Грани опыта Роже Кайуа
Говоря о Роже Кайуа (1913–1978), трудно избежать противопоставлений. Автор более трех десятков книг, в 1971 году он удостоен редкого почетного отличия – избран членом Французской академии; в 1978-м увенчан национальным Гран-при в области литературы. А между тем «он не был ни романистом, ни философом, ни поэтом, ни драматургом. По его произведениям не сняли ни одного фильма… Невозможно отнести его к какой бы то ни было рубрике»[123]123
Ormesson J. d' Diagonales et cohérences sur l’échiquier de l’univers // Europe. 2000. № 859–860. P. 9. Этот номер журнала целиком посвящен творчеству Р. Кайуа.
[Закрыть]. Он не был похож на отшельника: напротив, находился в гуще общественной жизни, борьбы идей, эстетических и научных концепций, был участником и организатором литературных и исследовательских объединений, занимался издательской деятельностью, работал в ЮНЕСКО, выступал как правозащитник – и, несмотря на все это, оставался одиночкой, который неуклонно шел своим путем. В 1972 году, в связи с переизданием ранней книги, он отмечает «единство, непрерывность, настойчивость» своих изысканий и радуется тому, что верен «своей исходной мысли»[124]124
Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 35.
[Закрыть]. Однако в «Отражённых камнях», вышедших в 1975 году, называет себя не иначе, как «отступником».
Поразительна широта его интересов. Он «все читал и все понял»[125]125
Ormesson J. d` Op.cit. P. 11.
[Закрыть]. Он писал о многом. Он объездил мир. И оказалось в итоге, что всего привлекательней для него пейзаж, увиденный в камушке, который умещается на ладони. Внутренние противоречия этой по-настоящему многогранной фигуры разрешаются «лишь в высшем единстве личной судьбы»[126]126
Зенкин С. Роже Кайуа – сюрреалист в науке. В кн.: Кайуа Р. Миф и человек… С. 8.
[Закрыть].
Нельзя не согласиться с тем, что противоречия эти во многом обусловлены «игрой двух дискурсов» – художественного и научного, «между которыми располагается его творчество»[127]127
Там же.
[Закрыть]. В начале пути Кайуа – важный эпизод сближения с сюрреалистами, завершившийся в 1934 году открытым размежеванием с Андре Бретоном. Отголоски этого расхождения прозвучат спустя тридцать лет. «Меня влечет тайна… неразгаданное притягивает… словно магнит». И вот почему: ему не нравится «не понимать». «Вместо того, чтобы заранее считать неразгаданное не подлежащим разгадыванию и застыть перед ним в блаженном изумлении, я полагаю, напротив, что оно ждет разгадки» («В глубь фантастического»).
В 1930-е годы, порвав с сюрреализмом, он выбирает путь понимания, ясности. «Человек разума»[128]128
Юрсенар М. Человек, любивший камни //Юрсенар М. Избранные сочинения, СПб., 2004. Т. 3. С. 562.
[Закрыть], обладатель блистательного, острого, универсального ума, он погружается в культурно-антропологические изыскания, подчеркивая строгую объективность и беспристрастность аналитического подхода к предмету, будь то само воображение. «Принципы „структурализма“ послевоенных лет были уже ясно изложены в первых социологических работах Кайуа», – отмечает Ж. Старобински[129]129
Starobinski J. Saturne au ciel des pierres // Europe. P. 15.
[Закрыть]. Знакомые русскому читателю книги «Миф и человек» (1938), «Человек и сакральное»(1939), вместе с более поздними – «Люди и игры» (1958), «Беллона, или склонность к войне» (19бЗ), определили существенное место, которое отводит автору Клод Леви – Стросс в интеллектуальной истории нашего времени.
От художественной словесности Кайуа тогда решительно отворачивается. Впоследствии он комментирует свою «ненависть к литературе»: «…Писать о чем-то вымышленном означало, в моем представлении, лгать… Я не мог написать что-либо, не считая это правдой»[130]130
Rabourdin D. Entendre Caillois // Europe. P. 26.
[Закрыть]. Предпочтя науку, Кайуа уходит от коллизии, условно говоря, между поэзией и правдой. А точнее, для него были неприемлемы художественная фантазия, поэтический троп, не обеспеченные достоверностью внутреннего опыта.
Подчиняясь судьбе, забросившей его в 1939 году в Южную Америку, где ему пришлось надолго задержаться из-за войны, он (поневоле, не без колебаний) вернулся к литературе: стал ее защитником, пропагандистом, переводчиком и, наконец, писателем. М. Юрсенар с благодарностью вспоминает тонкие тетрадки издававшегося им журнала «Леттр франсэз» – свидетельства живучести французской литературы в эпоху оккупации Франции. Ему выпала миссия проводника латиноамериканской литературы в Европе, основателя серии «Южный Крест» в издательстве «Галлимар».
Открытие нового мира, непознанного континента разбудило в нем поэта. К очерку «Патагония» (1942), по праву названному Юрсенар «маленьким шедевром»[131]131
Юрсенар M. Указ. соч. С. 570.
[Закрыть], восходят истоки той поэзии-прозы, которой, как признают исследователи его творчества, невозможно найти место в традиционной литературной классификации. При всем тематическом и формальном многообразии написанного, сочинения Кайуа (как и все, что не подлежит классификации в литературе) укладываются в неопределенно-растяжимые границы жанра эссе. «Я никогда не писал чего-либо вымышленного»[132]132
Rabourdin D. Op. cit. Р. 26.
[Закрыть]. Даже повесть «Понтий Пилат», считает он, ближе к этическому трактату, чем к художественной прозе. Не вымысел, но опыт – вот, кажется, единственный критерий этого самого свободного из жанров. Кайуа испытывает возможности всех его разновидностей – от пространного размышления-рассуждения до компактного философско-поэтического описания. В особенностях его эссеистики отразились все смысловые оттенки французского «essai»: проба, испытание, опыт, попытка, анализ.
Но и в рамках жанра творческая позиция автора не остается неизменной. В произведениях, представленных в нашем сборнике, мы встречаемся с собирателем диковин, готовым любовно и терпеливо рассматривать экспонаты своего «музея фантастического». В книге «В глубь фантастического» перед нами вооруженный логикой и эрудицией наблюдатель в анатомическом театре тайны. «Отражённые камни» описывают иной опыт – опыт человека, который бесстрашно погружается в головокружительную бездну созерцания.
Он двигался «от понятий к предмету»[133]133
Юрсенар М. Указ. соч. С 578.
[Закрыть]. Обратившись к «фантастическому в природе», он углубился в мир камней. Любовь к камням открыла новую и, может быть, лучшую страницу творчества Кайуа. Книги, посвященные минералам («Камни», 1966; «Письмена камней», 1970; «Отраженные камни», 1975; «Скрытые повторения», 1978), фиксируют внутреннюю перемену, которую он назвал своим отступничеством. «Когда-то сюрреалист стал рационалистом, теперь рационалист превратился в атеиста-мистика», – резюмирует Ж. д’Ормессон[134]134
Ormesson J. d' Op cit. P. 11.
[Закрыть]. Юрсенар связывает кризис рационализма и гуманизма Кайуа с «огромной усталостью» от потрясений эпохи, подорвавших веру в человеческий разум. «С этим великим мыслителем произошло нечто подобное коперниковской революции: человек больше не находится в центре вселенной… Он, как все остальное, является частью системы крутящихся колес»[135]135
Юрсенар М. Указ. соч. С. 572.
[Закрыть].
К отказу от антропоцентризма вела сквозная для его творчества идея единства вселенной – идея, в которой он все более утверждался. На всех уровнях – физическом и психическом, материальном и интеллектуальном, в живой и неживой природе, в мире растений, животных и человека действуют одни и те же закономерности, проявляясь в виде необъяснимых соответствий, совпадений, повторений. Между творениями человека и природы нет принципиального различия: человек, с его разумом и воображением, лишь продолжает природу. В ней неопровержим приоритет минералов. На циферблате геологических часов время жизни мизерно, время человеческой истории ничтожно. «Камни стары: старше жизни, старше человека… До камней не было ничего – лишь геометрия пустых пространств»[136]136
Здесь и далее цитаты без ссылок – из книги «Отражённые камни».
[Закрыть]. Камни – «исходный запас» и основа всего сущего; каждый из них – микрокосм и окно, за которым открывается анфилада Зазеркалья. Взаимоотражения двух реальностей – мира камня и мира человека – убеждают в том, что «науке не измыслить точности, бреду не создать фантазии, искусству не добиться гармонии и смелости, которыми не обладали бы в зародыше, в идее или в несомненной и великолепной законченности структуры, формы, рисунки камней».
Камень становится отправным пунктом мыслегрезы Кайуа, пограничной между ясностью и дрейфом фантазии. Слово «мистика», которым он сам обозначает свое приближение к скрытой сущности вещей, принято им не без оговорок. Речь идет о мистике «без теологии, без церкви и без божества» – «мистике материи». Его чувство соприродности минералу так глубоко и подлинно, что он чуть ли не перевоплощается в кристалл – кварц, кальцит или крупицу соли.
Поэзия в поздних размышлениях Кайуа предстает как «наука» – «наука о плеоназмах мира, наука о соответствиях»[137]137
Из последнего интервью Кайуа. Цит. по: Laserra A. L’art du pontonnier // Europe. P. 188.
[Закрыть]. Тем самым он вводит поэзию в контекст междисциплинарных исследований, занятых установлением «диагональных» связей между явлениями универсума (с 1952 года Кайуа развивал этот проект на базе основанного им журнала «Диоген»). Оперируя «точной» метафорой (то есть образом, гарантированным реальностью), поэзия – на первый взгляд, вопреки здравому смыслу – обнаруживает «скрытые очевидности» и помогает «расчищать дебри мира», выявляя его «синтаксис»[138]138
Цит. no: Gardes TamineJ. Un grammairien poete // Europe. P. 234–235.
[Закрыть].
Он совершенствует огранку найденной им литературной формы – поэтического очерка-миниатюры. Его портреты камней родственны и притче (ему так хотелось обогатить хотя бы одной новой притчей их сокровищницу), и стихотворению в прозе. Ритмическое членение текста на отчетливо выделенные абзацы напоминает о стихосложении, даже о строфике. Где искать параллели этой величавой афористичности, этих проникнутых скепсисом констатаций, этих «неизбежно» и «неминуемо»?
Может быть, в библейских «книгах премудрости»?
Род проходит, и род приходит,
А земля пребывает во веки.
…Не может человек пересказать всего;
Не насытится око зрением;
Не наполнится ухо слушанием.
Что было, то и будет;
И что делалось, то и будет делаться,
И нет ничего нового под солнцем.
(Еккл 1; 4,8–9)
С чем сравнить щемящую пронзительность вдруг прорывающихся скупых признаний одинокого сердца стоика, лишенного иллюзий? Он видит себя «деревом в час листопада» и ищет опору в несокрушимой твердыне камня. Он вычитывает в этих скрижалях близкий ему кодекс «древней строгости», заповеди высокой дисциплины ума и речи.
У камней он учился смирению, подобно людям, «любящим всё малое» (Б. Паскаль). За смирением тенью шла гордость. Его дерзкий ум не покидала грандиозная мечта: «открыть, вычислить алфавит» – найти ключ к «универсальному шифру», вписанному «во все вещи, во всё живое», к тайному коду, связавшему воедино все структуры вселенной.
Этой идеей вдохновлена вышедшая в 1978 году книга «Скрытые повторения: Знаковое поле. Очерк о единстве и непрерывности физического, интеллектуального и воображаемого мира, или Начала обобщенной поэтики». Подзаголовок («Знаковое поле») странно омонимичен выражению «лебединая песня». Знаток языка, внимательный к тончайшим его нюансам, не проронивший случайного слова, проницательный толкователь аналогий предугадал судьбу. Книга стала последней.
Роковой приступ болезни, от которого он уже не оправился, настиг его на выставке минералов. Так хранители неизреченных тайн проводили его до порога безмолвия.