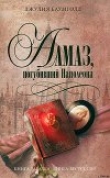Текст книги "Красная лошадь на зеленых холмах"
Автор книги: Роман Солнцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
10
Они встречались, но не так часто, как этого хотелось обоим.
Однажды во время работы Алмаз, словно оправдываясь, сказал Нине:
– В вечернюю школу хожу… Времени нет совсем.
Нина помолчала, а потом быстро спросила, потому что невдалеке замелькали чьи-то сапоги, новые, с розовыми пятнышками на носках, японские, наверное, Руслана:
– Когда занятия кончаются?
– Около одиннадцати.
– Подходи к нашему общежитию… Если хочешь, конечно…
Алмаз отошел в сторону, бормоча про себя: «Если хочешь…» Зачем такие слова? Зачем говорить слова, которые совсем лишние, в уши не входят, а долго висят в воздухе, как дым или веревки, мешают жить… «Если хочешь». Конечно, хочу!»
Алмаз еле отсидел до конца занятий. Он совершенно не понимал, что говорила Амина Фатыховна, маленькая женщина с очень румяным лицом. Она улыбалась, если шумели, улыбалась, как кукла, когда ее слушали и не слушали, мужественно и бесконечно. Алмазу было жаль ее. «Любит ли ее кто-нибудь? Ах, бедная!..» Она рассказывала новый урок, а Шагидуллин рисовал в тетради всякую всячину: губы, глаза, восходящее солнце, туфельку.
Наконец прозвенел звонок, и он выскочил на улицу. Брюки затрепетали на его худых длинных ногах.
Ночи стояли ветреные, ледяные, лужи на асфальте возле автоматов с газированной водой черно блестели, и по ним каталась детвора.
Вокруг луны, когда она выскакивала из-за тучи, порхали не то мокрые снежинки, не то обледенелые капли дождя, пасмурные тени бежали по лицам прохожих. Цветы в скверике возле кинотеатра «Чулпан» замерзли и мерцали в темноте. Алмаз сунул руку через забор и сорвал одну астру, цветок хрустнул, как соломинка, и тут же начал в теплой ладони вянуть и гнуться. «Видно, морозом сковало сегодня… – подумал Алмаз. – Скорей, пока не растаял!» Он подбежал к общежитию Нины, натягивая кепку на лоб, дул сильнейший ветер, Нины нигде не было. «Конечно, не придет, – огорченно подумал Алмаз. – Так холодно…»
Но тут она появилась, в короткой юбочке, как тогда, на празднике, в толстой синей куртке, затянутой на шнурки внизу, и поэтому круглой, как верхняя половина скафандра. Остановилась, посмотрела вокруг, наконец увидела Алмаза и быстро зацокала на каблучках к нему. «Она что, плохо видит? – удивился Алмаз. – Или тоже волнуется? Сразу подойти застеснялась? Ветром глаза заслезило? Милая… И зачем она в юбке? Так холодно! Вышла бы лучше в комбинезоне… Ноги такие красивые, темным золотом блестят, а ведь мерзнут, наверное… Или у них в ногах крови больше?»
Алмаз протянул ей полумертвый белый цветок. Он бы не удивился, если бы Нина бросила его через плечо, но девушка так обрадовалась цветку, мохнатому, смешному, нюхала его, гладила, тормошила пальцами, словно это была не астра, а кошечка или безглазый белый пудель…
– А я тебе тоже принесла, – сказала Нина, глядя на Алмаза снизу вверх и улыбаясь озябшими губами. – Вот. Только один-один читай. Это стихи.
Алмаз взял в руки мягкую толстую записную книжечку, запер в портфель. Они постояли, глядя друг на друга, и медленно побрели по ледяной улице.
Время одиннадцать вечера, а народу здесь – без конца… Одинокие парни с транзисторами, девушки, взявшиеся под руки, мальчишки с гитарами шли и бежали по проспекту. Сухой кленовый лист прошелестел на асфальте и пропал в темноте.
Снова моросил дождь, вокруг фонарей светился влажный шар в воздухе.
– Холодно, – проговорила Нина. – Может, я пойду?
– Ну-у… уж немножко погуляем.
Они зашли и встали в затишье, спиной к высотному кирпичному дому. Нина стучала туфелькой о туфельку, Алмаз, глядя из сумрака на освещенную улицу, молчал. Он не знал, что говорить, что делать.
– Только один читай, один, – снова сказала Нина.
– Один буду.
Замолчали. Алмазу было страшно, что как-нибудь не так себя поведет. Испытывая неловкость, он посматривал на ненастное небо, совал руки в карманы, чесал затылок, морщился, тер глаза, стараясь показаться озабоченным, а Нина глядела на него с ласковой, непонятной ему улыбкой, время от времени лицо ее становилось напряженным, глаза блестели печально, словно она прощалась с ним. «Почему у девушек такой взгляд? Вот парень посмотрит – ничего особенного. А любая девушка посмотрит – чего только в глазах у нее не померещится!..»
– Пошли в парк, – сказала Нина.
– Идем!
«Наверное, замерзла, – решил Алмаз. – А там совсем тихо».
Они побежали через проспект, разогрелись, задохнулись, и, когда вошли в сосняк, им было жарко. Над главной аллеей тускло горели лампочки. Навстречу шел народ. Наверное, если свернуть в сторону, в чащу, там ни зги не видно. Алмаз опустил голову и с неуклюжей хитростью предложил:
– Идем туда, там ветра нет.
Они оказались в сплошной темноте. Алмаз взял Нину за руку, она выдернула ее.
– Я сама.
Двое шли друг за другом, вытянув вперед руки, чтобы не выколоть себе глаза в лесу. Песчаная аллея осталась далеко, исчезли звуки шагов, дальние голоса. Алмаз и Нина остановились, совсем не видя друг друга. Алмаз дрожал, и не потому, что ему было холодно, просто с ним что-то происходило от близости Нины. Пытаясь как-то унять эту дрожь, он потянулся вверх и сорвал ветку с молоденькой сосенки, тугой и мокрой. На землю с хвойных чашечек посыпался крупный дождь.
– Ой! – воскликнула Нина. – Ты не пугай маленькую девочку.
– Я не пугаю, – отозвался Алмаз. Она шепнула:
– Тихо как…
Над черным парком текли, чуть отсвечивая, еле заметные в сырой темноте тучи – их освещал город.
– Когда к Москве подлетаешь, – проговорила Нина, – внизу облака… так говорят они, мерцают, даже страшно… словно в освещенную воду самолет падает.
– А ты была в Москве? – с завистью спросил Алмаз.
– Была.
– И все-все видела?
– Видела. И Красную площадь, и Большой театр, и выставки. Я мало была, день всего.
– Все равно замечательно.
У Алмаза глаза зоркие, он уже стал различать во мраке, где бугорок, где дерево.
– Здесь скамейка! – удивился он.
– Да? Где? А-а, вижу.
Но Нина в темноте не видела, и Алмаз, взяв ее за руку, подвел к скамейке.
– Она мо-окрая!.. – Девушка провела пальцами по доскам.
– А у меня портфель. Садись.
– А ты?
– А мне все равно.
Они сели рядом и стали смотреть перед собой, в темноту. Алмаз положил руку себе на правую коленку, чтобы не прыгала, и стал насвистывать. Ему было неловко: он не знал, чем занять Нину. Что-нибудь рассказать? А будет ли ей интересно? «Эх, произошло бы что-нибудь! Какие-нибудь хулиганы бы пристали, что ли?» И словно кто-то услышал его мысли – в сосновом лесу послышались голоса и смех. Алмаз засвистел громче. В темноте вспыхнул фонарик, сзади подходили. Нина прижалась к нему.
– Пойдем… пойдем отсюда…
Но Алмаз не шевелился. Шаги все ближе, ближе.
– Эй, парень, закурить не найдется?
«Всегда они 'так начинают. – отметил, холодея, Алмаз. Он никогда не дрался, только боролся на сабантуе. Но ведь это совсем другое дело. – Ничего. Как-нибудь».
Шаги приблизились, за спиной стояли люди, он почувствовал запах табака и пива. Кто-то тронул его за плечо, Алмаз, жмурясь и исказив злобой лицо, вскочил и обернулся к ним.
Видимо, парни не ожидали, что он такой высокий. Тут же отвернули фонарик в сторону, с уважением пробормотали:
– Прости, брат. Курить ищем.
И ушли в темноту.
«Может, и в самом деле курить искали?.. А я-то разбежался! Тьфу, стыдно!»
Алмаз, кусая трясущиеся губы, сел снова на мокрую скамью, Нина схватила его за руку:
– Они не вернутся?..
– Никогда, – ответил Алмаз.
Она засмеялась, коверкая голос, прощебетала:
– Ой, как я испугался!.. Какой я маленький и весь напуганный!..
– Не надо, не бойся. Люди очень хорошие… В нашем городе нет чужих… Не бойся.
– Хорошо, Алмаз… И снова стало тихо.
Глаза привыкли к темноте. Тучи над сосновой рощей казались уже светлыми, и под соснами клубились тени. Алмаз посмотрел на Нину и заметил, что она улыбается. Или ему показалось? Он снова принялся смотреть перед собой в дождливый сумрак. Прошло минут двадцать, а может быть, час.
– Ты знаешь… – тихо начала вдруг Нина. – Ты внаешь… когда я была совсем-совсем девчонкой-малышкой, я лежала однажды возле речки, на песке… солнышко грело, с другого берега ветер дул, и вемляникой пахло… и тепло было, и я уснула… А проснулась ночью и вижу: прямо надо мной стоит что-то белое, дышит, белое, страшное! Я закричала, быстро глаза ладошками захлопнула, а потом… два пальца на правом глазу потихоньку открыла… правый глаз, он смелее, чем левый, как правая рука сильней левой… открыла глаз и вижу: да это лошадь! Стоит, белая, хвостом машет, на меня смотрит. Я так обрадовалась! Я вскочила, начала гладить ее по морде, по холке.
– Лошадь… это хорошо… – вздохнул Алмаз. – Л-лошадь – это замечательно… У нас в деревне есть много лошадей. Я тебе как-нибудь расскажу, Нина. А я в детстве только один раз испугался. У нас была мечеть, она стояла на свайках. И в народе говорили, что ночью, если долго-долго смотреть, зеленые и желтые огни видно. Это глаза чертей. Они вылезают из земли, чтобы напомнить людям, что их ждет, если они в мечеть ходить не будут. Конечно, глупость. Опиум для народа, я понимаю. Но мы были маленькие, и мы пошли… Ночью. Нас человек десять. Страшно. Тихо. Подошли к мечети, наклонились, стали заглядывать. Смотрели, смотрели – никаких огней. Тогда Сулейман – был такой смелый мальчик – плюнул на мечеть и говорит: «Вот я плюнул на мечеть. Если уж этому черти не обрадуются, значит, их и вовсе нет!» И вдруг как загорятся зеленые страшные глаза под мечетью! Мы кто куда!..
– И что это было?
Алмаз тихо засмеялся.
– Мечи! Кошка!
Они долго сидели и смеялись, глядя друг на друга. И как-то так вышло, что руки Нины очутились в больших ладонях Алмаза, лица их сблизились, и словно темные птицы летели между их лицами – Алмаз то видел ее лицо, то нет, это волоклись черные и светлые тучи по небу… Лица их приблизились, и они уже не смеялись, они были очень серьезные.
У Алмаза кружилась голова, шумело в груди, он сейчас Нину поцелует…
– Нет, нет! – воскликнула Нина и отпрянула. – Не сейчас!..
Он разлепил сухие губы, сам отодвинулся, растерянно пробормотал:
– Я? Знаешь… Холодно… – Рассмеялся, нахмурился, пожал плечами.
И снова ему показалось, что Нина, глядя на него, странно улыбается.
Он резко повернулся к ней, она испуганно встала.
– Идем, идем, уже поздно… Я никогда себе не позволяла такого… Сегодня со мной что-то прямо случилось… Идем, уже очень поздно.
И, не останавливаясь, пошла. Алмаз схватил портфель и побежал следом.
– Зачем, зачем так быстро? – спросил он. – Нина!
– Поздно, поздно… – шептала она. – Меня же не пустят в общежитие! И я замерзла.
– Конечно, конечно… – повторял Алмаз.
Они говорили не о том и понимали это. Быстро шли по ледяному городу.
Алмаз силился что-нибудь придумать на прощание, сказать что-нибудь особенное, но слова склеились, и вместо слова, которое он хотел сказать, выскакивало совсем другое:
– Нина… если… погода… если… я говорил…
Они не встретили ни одного человека. Только листья, шурша, летели по мостовым, и стояла с работающим мотором возле дома на углу «скорая помощь», шофер читал газету.
Когда подошли к общежитию, Нина обернулись. Минуту смотрела на него, затем восторженно сказала:
– Ты такой хороший… ты даже сам не знаешь, какой ты хороший! Ну отпусти меня, не пугай маленькую девочку.
Алмаз пожал плечами.
– Я пошла. Прощай.
– Почему-у «прощай»? – жалобно спросил Алмаз. Он знал, что «прощай» говорят, когда расходятся навсегда. – Почему «прощай»? Разве не до свидания?
– Это все равно, – тихо засмеялась Нина. – У нас и так и так говорят. Ну до свидания… отпусти меня…
Он топтался, горбился, не зная, что сказать.
– Ах, какой невозможный… – прошептала Нина и быстро потянулась к нему, – он еле успел пригнуться, – поцеловала в губы. В тот же миг глаза ее погасли, стали тоскливыми. Она скрылась в своем темном подъезде…
В комнате уже спали, но свет горел.
Алмаз разделся, удивляясь, какие у него холодные ноги, погрел в кулаке красные, замерзшие пальцы, потом накрылся простыней и, пряча под ней записную книжечку Нины, стал читать. Было хорошо видно. Это оказались стихи, переписанные красивым Нининым почерком. То красные чернила, то синие, то простой карандаш. Алмаз, шевеля губами, читал:
Выткался на озере алый свет зари…
Знаю, выйдешь вечером за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие, под соседний стог…
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуда нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в алостях зари…
Алмаз начал согреваться. Он лихорадочно шмыгал нохом, глядел на часы: половина третьего… три… пятнадцать минут четвертого… Глаза устали, но вытащить на свет стихи Алмаз не решился, вдруг парни увидят, застыдят.
Пусть даже рвется сердце до крови,
не разрешай поцелуя без любви!
«Значит, она меня любит… – понял Алмаз. – Значит, любит». Красными чернилами было написано:
У голубки – голубок,
у речки – море-океан,
а у девушки – дружок,
нехороший мальчуган…
Черным было написано:
Со мною вот что происходит,
ко мне мой лучший друг не ходит…
И фамилии под стихами стояли: Есенин, Евтушенко, Щипачев, Иван Прохоров, Берггольц, Цветаева, а кое-где просто инициалы: Н. Н., Н. П., Т. И., А. Ч. и т. д. Может быть, подруги Нины? В конце записной книжки алели две строки:
Кто любит вас сильней, чем я,
пусть пишет ниже меня!
А ниже писать было уже негде. Хитрый какой-то кавалер. «Ничего, мы еще посмотрим!..» Алмаз шмыгнул носом, снова вернулся к началу.
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
имя тонкое растаяло, как звук,
но остался в складках смятой шали
запах меда от невинных рук.
Алмаз ворочался, укрывшись с головою простыней, шуршал страницами, сопел и, видимо, разбудил чутко спавшего Илью Борисовича. Человек с усиками поднялся, минуту сидел на кровати, не понимая, почему горит свет и кто это шуршит, неужто мыши… Наконец заметил, что Алмаз возится под простыней. Илья Борисович еле слышно захихикал:
– Ты что? Любовное письмо читаешь?
Алмаз выглянул из-под простыни распаренный, злой. Страшно смутившись, буркнул:
– Пушкина маленько…
Бывший художник в майке, в длинных черных трусах, вдруг дернул щекой в склеротических красных жилках и, поочередно поднимая то левую руку, то правую, прочитал свистящим шепотом, стоя посреди комнаты:
Нет, не тебя так пылко я люблю…
не для меня кр-расы твоей блистанье…
люблю в тебе я пр-рошлое страданье…
– Страданье понял? Слушай, мы тоже это знаем! Не фофаны какие-нибудь!
…и молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
в твои глаза вникая долгим взором,
таинственным я занят разговором,
но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
в твоих чертах ищу черты другие,
в устах живых… уста… давно немые…
в глазах огонь угаснувших очей…
– Эх, мальчик мой… Эх!
На глазах Ильи Борисовича сверкнули слезы. Он подошел к Алмазу, сжал больно ему руку. Долго так держал и кивал головой. Потом нашел слова:
– Это поэзия! Поэзия, брат! Не какая-нибудь антимония! Это… ты погоди, я сейчас приду.
Он вышел в коридор, через несколько минут вернулся, совершенно растроганный.
– Извините, пардон, как говорят французы. Я что котел сказать? Это поэзия, – горячим шепотом продолжал Илья Борисович, щеки его блестели. – Ах, как я вагубил свою любовь, мой мальчик… как я ее загубил…
Он присел к столу, по-прежнему в майке и трусах, сжимая голову в ладони.
Алмаз хотел его утешить, но не знал, что сказать. Он лег на живот и уткнулся в подушку.
Так прошло какое-то время.
– Ну чего вы, чего вы не спите-то? – громко захныкал шофер Петя. – Болтают и болтают… скоро вставать…
Бывший художник за столом не шевелился. Алмаз тихонько встал, выключил свет, вернулся в свою горячую постель и мгновенно уснул. Он спал, раскинув руки, открыв грудь, но долго еще сидел за столом Илья Борисович; в полумраке белели его плечи и соль на столе.
Шагидуллин спал всего часа три, но на завод приехал вовремя.
Он увидел Нину и снова поверил, что ему ничего не приснилось. Но она была сегодня грустна и на Алмаза не смотрела, у него сердце захолонуло. «Что? Почему? – думал он. – Разлюбила? Нужно с ней поговорить…»
Поговорить не удавалось. Работы с каждым днем становилось больше, и бледные, недосыпающие девушки такого темпа не выдерживали. На днях часть бригады взялась крыть пол в цехе РИЗа – сажать на цемент железные плитки с узорчатыми отверстиями. Но пол стал получаться неровный… Нина пришла сегодня на обед последней, и, когда пила молоко к ело булку, лицо ее было как будто в извести, только возле губ чуть розовей. Алмаз спросил:
– Ты заболела?
Она слабо улыбнулась. Достала из кармана зеркальце, посмотрелась в него.
– Я, кажется, вчера… что-то лишнее себе позволила… больше этого не будет… не сердись на меня… – сказала она.
«Странно… – думал Алмаз, глубоко вздыхая. – В лесу, где никого не было, она мне не разрешила себя поцеловать, а на улице, возле дома, сама поцеловала. Может, в лесу боялась, что я не остановлюсь… Но разве я такой? А возле дома сама. А ведь могли увидеть… Ничего не понимаю».
В конце дня Нина подошла к нему.
– Хочешь, утром увидимся? Перед работой, за полчаса. Знаешь где? Возле литейного, ближе сюда, где эстакада. Где три флага, знаешь?
– Знаю, знаю. А сегодня?
Они, не останавливаясь, шли по РИЗу. Справа и слева в сумраке вечера громоздились станки, колеса до потолка, шишки на рукоятках, как тучи. Вокруг никого не было.
Алмаз взял Нину за руку. Теперь для него как дурман были эти поцелуи. Они ему снились всю ночь. Он весь день вспоминал вчерашнее. А сейчас, ничего не говоря, держал Нину за руку и смотрел на нее.
– Нет, нет. – Нина мотала головой и отталкивала Алмаза. – Не надо больше.
– Ну почему-у?..
– Не нужно. Слушайся старших.
– Ну почему-у?
Алмаз чуть не плача стискивал ей руки.
Они забрели в самые дремучие закоулки РИЗа, где еще много машин стояло, покрытых прозрачным целлофаном и черной бумагой. Здесь и свет не горел. До самого потолка мерцали станки. Алмаз сел на выступавший из рваной бумаги зубец колеса величиной с дверь. Нина встревожилась:
– Куда, куда сел? Еще затянет! Вот закрутится и затянет!
– Нет, не затянет… Нина, а Нина?
– Ну что?
– Нина…
– Нет. Я сказала?
– Ну почему?
Алмаз обнял Нину, посадил рядом с собой на колесо, он совсем потерял голову. Нина начала сердиться. Тогда Алмаз тоже рассердился, встал и пошел. Она – за ним.
Они выскочили на двор завода – вечер уже наступил. На свой автобус опоздали – пришлось им ехать с «итээровцами», на шикарном «Икарусе» с сиденьями в белых чехлах.
Домой вернулись около девяти. Алмаз в школу, естественно, не пошел – читал весь вечер стихи. Раньше он не читал стихов (школьная зубрежка не в счет!). И оказалось так интересно: всего десять-двадцать строк, а целая судьба, жизнь, трагедия…
Он снова тихонько шелестел страницами под простыней. С трудом вчитывался в строки, бормотал:
Песнь моя летит с мольбою
Тихо в час ночной…
«А вот какие, совсем бессовестные и хорошие стихи… Неужели где-нибудь напечатанные? Подпись: Фет. Кажется, такой поэт есть, в школе что-то про ласточек проходили…»
О, называй меня безумным! Назови чем
хочешь, в этот миг я разумом слабею
и в сердце чувствую прилив такой любви,
что не могу молчать, не стану, не умею!
Я болен, я влюблен, но, мучась и любя, —
о, слушай, о, пойми! – я страсти не скрываю,
и я хочу сказать, что я люблю тебя,
тебя, одну тебя люблю я и желаю!..
Красными чернилами были записаны стихи, начинавшиеся так:
О, говори хоть ты со мной,
подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
а ночь такая лунная…
Алмаз не выдержал, вскочил, оделся и выбежал на улицу.
Он ходил под моросящим дождем, подняв воротник плаща, глядел в освещенные окна женского общежития. Он увидит завтра Нину, увидит завтра, все ей скажет. Зачем она его мучает?..
Алмаз брел куда глаза глядят. И вдруг услышал песню.
Несколько мальчишек с двумя гитарами стояли и тихо пели, съежившись под бесконечным дождем, в затишье между домами. Раньше Алмаз презрительно проходил мимо этих длинноволосых городских ребят. «Наверное, нигде не работают, – думал он. – Наверное, белый хлеб с маслом едят, от тоски бесятся…» А сейчас вдруг понял: ведь они – его одногодки, Алмаз только ростом их выше, поэтому его судьба со взрослыми связала, а вот ведь где они, его одногодки, милые, незнакомые, дорогие! Они пели хриплыми, сорванными на ветру голосами, немножко позируя перед прохожими, с легким «иностранным» акцентом:
Я по ней тоскую,
Я люблю ее,
Я одни желаю —
Счастья для нее!..
Ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-а… Ла-ла-ла… ла-а… Они тоже были влюблены, они тоже были несчастны, иначе бы не стояли в сырую октябрьскую ночь на ледяном камне в тонких «лодочках», старательно вычищенных и тронутых бархоткой. Они смотрели только друг на друга, они стояли, раскачиваясь в такт песне, сгрудившись, словно вокруг невидимого костра, и ночной ветер дергал их за длинные волосы, закрывал лица…
Алмаз растрогался. Он слушал и кивал. Ему захотелось быть среди них. Он подошел медленно, они пели, только один из них, который повыше, покосился на него, продолжая отбивать с великой ловкостью на гитаре сложнейший ритм. Алмаз протянул руку, паренек с легким удивлением протянул свою, с темными пальцами, с куском изоленты на поцарапанной ладони… «Как я смел раньше так о вас думать?.. Мои дорогие товарищи!..» Алмаз показал жестами: ему нужны спички, ему дали спичек, и он отошел в сторону. Мальчики без передышки играли и пели:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза,
И поег мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
В эту ночь Алмаз долго не мог уснуть, хотя к его возвращению свет в комнате погасили. «Почему она для свидания выбрала такое странное место? Неужели она опять будет хмуро отводить глаза? Какие у этих мальчишек тонкие бледные шеи!.. И как смешно расклешены брюки!.. Словно юбки на каждой ноге… Опять дождь идет, такая ненастная осень…»
…Утром на вахте ему дали письмо, мельком глянул на бегу – от Белокурова. Положил в карман, он потом его прочтет. Алмаз торопился.
Не различая в рассветном сумраке дорогу, он шел пешком от РИЗа к литейному и тут же утонул по колено в густой грязи. Бетонные плиты осели глубоко в жиже, здесь пройдет КрАЗ, но человеку пройти невозможно. Алмаз в нерешительности остановился, почесал затылок. Еле вытащил из черно-желтой тины резиновые сапоги и вернулся обратно. Поднял валявшуюся двухметровую жердь. И опять ступил в глиняное месиво, меряя перед собой глубину. Он долго шагал так. Над отблескивающей в темноте глиной плыл ознобный туман. Алмаз очутился возле глубочайшей канавы и едва не сполз в нее. С огромным трудом передвигая в сосущей мерзости ноги, побрел вдоль нее. Неожиданно выросла перед ним серая гора бетонных балок, перекинутых через канаву. Спотыкаясь о железные кольца арматуры, он перебежал на другую сторону. И снова увяз. Сквозь тонкую резину сапог нащупал внутри глиняной толщи какие-то кирпичи, трубы, мотки проволоки и, осторожно становясь на них, выбирал дорогу. Посмотрев на часы, заторопился. Три флажка на алюминиевых шестах – там они, за черной дугой эстакады. Когда Алмаз выкарабкался на твердый край земли, он был по грудь в липкой красной грязи. Сняв кепку, вытер пот рукавом, долго стоял и не мог отдышаться.
«Вряд ли сюда придет Нина, – подумал он. – Она, наверное, забыла, что столько дождей пролилось. Сюда можно попасть только с самолета или из поля выйти…»
В полумраке осеннего утра флажки над землей вяло колыхались.
Алмаз стоял на краю поля. До горизонта никла серо-желтая неубранная рожь. Видно было, как по ней кругами прошли тяжелые машины… Что же делать, стройка! Что ж делать!..
Нина появилась как из-под земли.
Она вышла из этой ржи в синей куртке с башлыком, разглядывая промокшего Алмаза. Обошла его кругом, остановилась перед ним, на ее желтых сапожках не оказалось и капельки грязи. Что она, в самом деле сюда с неба попала?
– Бедный мой… блестит до живота… Ты прямо как русал!
– Какой русал? – обиженно буркнул Алмаз. – Есть русалка.
– Если есть русалка, значит, есть и русал, – быстро сказала Нина, спохватилась, перестала смеяться, закусила губу. – Бедный мой… Ты замерз?
Алмаз молчал, оттирая ладонями грязь на коленях.
Солнце еще не взошло. Серо-зеленое небо едва брезжило на востоке…
Они посмотрели друг на друга, Алмаз шагнул к ней и осторожно взял за руку.
– Не надо, что ты? – опуская голову, проговорила Нина, не отнимая руки. – Ты не думай, что я какая-то такая… ты не думай.
– Я не думаю…
– И не думай…
Алмаз осторожно обнял ее правой сухой рукой, Нина подняла глаза и сама к нему потянулась. Они стояли и целовались долго. Вокруг тускло мерцала рожь, вдали уже завывали, буксуя, КрАЗы, звенели звоночки кранов, лязгало железо… Алмаз обнимал девушку, ставшую для него самым дорогим человеком на земле, прижимаясь неумело губами к ее горячим губам.
– Нина… а курить вкусно? – спросил он, когда они отдыхали в изнеможении, глядя в разные стороны, но не отпуская друг друга. – Может, я тоже…
Нина помолчала, сильнее прижалась к нему.
– Ты такой ласковый, прямо сказать не можешь… я понимаю… Нет, нет, Алмаз, я брошу… я баловалась… А противно меня целовать, да? Кто сказал, что целовать курящую девушку – все равно что пепельницу…
– Зачем ты так говоришь?!
– Ты меня любишь?
– Люблю! Очень я люблю!
– Только ты не думай, что я такая… Когда ты рядом, я ничего не могу с собой поделать… Ой, не надо так… ты меня раздавишь… Слушай! Нам пора! Уже семь тридцать!.. Отпусти, а то я рассержусь! Слышишь? Шагидуллин!
У Алмаза кепка развернулась задом наперед, расстегнулась куртка. У Нины выбились волосы из-под башлыка. Она тяжело дышала. Сумерки, перемешанные с горьким дымом, текли над полями.
– Пошли, а то опоздаем.
– Нина, а как ты сюда попала? – наконец догадался спросить Алмаз.
– Сейчас увидишь… не жми руку, не пугай маленькую девочку.
Она вела Алмаза в поле, он недоумевал и, только когда обнаружил квадратную огромную яму в земле и ступени, понял: да здесь же переход! Какой же он дурак, Алмаз! Он слышал, слышал про переходы, но думал – разыгрывают. Нина показала рукой – здесь к литейному пройдет со временем скоростная бетонная магистраль, пятьдесят метров ширины, и поэтому заранее пробили под землей переходы. Стены отделывала бригада из соседнего СМУ.
Они спустились под землю, на бетонном полу чернели лужи, валялись сухие листья, колосья, всякий сор.
– Когда-нибудь рабочие Каваза смогут прямо из цехов выйти в цветущую рожь, – сказала Нина. – Прямо среди колосьев из земли будут; выходить. А в небе радуга… солнце… эх!
– А я слышал и не верил… – признался Алмаз. – Ведь это дорого.
Они пошли в полной темноте, останавливаясь и целуясь, прислоняясь к мокрым холодным стенам. Наконец выскочили на белый свет и оказались возле самого РИЗа. Небо в тучах посветлело, стекла корпусов поблескивали. Многие машины ехали с выключенными фарами… Скоро взойдет солнце.
Этот день Алмаз работал, как никогда раньше. У него губы горели от поцелуев. В обед он повел Нину в тот пасмурный, самый далекий угол РИЗа, где не было людей, а лишь громоздились до потолка станки, торчало из порванной черной бумаги чудовищного размера колесо. Они сели на зубец колеса, как на крышу, и долго здесь целовались…
– Ведь затянет, – пугалась Нина. – Заведется, зафырчит и затянет!..
– Ну и пусть!
Алмаза долго мучило, что Нина в прошлый раз возле этого колеса оттолкнула его, и ему очень-очень хотелось именно здесь ее поцеловать. Теперь он был радостно-спокоен. Они сидели на чугунном сиденье и вернулись к своей бригаде, пряча глаза, поминутно улыбаясь.
А здесь шло фотографирование. Нина и Алмаз едва успели.
Кирамов в белой рубашке с выпущенными из рукавов пиджака манжетами сиял. Он бегал между фотокорреспондентами и позирующей бригадой, подмигивал Руслану, поднимал брови, напевал, морщины расходились на его лице, как круги на воде, и снова сходились, ослепительно блестели белые зубы. Руслан с золотой гривой до плеч, в темных очках сидел на полу с гитарой.
Он уже приносил однажды гитару – когда работа шла плохо с железным полом. Девушки до этого слышали, что он поет и играет, но не верили – уж очень замкнут и серьезен Руслан. А он принес гитару и, пока они обедали, пел им песни, в основном на английском языке. Он тряс головой, крутил бедрами, невнятно улыбаясь и глядя сквозь черные очки на девушек. Руслан имел грандиозный успех. Наташа-большая сразу же определила, что он похож на Рафаэля. Одна из девочек покраснела и сказала, что он поет, как Карузо. Другая ляпнула, что Робинзон Карузо не пел, а всю жизнь на острове необитаемом прожил. Решили, что девочка неграмотная, взялись ей объяснять, но она тогда заявила, что все знает, что она иронизирует, что любит только одного Тома Джонса. Слух о бригаде с гитарой попал в газеты, и вот сегодня фотограф упрашивал девушек сесть полумесяцем и закручиниться, ладошкой под щеку, а Руслан будет петь, как акын, глядя вверх. Рядом на пол поставили белые бутылки кефира.
– «На обеденном перерыве» – такой заголовок пойдет? – спросил суетливый фотограф у Кирамова.
– Что ж, скромно и хорошо, – кивнул Кирамов.
Он в этот раз вместе с бригадой не фотографировался – неудобно примазываться к чужой славе, так сказал он громко. Алмаз тоже в кадр не попал – вместе с Ниной стоял сбоку…
Они договорились, что утром в воскресенье поедут в лес. Лишь бы хорошая погода… И только тут Алмаз вдруг вспомнил про письмо Белокурова, которое с утра лежало в кармане куртки. Как он мог забыть?! Письмо от его друга-пограничника, замечательного бригадира! Неужели так любовь туманит голову?.. Он отошел в сторону, вскрыл конверт и прочитал, что у Белокурова умер отец.
«…это у него третий инфаркт, – писал Белокуров. – Обширный, на задней стенке сердца… спасти не смогли. Мать еле ходит. Вот так, брат! Я учусь. Я тебе как-нибудь напишу подробнее… Держись! Я тоже обещаю не хныкать, держаться. Жму руку. Твой сержант-студент Анатолий Белокуров».
«Какой я плохой… – думал Алмаз. Глаза слиплись от слез. – Какой я плохой. Плохой. Всех хуже. Надо ему ответить…» В тот же вечер он написал письмо Белокурову. Но через два-три дня Нина снова заняла его сердце.
Погода налаживалась. Тучи скатились куда-то на запад, солнце стало горячей, грязь на бетонках просохла, на окраинах поднялась пыль. Люди повеселели, по городу текли запахи дыма, полыни, горелой картофельной ботвы. В домах открылись окна. Мутные ручьи на каменных руслах схлынули. Возле ларьков и магазинов детишки нашли много медных и серебряных монеток…
Алмаз и Нина встретились утром в воскресенье, сели в автобус и через полтора часа были в осеннем лесу. Под ногами листва уже шуршала, но паутину пауки еще не наткали. Ослепительно белые макушки Белых Кораблей остались за деревьями. Было очень тепло и тихо…