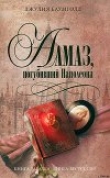Текст книги "Красная лошадь на зеленых холмах"
Автор книги: Роман Солнцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Ну, чего ты? – кричала она. – Пусти меня домой!
А бычок стоял, растопырив ноги. Таня подошла к нему, начала как бы нехотя гладить ему шею, щекотать, водить рукой вверх-вниз, теленок сладостно вытянул морду, закаменел от счастья, Наташа тем временем быстро выскочила на волю… Алмаз, увидев такой Таню, был поражен… Она медленно повернулась, скользя взглядом по земле, и, все больше и больше оживляясь, присоединилась к матери Алмаза и Наташе, и все они сели, как подружки, на бревнах, стали болтать.
…Зарокотал гром. На горизонте, клубясь, разрасталась и разворачивалась во все стороны туча, и вскоре в душном воздухе не было уже ни грамма кислорода. Во дворе потемнело. Все заторопились в дом. Мать электричество включить побоялась… Еле видели друг друга.
Алмаз остался посреди двора, глядя вверх.
Хлынул ливень. Алмаз такого ливня не помнил, может быть, с раннего детства. Ливень был как река, перекатившаяся через горы. Он мог затопить овраг за полчаса. Земля под ним шевелилась, словно заполненная стадами баранов. Толстые, тяжелые струи гвоздили крыши сараев и отхлестывали во двор, в окна, к воротам. Небо распорола молния и с такой силой ударила, что весь мир вспыхнул, ослеп, стал голубым, а потом розовым! А потом глаза опомнились, и оказалось, что вокруг все еще больше потемнело. В доме запирали окна, задергивали шторы. Бабки, наверное, молились… Алмаз скинул рубашку, брюки, швырнул их на крыльцо под навес и пустился от щекотки и холода в нелепый пляс под ливнем. Он сгибался, ходил под жалящими струями, подставив спину, выпрямлялся, прыгал возле дров, открыв рот, кружился в этой бушующей тьме, колотил себя темными каменными ладонями по груди, по впалому животу. Подбородок его трясся от озноба. Эх, Белокуров! Как жаль, что нет тебя больше на свете, Белокуров!.. В черной ночи катились белые, прозрачные шары света… Они проскакивали над крышами и уходили за холмы, туда, где раньше были горы, а сейчас стояла черная стена воды.
И вдруг ливень стал редеть, стал тише, небо открылось, а черная туча стала стремительно убегать от деревушки. Вот она уже далеко; в ней, как соломинки в отрезанном крае каравая, искрились молнии, но уже синий свет хлынул на землю, и белый пар пошел над травой, над деревьями, отряхиваясь, запищали птицы, пропели петухи; возле окон изумленные девушки и бледные старушки смотрели, как Алмаз с сожалением провожает уходящую тучу, похожую на плот.
Окна распахнулись.
– Дурачок, – крикнула Наташа-большая, – а если бы убило?
Сколько времени лил ливень? Девушки засекли по часам – семь минут. А казалось – вечность…
Стол уже был накрыт для обеда. Пришел отец – он топил баню и там переждал грозу. Мать вносила и вносила еду: куриный суп с лапшой – каждая лапшинка в четыре раза тоньше спички. Девушки пораженно перебирали тончайшие нити ложкой, восхищаясь умением этой татарской женщины. Она внесла мясо с картошкой на отдельных блюдах, пироги с мясом и картошкой на огромном розовом блюде. Сметану, масло, уксус, перец, соль… кому что… Отец нахмурился и поставил бутылку водки и бутылку шампанского. Девушки шампанское пить отказались, все выпили водки. Шофер не пил, смотрел на часы.
Алмаз замерз под ливнем. Он дрожал, торопился – ел суп. А на улице снова калило красное солнце, и двор почти высох, лишь кое-где светлыми подковами блестели лужицы.
Постучался в открытую дверь участковый П. Мельниц, снял, поставил мокрые сапоги в сенях, от обеда он отказался. Пришел удостовериться, что Алмаз жив-здоров, долго жал ему руку, заглядывая в глаза, смеялся, крутил головой, потом надел фуражку и заторопился со двора. Младшие братишки прыгали в восторге возле двери, бабушки запели молитвы, совершая намаз, а виновник торжества, проглатывая слова, рассказал гостям затянувшуюся историю с рюкзаком. Таня Иванова, обычно строгая, весело смеялась и долго не могла остановиться. А Наташа-хохотушка вскочила и начала обнимать Феликса, который, повисая у нее на руках, поджимал от щекотки колени, хрипел, стонал, а она кружила его по комнате и спрашивала:
– Это ты сказал, это ты сказал, что Алмаз не мог выдать врагам секреты?
Феликс только счастливо жмурился, он плохо знал по-русски. В общем, все развеселились, ели хорошо, мать была довольна.
– Вечером, – предупредила она, – после бани – балеш.
Все застонали. Какой балеш?! Отъелись на месяц вперед. Мать предложила гостям отдохнуть, а отец с сыном постояли на теплом крыльце, обулись и пошли за деревню. Их догнала Таня.
– Я не хочу спать, – сказала она. – Можно, я с вами? Я вам не буду мешать.
Алмаз в смущении пожал плечами. «Чего это она? – покосился он, думая об отце. – Ну пусть. Жалко, что ли?..»
Вышли в поле. Таня от них отстала.
Над землей курился туман. Алмаз рассказывал о людях на стройке, с кем ему посчастливилось дружить: о Белокурове, о бригаде Ахмедова… Отец молча слушал. Он не хвалил сына за дружбу с такими замечательными людьми, не хвалил его за хорошую работу – он все это воспринимал как должное, иначе и быть не могло. Лишь внимательно слушал. И вдруг пробурчал, вытягивая толстые губы, щурясь и пряча лукавый блеск глаз:
– А п-почему ты с длинными волосами ходишь?
– Разве длинные? – Алмаз удивился. Он тронул себе затылок. – Совсем нет волос, папа.
Отец насупился. Оказалось, что он видел сына в кино. Так вот там у Алмаза волосы чуть не до плеч. Что за дурацкая мода? Как нехорошо! Вся деревня была расстроена. Сын обиженно стал объяснять: такая спешка была в начале лета, что некогда было и умыться. Зато план перевыполнили в два раза! Знамя получили, премию.
Но отец, кажется, был недоволен:
– Все это правильно. Но в следующий раз думай, когда тебя снимают. Как ты тут землякам объяснишь? Приехал стриженый. Хорошо. А кто же в кино снимался? Другой Алмаз Шагидуллин? Но у меня один сын Алмаз Шагидуллин. Нельзя. Ты один и помни об этом. Сосчитай свои руки – их две? И ноги две? Они положены на одного человека. Не смейся, а слушай меня! Может, я отстал, черт побери, но из ума не выжил. О тебе все спрашивают, и учти, все о твоих успехах знают. И где ты ни будешь – в армии, в далекой стране – так всегда будет.
К сердцу Алмаза подступил страх. А вдруг и о Нине? Горбатая бабка могла порассказать… Но, подумав, что на стройке треть миллиона рабочих и Алмазов, наверное, не один десяток, он успокоился. Отец чуть улыбнулся.
– Видишь?
За черным гороховым полем, за гороховыми стогами зеленел неглубокий овражек, и на его склонах паслись кони. Алмаз обернулся.
– Иванова! Вон – кони.
Таня подняла голову, увидела. Гнедые, серые, чалые, блестящие, мохнатые, они быстро ходили по кругу, терлись головами друг другу о плечи, враз уходили врассыпную, щипали траву. Уши их чутко вздрагивали. И стоял, глядя на Алмаза, белый жеребчик Алмаз – с бойкими глазами, худой, нервный.
– Мой тезка, – буркнул Алмаз подошедшей Тане. И направился к нему.
Но жеребчик испугался, напрягся, и, словно по нему из пушки выстрелили, он уже скакал, распустив хвост, высоко поднимая голову с короткой русой гривой, похожей на свет из-под туч. Он побежал к старой сизой лошади, из-за спины ее посмотрел на высокого парнишку.
Трава дымилась. Ноги и животы у лошадей были темнее, чем спины. Брюки Алмаза ниже колен стали вроде бы толстые, в налипших семенах трав. Таня шла босиком, туфли держала в руке. Отец, задумчиво склонив голову, шагал впереди, на нем гремел брезентовый плащ. Солнце валилось к горизонту, и густой красный шиповник казался его отражением на склоне лощины. Пахло медом от цветов львиного зева, лебеда с зелеными и ярко-малиновыми листьями осыпала зерна. Молодые оказались за спиной отца, рядом, справа, кружил, как вселенная, табун. И Алмаз, усмехнувшись, сказал:
– Сказка есть, Таня… вы же видели нашу толстую бабушку с муравьями на чулках? Вот она мне рассказывала, когда я был маленький. Конечно, глупость, я так просто вспомнил… Рассказать?
– Расскажите, – тоже почему-то на «вы» отозвалась Таня.
И Алмаз начал рассказывать сказку про красную лошадь на зеленых холмах.
– Каждый вечер, когда солнце вот-вот закатится, открывается в нем дверка, и выскакивает красная маленькая лошадка…
Алмаз рассказывал, шмыгал носом, улыбаясь, водя глазами по сторонам, словно подчеркивая, что сказка – детская, но ему очень-очень хотелось сейчас что-нибудь рассказать и Тане. И она внимательно слушала.
– …а утром, когда солнце начинает разогреваться… и медные деревья, звери и птицы становятся золотыми, нужно найти в себе мужество запрыгнуть на лошадку и выскочить в поле. И тогда, к чему ты ни прикоснешься медному – все будет золотым, а к чему оловянному – все будет серебро. И если от жадности там задержишься… солнце превратится в котел с кипящим оловом… и на земле родится человек с твоим именем. Вот, значит, вы родились вместо той Тани, что сгорела… а я вместо того Алмаза, который сгорел… а как мы проживем?
Алмаз вздохнул. Он перестал улыбаться, он смотрел в спину отца. Таня тоже почему-то хмурилась.
Больше они не разговаривали.
К ним из овражка вышел Ханиф, отец ему что-то сказал и повернул домой. Солнце ласково светило в спину, у лошадей в лощине казались красными головы и крупы, но животы и ноги были белые, серые, черные… «Родная моя земля, – думал Алмаз, – я никогда тебя не покину… Где бы я ни был, вернусь к тебе. Прости, что я долго не был. Так сложилась моя жизнь. Я был влюблен, моя земля, и до сих пор еще ничего не понимаю. То мне кажется – я грязная подстилка у порога аптеки, то мне хочется петь, стоя на зеленой твоей горе, никого не стесняясь…»
Они вернулись в деревню, измученные высокой мокрой травой и долгой дорогой. На сумеречных улицах уже мычал скот, блеяли овцы, трясли бородами козы.
Мать встретила пропащих словами:
– Быстрее… быстро… в баню идите. Хорошая баня.
Гости мылись в новой бане Шагидуллиных. Это почему-то смущало Алмаза, ведь он сам строил ее с отцом. Там сейчас купаются Наташа с Таней. «Я, наверное, совсем испортился, – с сожалением говорил о себе Алмаз. – Ой, какой я стал плохой! Здесь, дома, где когда-то был маленьким, я снова хотел бы стать маленьким. Но разве я могу стать маленьким с этими медными мускулами, с этими красными, безжалостными губами, которыми я мучил Нину?.. Неужели все так взрослеют? Или я особенно плохой? Если бы мать узнала, она бы умерла от горя. Упасть перед ней на колени, признаться во всем, пусть убьет?..»
Алмаз, мрачнее тучи, мыкался – ходил по двору, он невнятно что-то буркнул, когда девушки вышли из бани довольные, чистенькие и сказали: «Спасибо хозяевам!..» И сели возле самовара, обмотав головы полотенцами, сонные, густо-розовые. Они уже привыкли, были как дома.
Алмаз пошел в баню с Зубовым и шофером. Тот парился так, что спина стала в алых порезах. Потом быстро искупались хозяева и снова усадили народ за стол. Собрались уже в полных сумерках, гоня в окна комаров. Включили свет. Яств был полон стол, а главное – стояли два балеша, огромных, золотисто-желтых, с узорами на крышках – резать жалко.
– Ну чего ты такой хмурый? – удивлялись все Алмазу.
Он сам не знал. Он готов был заплакать, губы дрожали. Он выпил со всеми, но не ел. Выспавшийся для дальней дороги шофер вдруг встал и сказал, отдуваясь:
– А-а, гори она, Зоя Петровна. – Причем, конечно, для всех осталось тайной, кто такая Зоя Петровна. – Остаемся! Утром выедем! Хозяин, можно мне налить?
Все несказанно обрадовались. Шофер еще раз повторил. Ему было приятно повторить такие слова:
– Хозяин, можно мне налить?
– Конечно! Даже обязательно! – воскликнул отец и налил стакан всклень.
Шофер поднял стакан, осторожно поднес его ко рту, и видно было, как глаза его сбегаются к переносице, следя за стаканом. Он выпил, минуту сидел, закрыв глаза, вытер слезу и шепотом закончил:
– Она-а… б-блондинка…
Потом лицо у него пошло пятнами, он начал жаловаться на трудную и не всегда честную работу таксиста, и Зубов с Алмазом тут же уговорили его перейти к ним в бригаду на автоскрепер. Потом отец, иронически морща лоб, достал из шкафа старую тальянку с черными деревянными клавишами, и шофер заиграл на ней, держа перед собой на весу. Девушки запели. В этот вечер пели много песен: и «Подмосковные вечера», и «Баксан», и «Дрозды», «Колыму», и «Шаланды, полные кефали»… Алмаз вдруг вспомнил Путятина и мрачно, чуть ли не фальцетом вывел:
Как родная меня мать провожала,
тут и вся моя родня набежала…
Начинается Каваз, топай-то-опа-й…
Кончай, бабушка, намаз… кверху…
– Ну, я не буду. Извините.
Девушки прыснули. Алмаз оперся лбом о ладонь.
Потом он принялся ухаживать за матерью, то мяса ей подложит в тарелку, то катыка нальет. Он ласково и жалобно на нее смотрел, а она, встревожившись, спросила:
– Ты не заболел?
Алмаз испуганно покачал головой, а девушки пели протяжные русские песни, потом мать спела татарскую – очень красивую, старинную – «Кара урман», потом пели вместе «Дан приказ ему на запад…» Шофер напился до изнеможения, он был счастлив, он играл, закинув мехи за шею, пузырек слюны блестел в уголке его рта. Хороший получился вечер. Все сидели как родные, словно знали друг друга годами.
Белая бабушка спала за ширмой, возле пола блестели, крутясь на ниточке, ее очки, и котенок играл ими в совершенном восторге. Черная бабушка в маленькой комнате, разостлав на полу коврик, молилась за детей, за внуков, за коммунизм и хорошую погоду.
А потом на всех навалился сон. Мать забегала, захлопотала. Девушек положили в большой комнате, на высокой кровати хозяев. Зубова рядом на полу. Таксист ушел в машину вместе с тальянкой. Родители легли в чулане, а старший сын спал один в лабазе. Он долго не мог уснуть, смотрел, как в щель лабаза просачивается звезда.
«Пойти к маме, все рассказать?.. Нет, нельзя. Есть вещи, которые надо скрывать. Но неужели я стал неискренним? Что со мной? Неужели я стал плохим? Я ведь был всегда честный. Как мне не повезло!..»
Алмаз среди ночи встал. Он прошел по темному двору, белая корова лежала возле крыльца. Алмаз ласково отвел в сторону ее рога и ступил на скрипнувшие доски.
– Кто это? – услышала мать. – Хаииф? Алмаз? Феликс? Энес?
– Я, Алмаз… – тихо ответил сын, дрожа то ли от холода и сырости, то ли от страха.
– Что с тобой?
– Утром уедем.
– Спи, родной мой.
«Наверное, мать устала, – понял Алмаз. – Конечно, конечно. Зачем ее беспокоить?.. Но как же мне быть?!»
– Мама, я ведь немножечко… испортился.
Мать молчала.
– Прости меня.
– Йокла, багерем, – ответила мать. Слышно было, как она вздохнула, затихла, может быть, плакала?
«Какой я, какой я нехороший… – сказал себе с содроганием Алмаз. – Если бы она все про меня узнала?!..»
Но ему уже стало легче.
Он обнял столбик крыльца, прикоснулся щекой к теплой древесине, потом сошел во двор, погладил корову по спине и ушел в лабаз. Глаза у него были мокрые. Алмаз вытер их ладонью, сунул мокрые руки под щеку и уснул. Пели петухи.
Еще было темно, когда шофер всех разбудил. Гости спросонья попили кислого катыку. Алмаз отворил ворота, и все сели в машину.
– Спасибо, – шепотом говорили из машины гости. – Спасибо… Спасибо вам!
Алмаз пожал руку отцу, обнял мать, постоял, свесив голову и глядя под ноги. Потом он обвел взглядом сумеречный двор, где справа под окнами дышало что-то большое и белое – корова, и, разведя руками – не зная, что сказать, скрючился и сел в такси.
Машина с включенными фарами выехала за деревню, миновала черную в ночи ветряную мельницу, качнулась – и полетела, набирая скорость, по влажному, гладкому асфальту.
То ли ветер засвистел в радиаторе, то ли снилось воем детство, и выла труба печная… Девушки спали, откинувшись головами на заднее сиденье, прижатые к Алмазу огромным картонным ящиком. Зубов сидел впереди прямой, как свеча, он зевал, не открывая глаз. Алмаз думал о том, какая странная поездка получилась. Не обидятся ли мать и отец? Хоть и привез он им подарков целый чемодан, денег мало – экономил как мог. И решил Алмаз, что осенью приедет на неделю, картошку выкопать, дрова попилить-поколоть, все-таки братишки еще маленькие. Он высунул руку за стекло и старался поймать в кулак плотный от скорости ветер, живую струю воздуха, словно вожжи…
На мглистом небе горели две или три звезды. А может быть, одна красноватая – это был костерок на зеленых холмах.
9
В новой столовой РИЗа, в розовом зале, в шесть часов вечера в субботу началась комсомольская свадьба.
Впрочем, состоялась не одна, а три свадьбы – столовая вмещала добрую тысячу человек, поэтому на черно-красных шахматных полах стояли бесконечные столы, уставленные фруктами и шампанским. Гул голосов расплывался, как над стадионом. Лучше всех, конечно, был белый стол в честь Путятина и Азы Кирамовой, представителей самых великих организаций Каваза – ОМ и ОС.
На свадьбу прилетела сестра Путятина. Явилась прямо на РИЗ, высокая, представительная женщина, с родинкой на щеке возле носа, замкнутая и строгая, в синем костюме-джерси и с чемоданом. Она никому ничего не сказала, дождалась Путятина и подошла к нему.
Алексей обомлел, увидев ее:
– Ты, что ли, Вера? (Получилось: Вела.) Отку-уда?
Чтобы не измять черный костюм жениха, она подала ему правую руку, но потом не удержалась и обеими руками прижала его к себе.
– Морячок… – сказала она нежно, – жив, не утонул?
И снова закаменела, выпрямилась – слишком много на них смотрело людей.
– Не-е, не утонул, – продолжал растроганно Алексей, не обращая ни на кого внимания. – А ты? Все там?
– Не говори! – ответила она, серьезно глядя на невесту. – Это твоя хозяйка?
– Ну.
– Вера Егоровна, – сестра протянула черненькой румяной девушке руку. – Поздравляю вас.
– Аза меня зовут. Спасибо.
Вера Егоровна глянула вправо, влево, как готовят стол, как что расставляют, нахмурилась и сама принялась хозяйничать. Она у кого-то сняла красную повязку, повязала на свой рукав. Выбросила из букета желтые цветы (им не место на свадьбе), бдительным оком усмотрела рябину – тоже унесла, обошла длинный, метров восемьдесят, стол, изогнувшийся буквой «Г», возвращалась к брату, не отрываясь, любовалась им, опершись подбородком на крепкую руку, в глазах ее вспыхивал свет, потом вскакивала и снова шла вдоль стола – меняла местами вилки, ножи. По правую руку от Веры Егоровны сели друзья жениха – Ахмед, Алмаз, Зубов, вся бригада. А напротив – мать и отец невесты, девушки из бригады Наташи Федосовой.
Путятин был взволнован, щеки его блестели, как вытертые яблоки. Он не поднимал глаз от скатерти. Аза тоже потупилась и сидела, тихо ахая от каждого нечаянного прикосновения суетившихся вокруг людей.
Умолкла музыка. Выстрелили в потолок пробки шампанского. Зашипело прозрачное и золотое в бокалах, наступила тишина. Начал Ахмедов.
Горбоносый, смуглый, торжественный, весь в черном, сам как жених, он вскинул голову и загадочно ухмыльнулся:
– Дорогие друзья… Мы все сегодня нарядно одеты. Это так редко бывает при нашей работе, при наших темпах. Вся наша бригада разучилась завязывать галстуки – ездили сегодня специально в отстающую – они нам помогли, они еще помнят… Но самый красивый из нас, самый праздничный сегодня – наш уважаемый Алексей Егорович Путятин, человек сибирский, душа серебряная! Дорогие друзья! В жизни есть три чуда, как говорили в старину, рождение, женитьба и смерть. Мы знаем, что старики ошибались. Они забыли работу. Есть работа, равная подвигу, и она раскрывает человека, как цветы или окошки, извините, я плохо говорю по-русски, но вы поймете меня. Я не знаю, когда родился уважаемый ребенок Алексей Егорович. Но я знаю, что он родился у нас на Кавазе. Это скромный, замечательный, очень трудолюбивый человек. Так что одно чудо я уже видел. Второе – он сегодня женится. Я хочу выпить за то, чтобы третье, нехорошее чудо, как можно дольше к нему не приходило, а бегало с адресом, искало его дом триста лет… При нашей нумерации это возможно… – Ахмедов поднял руку. – И еще одну минуту! Чего вы смеетесь? Горец не может говорить тост короче трех минут. У меня есть еще полминуты. Я забыл… есть один великий писатель… Толстой… нет, не Толстой… Чехов? Нет, не Чехов… вай… забыл…
– Тургенев! – закричали ему. – Горький!
– Да, да! Горький! Я хотел сказать: горько! Горько! Почему они не целуются?!
Молодожены покраснели, стали медленно подниматься… Все терпеливо дожидались, пока они не поцелуются, потом выпьют шампанское и, утирая носы от пузырьков, сядут. И казалось, сам воздух замерцал, засветился и все разом заговорили. Алмаз был мрачен.
Нины на свадьбе не было. Судя по всему, она действительно уехала. Алмаз окончательно удостоверился в этом, когда Наташа встала поздравить молодоженов. Она тряхнула рыжими кудряшками, повела зелеными глазами, открыла рот, закрыла – не удержалась, подскочила к Азе, обняла ее одной рукой, отставив подальше бокал с вином, чтобы не облиться, и только тут закричала:
– Аза, милашечка, все мы здесь, все мы пришли, чтобы тебя поздравить! Все меньше нас, бригада тает. Ах, скорее бы уж замуж всех разобрали!
Напротив Алмаза наискосок сидела Таня Иванова. Она была, как всегда, невозмутима, в темно-вишневом, длинном строгом платье. Она улыбалась, когда все улыбались, она кричала «горько», когда все кричали, при этом ее черные глаза слегка потускнели – видно, утомилась за день. Бедные девушки, это они два дня пекли-стряпали вместе с поварами РИЗа и вместе с родней невесты! Получился русско-татарский смешанный стол. Чего только тут не было! Желто-золотые пирамиды свадебного чак-чака, облитые душистым медом, две полутораметровые белуги с бело-розовым прозрачным мясом, множество свежих и соленых помидоров с петрушкой и укропом, малосольные огурцы, брусника и тертый малиновый хрен, черный сладкий виноград и груши коричнево-золотые, с крохотными ржавыми ямочками, выеденными базарной осой. Рыбу достали старые шоферы Карпов и Погорелов, виноград и груши – Ахмедов. Языки, сыры, колбасы, яблоки, заливные в красных цветочках, вырезанных из моркови… Словом, устроители свадьбы постарались на славу.
Над столом растекался праздничный гул. Отец Азы еще не вставал, видимо, ждал Горяева. Горяев появился с опозданием, моложавый, в светлом, стального цвета костюме, с толстым букетом ромашек, который он положил перед невестой на стол.
– Штрафную, – сказал негромко Зубов и немедленно сам налил Горяеву.
Горяев сел между Ахмедовым и Алмазом.
Вера Егоровна долго крепилась, молчала, присоединяясь к чужим тостам, потом встала и вилкой постучала по тарелке:
– Что же это мы не поем? Разве это свадьба, если не петь? Давайте споем. Послушайте сирот, мы же с Лешкой сироты. Детдомовские.
Значит, у Путятина нет никаких родителей, поняли Таня и Алмаз. Зачем же он врал, чудак? Темнило.
Сестра начала тонким голоском, все более краснея и хмелея, русые волосы показались седыми, брови белыми:
А кто у нас хо-олост, а кто нежена-атый?..
Ро-озан мой, розан, виноград зеленый…
Алешенька холост, Егорыч неженатый…
Розан мой, розан, виноград зеленый…
По горнице ходит, головушку чешет…
Девушки замолчали.
Розан мой, розан, виноград зеленый…
Головушку чешет, в зеркало глядится…
Розан мой, розан, виноград зеленый…
В зеркало глядится, на себя дивится…
Розан мой, розан, виноград зеленый…
Сам себе дивится, красив уродился…
Розан мой, розан, виноград зеленый…
– Вот! – сказала Вера Егоровна и закрыла лицо руками.
– Ну чего ты, чего? – пробормотал смущенный и счастливый Путятин. – Успокойся. Ну как там ваш город-то? Тьфу, и спрашивать-то ничего нельзя! Ну а театр есть? Не скучно там вам с Костей? Хочешь вот, покушай грибочков? Не хуже, чем у нас в Сибири. Отец тебе лису высылал, ты получила?
Сестра не отвечала, словно к своим мыслям прислушивалась, положила руку ему на локоть:
– Да будет тебе, Леша… Какой отец? – и снова вскочила, светлея, глазами мокрыми по столу пробежала. – Давайте споем теперь: «Женатым – чарочка». Знаете слова-то?
– Ты начинай, – сказала с той стороны стола Наташа-большая. – А мы подпоем.
Они друг другу явно нравились. Вера Егоровна быстро перебежала к ней, обнялись и начали шептаться.
– А ты мне имена-то скажи… как ее по отчеству… ну, вот и получится.
Потом тихо запели.
Путятин растроганно смотрел на сестру. Сафа Кирамов внимательно слушал, кивал, поднимая брови. А старинная русская песня была замечательной. Алмаз ее слышал впервые.
Как у чарочки серебряной золотой веночек.
Ой, люли, ой, люли… золотой веночек…
У Алексея у Егорыча золотой ум-разум.
Ой, люли, ой, люли, золотой ум-разум…
Где ни ходит он, ни гуляет он – ночевать приходит…
За столом засмеялись, захлопали. Старый Карпов, весь как бы из розовых и малиновых ниточек, сам называющий свое лицо «корзиной», сидел, влюбленно глядя на Веру Егоровну, и шевелил губами. Он, видно, знавал эти песни. Он пришел без жены на комсомольскую свадьбу, думал посидеть полчаса, хватить рюмочку и домой. И, может быть, жалел теперь, что не взял с собой старую. Другие механизаторы, помоложе, явились с женами. И за столом уже тихо подпевали:
Ой, люли, ой, люли… ночевать приходит…
Стучит-бренчит во кольцо, кольцо золотое.
Ой, люли, ой, люли кольцо золотое…
Золотое, литое… кольцо именное…
Выйди, выйди, Аза,
Выйди меня встрети.
Ой, люли, ой, люли… выйди меня встрети…
Не выйду, сударь, не встречаю, – я сына качаю…
Ой, люли, ой, люли, я сына качаю!..
Вера Егоровна сняла руку с плеча Наташи, поцеловала ее в румяную щеку и вернулась на место. Она обратилась хриплым и сильным голосом к молодоженам:
– Желаю вам, Аза, счастья. Берегите, малыши, друг друга. И чтобы все, как в песне, получилось. Ну а вы теперь православные и нехристи, эй, все вы там! Выпьемте, что ли!
– Во, командирка, – изумился Карпов и налил себе первую лишнюю.
Алмаз исподлобья смотрел на невесту. Ему уже рассказали, что отец ее поначалу был страшно разгневан выбором дочери. Объявил, что на порог ее не пустит. Тогда она сказала, что уйдет и будет жить с ним в общежитии. Но Сафа Кирамов, узнав побольше об Алексее и выяснив, что он из знаменитой бригады Ахмедова, из ОМ, вдруг сменил гнев на милость и пообещал выхлопотать им комнатку, а возможно, даже отдельную однокомнатную квартиру. Он попросил дочь привести домой в гости Путятина и, когда тот приехал, разговаривал с ним очень уважительно. «В наше время чаще везет именно робким… вроде бы непрактичным… Все у них лучшим образом устраивается, – сказал Алмазу насмешливо Зубов. – А тут бьешься… и еще хуже! Счастье идет к тем, кто его вроде бы и не хочет… Хотя против Лешки я ничего не имею – свой парень!..» Алмаз чувствовал себя скверно. Он не мог толком разобраться в своем состоянии. Радость летних работ померкла. Ему было стыдно ходить средь золотисто-розовых стен РИЗа, стыдно видеть перед собой девушек из его прежней бригады. Ему было страшно думать о себе и о Нине. «Как быть? Может, узнать, куда она улетела? Купить билет, схватить чемодан и – за ней, без лишних слов, без рассуждений!.. А она снова будет лгать. И снова принадлежать еще кому-то? Снова эти ночные ее, морозящие душу рассуждения, вино, изломанный рот и сигаретный дух? И этот игрушечный голос?.. И столбик пепла, катящийся по белой круглой груди… Нет, нет, лучше умереть!..»
Алмаз старался не смотреть в глаза девушкам. Зачем? У каждого своя судьба. Они хорошие. И пусть. Он их очень уважает. Он видел в поездке, какие они славные. Он им благодарен: им понравилась его мама… им, современным девчонкам.
– Я хочу тост поднять за Азу, – сказала Таня, сияя глазами. – Будь счастлива, подружка… и я искренне тебе завидую… и желаю всего-всего.
Она поцеловала невесту, вернулась на свое место и долго сидела, опустив голову, пока снова не стала строгой и спокойной.
«Неужели Путятин ее бросил? – поразился Алмаз, жалея и радуясь чему-то. – Он ее недостоин! Или я ничего не понимаю…»
На гладком, ласковом лице Алексея трудно было что-нибудь прочитать.
Потом встал Сафа Кирамович.
Он широко улыбнулся, образовав на щеках бугорки, как у хомяка, его красивые, ослепительные глаза округлились.
– Я рад, что моя дочь выходит замуж за такого достойного парня. Из такой прекрасной бригады. Из такой замечательной организации. Давно бы пора нам, старым соперникам, породниться.
Он не смотрел на Горяева, но ясно было, кому он говорит эти слова.
– Есть нечто превыше, так сказать, наших личных страстей, нашей личной славы, наших личных успехов… Раньше, товарищи, – без перехода, чтобы как-то завуалировать предыдущие слова, продолжал Сафа Кирамов, – раньше они бы поженились, не зная друг друга, их бы записал в книгу мулла и отпел муэдзин… и свадьба была бы без вина, без песен, ибо тогда жизнь у народа была трагическая. А сейчас мы рады, что так светло на нашей свадьбе. Эти стены выложены. моей дочерью и ее подругами… Дочь моя! Пусть твоя жизнь будет прекрасна! Бахетле бул!.. Здесь люди самых разных национальностей. Очень удивительно пела твоя сестра, Алеша. Но и мы споем свадебную. Эни, башла! (Мать, начинай!)
Мать Азы, тихая, увядшая женщина с коричневыми глазами, кивнула и покорно, еле слышно запела, и ей подпевали девушки-татарки из бригады Наташи и три шофера-татарина из ахмедовской бригады:
Икау берге утыргансыз,
берге булсын уегыз…
– Переведу, – поднял руку седой Сафа. – В этой народной песне говорится – я очень коротко: «Сидите вы рядом… пусть ваши мысли не будут врозь… вы нашли друг друга… пусть будет счастлива ваша свадьба… как вишневая вода ваши лица… блестят глаза… родной стране детей растите, подарите ей богатырей!» Вот что говорится в этой песне… Поднимем тост за новобрачных, за наши две мощные организации, за наш труд! За наши успехи!
Потом встал Горяев. Он негромко пробормотал:
– Не нужно путать разные… не нужно из поцелуев делать пельмени… – Но, преодолевая себя, погасил иронический блеск в глазах, протянул фужер к Сафе Кирамову. – Мы пили за молодых, выпьем за родителей! Я слышал, что механизаторы подарили молодым холодильник, а строители – телевизор. Ну а родители – нет, наверное, большего подарка, чем видеть своих детей красивыми, здоровыми, веселыми…
Энвер нахмурился, минуту молчал.
– Если бы я мог, дорогие мои, ключ прямо сейчас вручить от квартиры. Я поговорю с начальством. Над каждым из нас есть свое начальство. – Энвер усмехнулся. – Как есть над облаками облака. Кучевые облака несут дождь, тень, но над ними еще иногда есть перистые – от слова «перо»… Ну, ладно… Но я прошу вас, если… вам станет трудно, даже очень трудно, все равно не покидайте Каваз! Вы когда-нибудь вспомните эти дни как лучшие в жизни… Эти годы обернутся легендой. За вас и ваших родителей!
Свадьба раскалялась. Молодоженов осыпали крупой и цветами, забыв, что делать это надо было при входе, шелковыми лентами и монетками, причем одна серебряная попала в стакан подбежавшего Карпова, и он чуть себе зубы не поломал.