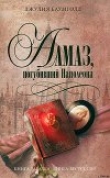Текст книги "Красная лошадь на зеленых холмах"
Автор книги: Роман Солнцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– Тебе что, ветер на работе не надоел? – буркнул, плаксиво кривясь, Путятин. Он как бы не понимал, что Зубов хвастается перед Алмазом. Потер грудь, наклонился над столом. – Я думаю, пора? Если чувствуешь легкое недомогание, то ты ее под рыжик, без тети Шуры, просто так!
На улице сигналила машина. Алексей тоскливо вздохнул, торопливо оделся и, сутулясь, пошел к двери.
– Ты куда? – чуть не обиженно спросил Алмаз. – Зачем?
Ему объяснили, что в Красные Корабли переезжает один шофер с семьей, а Путятин обещал помочь.
…Послышался скрип шагов, шарканье метелки, на пороге появился горбоносый человек с усами и ослепительной улыбкой – Ахмедов.
– Я слышал – новоселье? Это вм гуляли сегодня по нашему деревянному городу? Девушки все только о вас говорят. Какой молодой! – Ахмедов протянул Алмазу руку. – И сильный! Вай-вай, как старается…
Алмаз в сильном волнении, надавив– кулаком трясущуюся коленку, сидел на кровати. Что-то скажет ему Ахмедов?
– Шагидуллин? – спросил бригадир, быстро садясь перед ним на стул. – Поговорим маленько? Слышал, тебе еще восемнадцати нет? Я в жизни огорчил только одного человека – это мою маму, когда уехал с Кавказа на Каваз… И то я успокоил ее, сказал, что здесь жарко, здесь и в самом деле жарко… одного я только человека обидел… а ты будешь второй.
У Алмаза сердце остановилось.
– Я был бы последний человек, если бы тебе солгал. Я вижу по глазам – достойный человек. Ты ведь деревенский? Местный? Уважаю татар, сам мусульманин. Но не могу! Не надо так бледнеть, я боюсь за тебя… Я тебя возьму, Шагидуллин, когда ты вернешься из армии…
– Тогда уже… все построят… – опуская голову, прошептал Алмаз.
– Не построят! – морщась, ответил Ахмедов. Он, видимо, близко к сердцу принимал состояние мальчика. – Я тебе обещаю! Я тормозить буду… я раньше на четыреста процентов план выполнял, а теперь буду только на триста… Он улыбается? Он повеселел? Это настоящий джигит! Нет, нет, я сомневался, возьму ли его после армии, а теперь вижу – возьму! Как я понимаю, дорогой мой… но за руль тебя сажать мы не имеем права.
– Слушай, Ахмедыч, – сказал Володя Зубов. – А ведь комиссия какая-то есть… в горисполкоме… занимается несовершеннолетними… они могут направление дать… там и Горяев не последний человек…
– Горяев! – воскликнул Ахмедов, широко открывая глаза. – Это большой человек! Но нельзя, понимаешь… – Он снова сморщился. – Нельзя! Ребенок ведь! Как я его посажу на тяжелую машину? А если что-нибудь случится? А реакция у него не та, силы…
– Я сильный! – обиженно воскликнул Алмаз. – Я сильный!.. – Он вскочил. Глаза его черные сверкали, губы кривились, худые длинные руки то в карманы лезли, то за спиною сцеплялись.
Бригадир пристально смотрел на него. Покачал головой.
– Нет, нет. Я понимаю – ак-селе-рация. Тебе можно дать все восемнадцать. Но твой пала тебе уже дал. Ты почему его не попросил раньше сконструировать?.. Садись, поговорим. Успокойся. Ты сильный, ты хороший, я верю. Ты из какой бригады к нам перешел?
Алмаз сузил глаза, запальчиво бросил:
– Я из замечательной бригады! Из бригады Сибгатуллина!
Ажмеяов ничего яе ответил, трудно было лонять, знает он или нет, что бригада Сибгатуллина сегодня – позор для ОС.
– Ты пойдешь на курсы. Горяев правильно посоветовал. Стипендия маленькая – будешь в гараже подрабатывать… что-нибудь придумаем… – бригадир многозначительно помахал прямой ладошкой. – Получишь настоящие права – придешь к нам. Пойду на обман государства – возьму. Но это – в мае. А пока учись. Ой, как он цветет! Прямо как роза! Вай-вай, надо прятать наших дочек…
Ахмедов повернулся к Зубову.
– Спать, Владимир Петрович. Встаем в полпятого. Что делать с этим трактористом?..
Они вполголоса заговорили о водителе дизель-элекротрактора, который срывал всю работу, не торопился. То ли боится клык рыхлителя сломать, то ли задается. Так или иначе, автоскреперы стоят, а морозы с каждым днем сильнее. Может, попробовать буровзрывной способ?..
– Все, спокойной ночи… Еще газет не читал…
Парни остались одни. Обида и радость попеременно одолевали Алмаза.
– Спать? Еще десять часов всего.
– Зато вставать в четыре… – хмуро сказал Зубов и добавил привычно-громко: – Не горюй! Больше он ничего не может тебе обещать! А что обещает – делает! Можно бы, конечно, и сейчас покумекать с «гаишниками»… у меня с ними дружба… – Он улыбнулся, губы выпятил, полез в карманы и выложил кучу удостоверений, с видимым удовольствием показывая их Алмазу. Тут была и красная книжечка внештатного инспектора ГАИ, и синяя – народного дружинника, и серая – рыбнадзора, и охотничий билет, и книжечка с буквами ОБХСС, и много еще всякого, столь же внушительного и даже пугающего.
– Видал? – бормотал Зубов про себя, раскладывая удостоверения по карманам. – Видал? И у тебя будут! Главное – бить в точку. Это мой совет. Я, конечно, не Ахмедов, но и я кое-что значу…
– Спасибо, – тихо сказал Алмаз. – Я внимательно тебя слушаю.
– Конечно… не та нынче стройка. Ахмедыч говорил: первые месяцы наши по восемьсот-девятьсот получали. Веришь – нет? А сейчас – четыреста, триста. А зимой, сам понимаешь, и того меньше. Конечно, не в деньгах дело, но все-таки! Эх, жил я на Севере, на Талнахе, палатки в три-четыре слоя, и тоже – проведено отопление! Сейчас там цивилизация, дома. А раньше, бывало, идем в кино – друг за дружку держимся. Вдоль палаток, вдоль палаток, ветер ледяной может в тундру укатить. Говорят, находили весной сапоги или шапку. А человека уже нет – песцы съели или волки. Героизм! Когда очень трудно, о деньгах не думаешь. Хотя на материке этого не понимают. Слышишь? Лешка вернулся…
На улице кто-то отчаянно пел:
– Как лодная мен-ня мать провожж-жала… так и вся моя родня набежж-жала…
– Ну, любимую поет, – усмехнулся Зубов. – Это у него надолго. – И, покосившись на Алмаза, сказал: – Парень – золото. Безотказный – как штык. В буран ли, чего ли – встанет, пойдет. О нем в кино не видел? Это, брат… Только он со своей Таней робкий. Все тянет. Пора бы уж свадьбу!
Дверь с треском распахнулась, осела снежная туча и, сгорбившись, прижав палец ко рту, вошел в расстегнутом пальто Леша Путятин. Морща лоб от восхищения перед песней, он еле слышно допел:
– Над горой горит звезда… топай-то-опа-ай!.. Вовка Зубов за рулем… кверху… Ой, ой, не буду.
– Ладно, – вдруг обиделся Зубов. Голубые глаза стали очень серьезными. – Хватит. Ложись спать. Вставать рано. Проводил?
– Ну, – хмуро буркнул Путятин. Он разделся и пошел к кровати. – Слышал новость?
– Какую?
– Нынче опять лето будет. Постановили.
– Еще пил, да? Дурило. Пальто нараспашку. Схватишь воспаление легких…
Вскоре Зубов и Путятин легли спать. Алмаз вынужден был тоже лечь, а хотелось излить душу. Но что же делать, если с утра – на работу. В конце концов, успеет поговорить с парнями – впереди зима, весна, лето… Если бы он только знал – что впереди?
В темноте он видел, как за окном вспыхивает неровный свет снега, слышал, как дребезжит пластинка на крыше вагончика… Рядом с Алмазом спала навытяжку зима, у нее были синие глаза Нины…
2
Стало раньше светать, погода менялась семь раз на дню. Метельный февраль и голубой март сверяли часы – у одного отставали, у другого торопились…
То буран заметал овраги, курился на высоком берегу над Камой белыми пухлыми шарами, то вдруг становилось тихо, нажимали солнце и мороз, и было непонятно: то ли светом жжет лицо, то ли холодом.
В подветрии, под крышами деревянных вагончиков, иной раз появлялись сосульки, они мерцали в сумерках и забивали в ржавый наст звонкие капли. У деревьев возле озера обозначились воронки, их то и дело заносило снегом. В поле снег был цветной, на солнце переливался карамелью. К вечеру обочины шоссе чернели.
И вдруг в один из таких вечеров Алмаз узнал, что приехал Белокуров.
Ему сказал об этом Путятин. Была суббота, чумазые после работы парни собирались в баню. Алмаз уронил мочалку.
– Бе… Белокуров? Какой?.. Он же учится?
Путятин, не замечая, как перепуган Алмаз, пробурчал-пропел:
Белокуров учится… на физмате мучится…
Эх, загулял-загулял-загулял
палнишка-палень… шалаво-золотой…
– Что ты говоришь?! Ты неправильно говоришь?..
– Таня сказала. Жениться приехал. Сам понимаешь. У него же тут девушка.
Алмаз сидел, оглушенный этой радостной и одновременно пугающей вестью. Тяжкий стыд жег его. Что он скажет Белокурову? Ох, поздно, поздно приехал Белокуров. Так поздно! Алмаз бросил девчонок, бросил родную бригаду. Он плохой, он темный, он себе самому непонятный… Ничего теперь не исправить. Легче самолет склеить, чем их дружбу. Что теперь ему делать? Как он в глаза посмотрит Белокурову?
Сердце бешено колотилось. Наскоро одевшись, он побежал к автобусу. Он ехал до конца маршрута – в Новый город, в Белые Корабли, насколько Алмаз помнил, там Белокуров бывал редко.
«А если все-таки мы сейчас встретимся?! Что я ему скажу – честному, прямому? Что я скажу бывшему пограничнику? Нечего мне сказать. Но как же так?! Разве я преступление совершил? Имел право перейти на более трудную работу? Имел. Ну и ушел. Сколько мне можно женским делом заниматься, мастерочками-скребочками? Тем более… там, без Белокурова, этот Руслан, который волосы перекрасил в золотой цвет… он опозорил всех, втянул в авантюру. А теперь, говорят, вернулся из отпуска и с помощью Сафы Кирамова бригаду перебросил на какой-то сверхсрочный участок – тем самым Руслан пытается одним рывком вернуть славу, смыть позор. Но позор – хуже нитрокраски, не так-то быстро его смоешь… Белокуров, конечно, туда теперь и не пойдет. Да они его и не пустят, Руслан Сибгатуллин и Сафа Кирамов. Нет, невозвратимо счастье!»
А что скажет Белокуров? Он скажет Алмазу беспощадные слова: «Ты бросил девушек. Они нежные. А ты их бросил. Я думал, ты их после работы провожаешь всех по очереди в общежития, чтобы никто не обидел. Я думал, ты им стихи читаешь. Я думал, ты чистый н надежный, каким был. Я думал, ты уже нашел тех, кто лошадь к железной раме приковал! Быстро же ты переменился! За длинным рублем погнался? Я лично измерял рубли на Севере, на Востоке и на Западе – они одной длины. А вот совесть у людей разная. Бывает, не больше пятака. Сядет навозная муха – и закроет! Во-от такая малюсенькая совесть! Даже если вписать слово «совесть» в эту совесть, не хватит места для мягкого знака. Эх, ты!..»
И опустит Белокуров большие, в желтых пятнышках, веки, закроет до половины густо-синие кругляшки. А потом поднимет голову, задерет вверх прямой толстый нос и, зло сжав губы в точку, как диафрагму фотоаппарата на солнце, засвистит презрительно и еле слышно «Танго соловья». Это будет все.
Алмаз вздыхал: «Но постой, постой! Я же работал не хуже других! И я же молодой, молодой! Я же ничего не умею делать сверх того, что умею. После того позора мне нельзя было там оставаться. Нас с Ниной сфотографировали, на весь Каваз ославили. И тут еще Нина… сама… меня обманула… Нет, тяжко, Белокуров, на сердце. И ты не прав».
Алмаз вышел из автобуса, озираясь, – Белокурова нигде не было. В вечерней темноте шли люди. В небе сияли белыми, красноватыми и синими окнами башни в четырнадцать и двадцать этажей. Синие окна – смотрят телевизор. Прекрасен город Белые Корабли.
Пока он расхаживал по городу, уже рассвело. Туман растащил во все стороны МАЗы и КрАЗы, небо загорелось нежно-красным огнем. Там летели самолеты.
Автобус подъехал к вагончикам.
За столом пили чай Путятин, Зубов и Белокуров.
– А, вот он! – громко объявил Зубов.
Белокуров, радостно улыбаясь, встал. Он был в расстегнутой зеленой штормовке и пестрой, малиновой таджикской рубашке. Жених. Он решительным шагом приблизился, оглядел сверху донизу высокого парнишку и резко протянул руку:
– Где пропал, боец?
У Алмаза перекосилось лицо. Он готов был заплакать, убежать. Но Белокуров то ли ничего не понимал, то ли ничего не знал. Он обнял Алмаза, проворчал:
– Здор-рово, моща! Хоть бы письмо кинул… – и махнул рукой, снова сел к столу. – Садись! Пей! Все по свиданиям ходишь?
Чего угодно ожидал Шагидуллин – только не такой встречи. Он думал, что Белокуров ему руки не подаст. Презрительно плюнет. Ударит. Но почему же он так ласков к нему?.. Может, ничего еще не знает? Или испытывает его? Как, мол, сам признается или очную ставку ему С девушками устроить?..
Алмаз провел ладонью по лбу и растерянно посмотрел в смутные лица Путятина и Зубова. Алексей простодушно улыбался. Зубов напряженно уставился в стол. Этот был серьезен. Белокуров приехал вчера, в субботу, еще никого из бригады не видел. Наверное, побежал к своей Женечке. А ребята ему ничего не сказали, решили – пусть Алмаз сам скажет. Но как Белокуров сюда-то попал?!
– Ты садись, садись! – говорил Белокуров. – Бле-едный! Где тебя носило? Ешь. Вот хлеб с маслом. И колбасу вон возьми! Еле нашел тебя… – Он улыбается, разглядывая похудевшее лицо Алмаза. – Еле нашел. Случай помог. Захожу вчера к Тане. А у нее – этот, – он кивнул на Путятина. – Алмаз, говорит, теперь с нами живет. У озера. На воздухе. И что ж? Правильно. Одобряю! Здесь как-то романтичнее.
Белокуров говорил, а у Алмаза кусок не лез в горло. Он закашлялся, встал.
– Проводи-ка меня, – оказал Белокуров. – Я ведь что? Не выдержал, не выдержал, братишка! – Он радостно посмотрел на парней, светлоголовый, скуластый, с прямым толстым носом. – Н-ну, черти полосатые, хорошая эта земля – Каваз! До сих пор не верится, что я вернулся. Пошли, пошли!
Они ехали на автобусе в Красные Корабли, и Белокуров, обычно молчаливый, говорил без конца, восхищался всем, что видел:
– Смотри-ка, уже гаражи готовы?! А БСИ?! Уже до облаков! А это что? Вон, краны! Школа? Ясли?.. Вчера маленько выпили, ни черта не видел. А сегодня смотрю – много тут наворочали. За полгода-то! Мастерские отгрохали?! Смотри, все четыре корпуса! Н-ну, дают прикурить! Ничего, и мы покажем… Верно, Алмаз?
Алмаз машинально кивал. Скорей бы уж Белокуров обо всем узнал или прогнал его!
На проспекте Гидростроителей они сошли.
– А я, видно, женюсь… Как ты посоветуешь, Алмаз? – спросил тихо Белокуров.
Алмаз, потрясенный, молчал: «Он у меня спрашивает!! Какой я неблагодарный!»
– Чего как воды в рот набрал? Ты чего такой кислый?! А-а, ясно. Старик, наша дружба останется нерушимой! Женька же все понимает. Она хоро-ошая… Ты же ее помнишь? Ну как? Не против?.. – Приятель шумно вздохнул, закурил. – Женюсь. Женюсь, черт побери. Квартиру, конечно, сразу не дадут. Но, может, зачтется мне работа… до отъезда… Как ты думаешь?
Алмаз оцепенело смотрел на Белокурова. Что он мог сказать?
– Ну посмотрим. Пока хоть в малосемейке поживем. Женьке обещали. Смешно! Не мне, бывшему бригадиру, а ей! Придется стерпеть такое унижение. А что? Сам виноват…
И погрустнел, задумался. Алмаз понял, что он думает об отце, о матери, которую оставил в далеком городе. Белокуров закурил новую сигарету, Алмаз тоже взял и стал глотать едкий, черный дым. Теперь он как-то успокоился и мог лучше рассмотреть своего старшего товарища.
Тот стал суетливей – может быть, это повлияло студенчество? И слово «старик» – оно новое у него. А может, он просто был рад, что вернулся, и поэтому казался суетливым. Он слегка постарел – возле рта появилась морщинка, глаза впали.
– Ты чего так смотришь?.. – хмуро спросил Белокуров. – Дурачок! Не сердись! Ты ведь тоже когда-нибудь женишься… Ну, благословляешь? – Он рассмеялся, обнял Шагидуллина. – Постой здесь, я сейчас вытащу ее, и мы в кино сходим. Или в ресторан. Или еще куда. – Он зашагал к женскому общежитию, бегом вернулся, тряхнул кулаком. – Эх, стыдно говорить. А знаешь что? Я вот летел и думал – не могу без стройки. Женюсь, квартиру получу – мать сюда перевезу. Что она там одна?! Да ладно! Я тебе о чем? Летел и думал… теперь деньги нужны будут. Пойду-ка я по специальности. Я же водитель, танкист. А вот увидел вчера прекрасные глазыньки этих девчонок… увидел, брат… Танька даже заревела… устала, видно, знаю-знаю, у вас тут много было неприятностей с этим… Русланом… Я как увидел девчонок – нет, говорю, Белокуров, не имеешь права! Никак нет! – Он говорил торопливо, страстным шепотом, приблизив к самому лицу Алмаза свой розовый, вечно облупленный нос. – Никак нет! Не имею права! Я тебе честно… как другу… Даже самому теперь страшно. Хотел уйти. Там-то действительно деньги. Но мы и здесь заработаем! Верно? Хватит на детскую коляску! Верно?.. – Он засмеялся, толкнул Алмаза в плечо и побежал к общежитию. Обернулся, подмигнул. – Мы сейчас! Нинку твою вытащить? Нет? Ну, смотри!..
3
В эти ледяные весенние вечера Алмаз и Нина снова начали встречаться.
Алмаз передал через Путятина записку – он часто ездил к Тане и, конечно, мог видеть Нину. Нина приехала на место свидания, назначенное Алмазом, – в Белые Корабли. Она появилась на автобусной остановке, под фонарем, в рыжей старенькой шубе и высоких кожаных сапогах. Щеки у Нины стали от мороза красные, из-под меховой шапки вылезла белая прядь, которая, отогреваясь под горячей ладонью Алмаза, желтела…
Сначала они бродили по скользким улицам, отворачиваясь от метели, глядя на качающиеся желтые светофоры. Иной раз не выдерживали и заходили отдышаться в дежурный гастроном.
А когда Алмаз осмелел и стал встречаться с Ниной в Красных Кораблях (в Белые слишком далеко ездить и ему, и ей), они грелись в подъездах строящихся домов, где горели «огнеметы». Эти железные бочки, заряженные соляркой, ревели, как реактивные самолеты, вдувая в проемы дверей розовый жаркий воздух. Стены для работы должны быть теплые, иначе все осыплется… Нина и Алмаз прятались за косяком в темноте, тянули руки к огненному потоку, от гула закладывало в ушах. Увидев влюбленных, штукатурщицы и плиточницы из промстроя хихикали.
Они целовались в подъездах, стараясь ни о чем не говорить. Слишком близко был позор декабря, их фотографии по всему городу, слишком мучительно было прошлое Нины – ее замужество, ее ложь, ее игрушечный голос. Алмаз боялся новой какой-нибудь лжи или того, чего он еще не знал о своей возлюбленной. Они торопились наверстать упущенные месяцы разлуки…
Посреди метели, посреди белых лис, бегающих вокруг ног, замирая, целовались, а на каменных стенах города плакаты с их лицами давно были содраны, лишь кое-где темнели бумажные уголки, прихваченные клеем. Иногда небо прояснялось, звезды густо вспыхивали, город замолкал, и хотелось говорить шепотом. Но и шепотом говорить было не о чем.
Чтобы не замерзнуть, они шли в кино. Ничего не понимая на экране, сидели и жали друг другу влажные руки, Алмаза в спину толкали:
– Сократись, дядя!..
И Алмаз втягивал голову в плечи, съезжал пониже со стула. Над головой в серебряном широком луче неслись, на экран шелестящие люди и лошади, деревья и собаки; видение этого несущегося над головой мира Алмаза больше захватывало, чем события на экране. Ему казалось, что и они с Ниной вот так летят в огромном пространстве, растаивая, как дым, бесконечно приближаясь друг к другу и разбегаясь…
Однажды Алмаз и Нина забрели поздней ночью на телеграф – работал переговорный зал. Гундосое радио выкликало города, кто-нибудь вскакивал и бежал к засветившейся кабинке. На полу валялись газеты, за столиками сидели, уронив головы на руки, смуглые люди. Алмаз со страхом подумал: «Проверю-ка я Нину на Челябинск… Вот объявят кому-нибудь Челябинск, а я на нее буду смотреть. Если вздрогнет, побледнеет – значит, до сих пор любит своего… Если нет – то меня…» Хоть и много было народу в зале, Челябинск не давали. Первым не выдержал он сам: потянул за руку ничего не подозревавшую Нину на улицу, в мороз, в скрип снега:
– Идем, идем отсюда!..
Он боялся правды, если она окажется нехорошей.
Иногда при встрече Алмаз с удивлением замечал, что Нина, оказывается, неприятно смеется – широко улыбается, и виден золотой фикс; он ненавидел золотые фиксы, этот фикс, наверное, ей купил ее муж… или, например, Нина щелкала пальцами – Алмаз находил, что это вульгарно, не идет ей, прекрасной и особенной, такой, какая она была в его душе, в ожидании днем и ночью. Он заметил, что ему очень нравится, когда она смотрит на него, запрокинув голову вверх и полуприкрыв веки. Но у нее было несколько гримас, поворотов головы, которые разочаровывали Алмаза. Нина не понимала, почему так быстро меняется лицо возлюбленного – то восхищение на нем, то мука и тоска…
– Какой там снег розовый… – шептала она, беря его под руку. – Глянь-ка! Давай вместе смотреть…
Нина снова начала курить, хоть и скрывала это. Когда целовалась, втягивала воздух в себя, смыкала губы, затаив дыхание…
Но Алмаз уже не сердился на нее, он словно заболел – и как во сне, где все понимаешь и тем не менее подчиняешься чудесам, окунался в эту головокружительную стихию; стоило ему увидеть ее на снегу в рыжей шубке, близоруко оглядывающуюся, как в нем все начинало дрожать, в глазах темнело, в висках стучало, он открывал рот и беспричинно смеялся или мрачнел, шел покорно за ней, вцепившись в рыжий рукав, – лишь бы поскорее туда, где темно и нет никого.
Часа в два-три ночи он возвращался на попутной в поселок, а вставать приходилось рано, и на курсах сидел бледный, тихий. Когда в гараже крутил гайки ключом или заводил какую-нибудь развалюху, руки то и дело дрожали. Раз в живот ударило ручкой – мотор неожиданно заработал, а зацеп не соскочил… два дня ходил согнувшись, мутило.
Спал Алмаз мало, и сны снились сладкие, тяжелые, невозможные, стыдные…
Утром он растирал зеленоватым и оранжевым снегом плечи, долго смотрел на солнце и вспоминал, как Нина плохо слушала сказку о красном коне… и говорил себе: «Где твоя воля? Она обманщица, для нее все это игра…»
Но вечером ехал, шел, бежал к ней, добирался, ждал на улице…
В Алмазе словно сидел мрачный человечек, маленький, сильный и страшный, он все запоминал до мелочей, что было в прошлый раз; хотя между свиданиями проходили иногда недели, он не забывал, на чем тогда остановились Алмаз и Нина, дотошно и гнусаво напоминал парнишке: в прошлый раз она целовала его вот так, а он рукой своей залез в ее рукав, а в этот раз он целовал ее в шею, в горячую, сладко пахнущую, засунув ладонь за ворот, под белоснежную рубашечку, гладил ее спину, таинственно-прекрасную… «Дальше, дальше? – хрипел заросший во-лосьем человечек. – Еще вперед, еще немного!» Потирал руки, прятал их под мышкой, хихикал и прыгал в Алмазе. Алмаз старался не думать о нем. Солнце, звезды, деревья – все это было родственно с прекрасной девушкой, а он мерзость людская, лужи грязи на улице – он из другой стороны…
И, глядя с ужасом, как радуется мрачный человек внутри Алмаза, бедный долговязый парень покорно шагал за Ниной.
Она решила на днях, что хватит им бегать по метельным и скользким улицам ночью, без пристанища, боясь оскорблений со стороны милиционеров и ханжей.
– Надоело мне в общежитии, Алмазик… Одно и то же. Бабьи разговоры… Я комнату, Алмазик, сняла… Такая милая бабуля – прелесть! Зубы кривые, ноги кривые, горбатая, как колдунья… а меня любит: «Ниначка, Ниначка!..» Я ей, конечно, плачу… зато отдельная комната.
Алмаз и Нина встретились глазами – и сладко замерло все в душе Алмаза, жутковато стало. Но он заставил себя рассеянно улыбнуться и засвистел.
Они весь вечер кружили по старым улицам Красных Кораблей, видимо приближаясь к избе старухи. Смотрели, как текла смутная, морозная ночь, на проводах выпал пышный иней, деревья закутаны в пухлую снеговую шаль – значит, завтра ожидаются солнце и мороз. Странно было брести по кривым переулкам и слышать отсюда ровный гул, лязг, говор тысяч машин, людей, станков, над деревянными низкими крышами иногда загоралось оранжевым светом ночное небо, где-то вспыхивала и гасла фиолетовая звезда электросварки, по небу неслись, моргая, красные огоньки ночных самолетов, а здесь, за заборами и плетнями, скулили от скуки собаки, хлопали крыльями и кричали петухи, хрюкали свиньи и шумно дышали коровы…
Замерзнув, окоченев на снегу, Алмаз первым сказал:
– Покажешь, где живешь?.. А? У тебя чай есть?
Нина словно удивилась, словно только что вспомнила о своей избе:
– Ты прелесть! Хорошо, что напомнил! Конечно, пойдем. А я задумалась…
Но, когда подошли к черным воротам, Нина приложила палец к губам, стала на миг бледной и чужой:
– Иди за мной… только тихо… Проснется старая карга…
Они зашли в темный двор вдоль забора белел снег. Нина поднялась на крыльцо и быстро замахала рукой. Алмаз немедленно поднялся к ней и понял: старуха могла увидеть из окна, сердце расстучалось, влюбленные старались не дышать. Нина тихо повернула кольцо в дверях сеней, присела – железный запор загремел, но все было тихо, старуха, кажется, спала. Мимо сеней прошли прямо и уткнулись в другую дверь. Хотя было темно, Алмаз ясно видел, что Нина не попадает в замок, взял у нее ключ и открыл.
– Ну-у, ты как кошка… – восхищенно сказала она. – Вообще-е!..
Они перешагнули порог, Алмаз запер за собой дверь. В комнате было студено. Нина потрогала левую стену, потом правую.
– Старая карга… дрова жалеет. Я же ей сказала!.. И заплатила вперед… Свет включить?
– Включи.
Свет зажегся. Это была пыльная лампочка ватт на семьдесят пять, она висела на кривом белом шнуре, к которому прилипли еще с лета коричневые липучки для мух.
Слева чернел диван с продранной кожей и вылезающими пружинами, и печь с рыжими пятнами – видно, в этих местах кирпичи прогорели. Впереди окно глядело в ночной сумрак, занавески были застираны и пересинены. Справа тянулась стена из голых бревен с мохом, дом, наверное, предназначался на снос, и старушка ждала, когда ей дадут квартиру. Мох в стене был сизый от мороза. Вплотную к этой стене стоял стол, и висело левее его, как раз напротив дивана, овальное новое зеркало, вряд ли бабушкино. Портрет Есенина и карточка Терешковой торчали справа и слева из-за зеркала.
В этой узкой комнатушке, заполненной кислым угаром старой печи, и началась новая жизнь для Шагидуллина.
Алмаз купил в магазине и принес Нине в подарок приемничек с антенной, заклеил пластырем щели окна, сменил лампочку – привинтил новую, двести ватт. В этом был неосознанный расчет: свет большой лампочки резал глаза, и влюбленные предпочитали в дальнейшем сидеть без света. Без света Алмаз меньше стеснялся своей неловкости, роста, своих длинных рук. Они сидели на стонущем, жужжащем диване и целовались. Алмаз терял голову, он всхлипывал, стонал, а Нина, блаженно улыбаясь, ладонями оглаживала его черную голову, она мучила его, иногда с горькой усмешкой что-то вспоминая, с жарким табачным выдохом в лицо говорила ему.
– Как ты, наверное, страдаешь… как мне жаль тебя…
Она обнимала его, доводила до исступления, отталкивала:
– Но нет, нет!.. Только не это… иначе ты ко мне начнешь плохо относиться… всегда так… почему мы, женщины, несчастны – всегда жалеем вас… нет-нет…
Алмаз молчал, дыша тяжело носом и приходя в себя. Он и не требовал ничего.
Он вставал и уходил домой.
Нина бросалась вслед, возвращала его и снова мучила, и круг повторялся:
– Не сердись… я такая дура… квадратная дура… я больше не буду…
Она так произносила эти слова, что можно было за ними ожидать чего угодно… Алмаз сам боялся, трепетал, скрипел зубами, он гнал из головы все это, но мрачный человечек сидел в нем и гнусаво-радостно бубнил: «Дальше, дальше!.. В прошлый раз ты обнял ее, у нее были плечи голые… белые, жаркие… Значит, в этот раз нужно сразу восстановить, без стеснения, как было, и уж потом продвигаться дальше по сантиметру…» Иной раз от этой борьбы в себе Алмазу казалось, что он сходит с ума. Бабка у себя печь топила, и Алмаз вздрагивал, прикоснувшись левым плечом к раскаленным кирпичам стены, рот у Нины был полуоткрыт, веки полуопущены, в комнатке стоял сладкий и томящий запах духов, ее тонкой шелковой одежды, в окне всю ночь шли бульдозеры, тараня старье, землю, ветер, стрекотали огромные железные кузнечики, часы стучали на правой руке, и время безжалостно поворачивало землю… Алмаз оставался ночевать у Нины. Они, конечно, не спали. Они мучились всю ночь, не решаясь на последнее, что неминуемо маячило рядом… Вокруг земли сыпались звезды, ударяясь друг о друга, как льдинки, в лугах стояли черные стога, и, может быть, олени, пугливо блестя влажными прекрасными глазами, ели сено, их рога темнели над спиной, а намокшие за день деревья потрескивали, обмерзая, но пахли уже горько и нежно; вернувшаяся метель не могла им внушить прежний запах бесчувственного железа, метель плескалась по всей России, и Алмаз чувствовал сейчас всю неуемность ее, всю сладостную тоску ночных равнин, тревожное ожидание чуда, таившееся в ледяных голых лесах.
Иногда Нина смотрела снизу вверх на Алмаза и говорила:
– Сейчас у тебя лицо было такое злое… ты не любишь меня.
Алмаз, мучительно скривившись, бросался ее целовать, он плакал, он готов был умереть ради нее, и она восхищенно шептала:
– Прости меня… я верю, верю. Только нет, не это… ты не будешь потом любить меня… все кончится… я стану сразу как все.
– Какие все? – недоуменно шелестел голос юноши. – Где?.. – Белки вокруг его черных глаз плыли в темноте, как странные кольца.
– Ну-у, я так говорю…
Он бережно прикасался к ней, он боязливо обнимал ее, пока она сама не вызывала в нем состояние исступления… С черной кожи дивана, с гремящих горбов постепенно сползало тряпье, тулуп падал на пол… И, резко повернувшись, Нина видела свое зеркало, в комнатке от работающих машин ходил свет, и она, приподнимаясь на локте, заглядывала в зеркало. Снова целовала Алмаза, и снова туда косилась.
Однажды утром их подкараулила бабушка в сенях.
Горбатая от старости, смуглая, почти черная, с выпуклыми морщинами над верхней губой, со слезящимися хитрыми глазами, она ехидно спросила у них:
– Не холодно спать, а? Знакомимся, а?
– Алмаз его зовут, Алмаз, – сухо сказала Нина, выходя на крыльцо.
– Алмаз – олмас (не возьмет), – скаламбурила бабушка-татарка. Она боялась воров. И, заулыбавшись Алмазу, спросила: – И-и, балам, бу кыз сине яратмый мени? (И, дитя мое, эта девка тебя не любит, что ли?)
Алмаз вспыхнул, а Нина встревоженно всмотрелась в его лицо:
– Что? Что она сказала?
– Ничего, – пожал плечами Алмаз.
– Нет, она что-то сказала!
– Правда, ничего… – Алмаз отворачивался. Его осенило: – Она говорит, чтобы я поколол ей дров.
И обратился к бабушке:
– Утын ватырга мы сина?
– Ии, бик рахмат булыр иде… (Было бы хорошо, спасибо…)
– Ну, в воскресенье, – решил Алмаз. – Сделаю, бабушка.
Они разъехались на работу: Нина – на РИЗ, Алмаз – на курсы, а потом в гараж. Алмаз качал камеры для парней Ахмедова – качал мотоциклетным насосом, тугим, мощным, выбился из сил – взмок, черные волосы закрыли глаза, губы искривились, подбородок вышел вперед, как у старухи. Парни заметили: «Алмаз… что с тобой?» Все объяснил Володя Зубов своим вопросом: «Ты хоть дома раз переночуй… Свалишься ведь…» Рабочие хохотали, и гул машин сливался с их хохотом, Алмаз сидел на резиновой камере, сняв шапку. Пекло солнце, таял снег, чирикали воробьи…