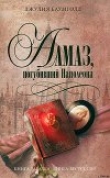Текст книги "Красная лошадь на зеленых холмах"
Автор книги: Роман Солнцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Алмаз медленно подошел к деревянной птице. Ему стало грустно.
Когда-то, еще учась в шестом или седьмом классе, он приходил сюда вместе с верным дружком Камилом, они садились на траву спиной к теплой деревянной башне, читали «Дон-Кихота». И не могли понять, почему Дон-Кихот сражался с ветряными мельницами. Они же очень мирные и печальные, эти мельницы! Алмаз и Камил читали «Дон-Кихота», по-своему разыгрывая роман: Алмаз сражался с Камилом, который был, конечно, Санчо. Ему для роли не хватало брюха, мальчишки нашли выход – Камил набивал за рубашку сено. Только долго потом чесался…
«Прощай, мельница, – сказал Алмаз. – Может быть, не свалят тебя, прибьют медную дощечку. Когда-нибудь приеду, и ты узнаешь меня, закрутишь крыльями, и все перепугаются…»
Отца он увидел раньше, чем табун. Он шел по краю лога, и черные длинные его волосы плыли над розовыми и синими шариками репьев. Лицо его со впалыми щеками, толстыми губами было задумчиво. Заметив сына, он поднялся выше по склону, в поле.
– Дома все хорошо?
– Эйе. (Да.)
Отец виновато улыбнулся, глядя сыну в подбородок:
– Надо было утром тебе ехать… но я знаю, там в понедельник утром не до тебя будет. А второй автобус в половине третьего, как раз успеешь.
Они сели на косогоре среди белых стрелок подорожника и серебристой полыни.
Лошади бродили ниже, по краям лога, щипали траву, терлись головами друг о друга, замирали, глядя куда-то. Осталось их нынче совсем немного, около шестидесяти лошадей… Алмаз быстро отыскал глазами своего тезку, жеребенка по кличке Алмаз, родился он в апреле прошлого года. Белый с дымком, почти неразличимый на склоне, стоял он и смотрел на юношу огромными черными зрачками, шевелил черными губами. Узнал? Почти взрослая лошадь, с крепкой грудью, под копытом хрустят сухие стебли. Красив, наверное, будет зимой на снегу, белый с дымком, настороженный.
– Центнера три уже сейчас… – сказал отец, поняв, куда смотрит сын. И, задержавшись со словом, добавил: – Через года полтора будем делать чик-чик. А то кусаться начнет, глаза кровью нальются… Уже сейчас норов показывает…
Скользя по траве сандалетами, Алмаз спустился к табуну. Лошади на него косились, но не шарахались и не кусали. Подошел к своему другу, оставшемуся без матери нынче зимой, протянул руку – на ладони белел кусочек сахара. Алмаз всегда носил с собой кусочек сахара – иногда сам изгрызал. Из-за этой привычки левый зуб внизу источился…
Жеребчик удивленно смотрел на юношу то правым глазом, то левым, то прямо, как бычок, потом тряхнул головой и медленно, неуверенно ступая, приблизился. Узкомордый, пахнущий горячей травой, он шевельнул ухом и потянулся к руке. Шелковистые губы сняли осторожно сахар с ладони, затем повернулся и умчался, хвост трубой! Табун пришел в движение, лошади заскальзывали за лошадей, какими-то огромными слоями перемещались, перекручивались – вороные, пегие, игреневые, рыжие, гнедые, они перебегали с места на место, шли по кругу, смешивались и растекались цветными линиями. Потом вдруг успокоились, принялись дергать траву, а жеребчик Алмаз оказался далеко.
– Большой, – со вздохом сказал Алмаз, садясь рядом с отцом. – Я его уже не подниму. Жаль – без мамы остался…
– Это все горох… Ты же видишь, свиньям – кирпичные хоромы, а лошадям – старые конюшни. Свиньям – хлеб, а лошадям гороховую солому…
Алмаз все это знал. Весной, когда плохо с кормом, кони болеют от гороховой соломы. Из-за нее образуется в животе комок чуть ли не с волейбольный мяч, и ни туда он, ни сюда. Кобылу, мать белого жеребенка, нынче пытались спасти – слабительное давали и рукой пытались достать, вытащить этот нерастворимый черный комок… Бесполезно, сдохла кобыла.
– Папа, а неужели нельзя ему… не делать чик-чик?.. – спросил Алмаз, стараясь не краснеть. – Он же… ну что, будет, как вот эти мерины, тихий, понурый. Это же будет не он!
Отец молчал. Что он мог сказать? Разве от него зависело, что делать с лошадьми? Всю жизнь работал с ними, за что глубоко уважали односельчане, а из района привезли орден Трудового Красного Знамени. Но не он, не Ахмет Шагидуллин решал судьбу лошади. В век атома, говорило начальство, стыдно держать много коней. Правда, потом времена изменились… но все равно лошадей оставалось все меньше и меньше. А ведь если даже на мясо их. Они обходятся дешевле свиней., дешевле коров. Корми их хлебной половой, травой, свеклой, пои водою. Растут, как на дрожжах, на вольном воздухе! А зачем «чик-чик»? А затем, что начальству нужна покорная тягловая сила и ни к чему страсти, породы, кровь… «Об этом пускай в кино показывают», – смеется начальство, садясь в «Волгу». Вон, мол, есть в Зелинске племенной жеребец Георгий – и прекрасно. Ну на сабантуе пусть поржут, в скачках поучаствуют… А там – под нож, под нож, под нож всех! И жеребцов старше трех лет не держать, один такой руку чуть не откусил лектору…
По синим нежным репьям летали пчелы. Алмаз сидел рядом с отцом и ждал.
«Сын меня о чем-то спросил? – спохватился отец. – Ладно: неважно, пусть едет на свой Каваз. Он хороший парень, внимательный. На лошадей насмотрелся – рвется к машинам. Что ж, подожду лет двадцать, как раз до пенсии… может, сын у Алмаза вырастет, ему-то интересно будет: кони! К этому времени из городов побегут, от дыма и грома… И внук станет моим помощником. Мы подождем. А сын… все его поколение… должно, видно, пройти через железные трубы…»
– Киттек, пошли! – буркнул отец, вставая. Помолчав, судорожно добавил: – Не боюсь я за тебя.
И больше ни слова не сказал.
Они брели уже возле околицы, когда им навстречу выкатился на велосипеде Ханиф. Позванивая, он спешился, протянул руку старшему брату:
– До свидания, Алмаз-абый… Пиши! Твои советы в жизни буду ждать…
Алмаз, улыбаясь, смотрел ему в круглое лицо с острым носом (еще острее и длиннее, чем у Алмаза, хотя лицо круглое, румяное), думал про себя: «Неграмотный растет братец… но хитрый… не пропадет… совсем какой-то другой, чем я. Но я его тоже очень люблю…»
– Учись хорошо, – нахмурившись для солидности, сказал Алмаз.
– Буду стараться, – серьезно отчеканил Ханиф, смеясь глазами. – На локтях шишки будут от сидения за столом! Очки стану носить!..
– Н-ну тебя!..
Алмаз шлепнул его сухой рукой по спине и, опустив голову, зашагал за отцом…
Мама встретила тревожными словами:
– Где вы ходите? Уже все остыло… Вы на автобус Не Успеете! Быстро, быстро мойте руки и за стол…
Как только выпили чай, все заторопились, стали пироги и булочки в рюкзак ему складывать. У тяжелого рюкзака низ был горячим.
– Это от меня, – говорила Белая бабушка, подавая завернутые в газету в масляных пятнах шаньги.
– А вот, вот яблочные, это мои… – совала в руки горячий пакет Черная бабушка.
Все нервно смеялись, переглядывались, сдерживая смех.
– Поехали, – сумрачно сказал отец и быстро вышел.
– Вы не ходите… – попросил Алмаз, стал прощаться с бабушками. От них пахло тестом, топленым маслом и муравьиным спиртом. Он по очереди обнял старух, снова подумал, что, может быть, больше их и не увидит… Ведь лет им немало! Он сейчас любил их так, что хотелось на колени стать и обнять их ноги… Но он надел шляпу и вышел… Сел рядом с отцом на телегу, устланную пахучим сеном. Белая Машка, оглядываясь, махала хвостом.
Мать подошла к подводе, протянула руку:
– Сиди, сиди! Ну не забывай, сынок…
Так и простился Алмаз со своей матерью. И странно, из-за одного этого осталось чувство вины… Бабушки стояли на крыльце, опустив руки, плакали. Возле ног Белой бабушки блестели очки.
– Не стесняешься по деревне на телеге? – всерьез спросил у сына отец. – Может… – он задержался со словами. – Может, огородами на дорогу выйдешь и там подсядешь?
– Да ты что? – удивился Алмаз, и ворота распахнулись.
Младшие братишки прыгнули сзади; белая Машка вывезла телегу на улицу…
По жестким кочкам засохшей улицы они покатили к околице. На скамейках сидели старики в тюбетейках, старухи в пестрых платках. Все они здоровались и прощались с Алмазом, и он со всеми прощался кивком головы. Ему было стыдно чего-то и сладостно – начиналась новая жизнь… Вместе с тем он знал – есть земля, где его все знают и любят.
Земля под этими родными Подкаменными Мельницами не горит…
Через десять минут младшие братишки остались под знойным небом в поле, а через час отец вывез сына на разбитое шоссе, где и подобрал его рейсовый автобус Зелинск – Красные Корабли…
3
Они кружили по стройке, разыскивая тех людей, которые припаяли подкованную лошадь к железу.
Но здесь было все перекопано, через канавы не перепрыгнешь, приходилось обходить за километр, спотыкаясь, утирая мокрые лица.
Под желтым вечереющим солнцем грелись бесконечные груды кирпичей, стальных бочек и колес, торчали какие-то колонны без крыш. В полупустых корпусах без ворот мелькали злые фиолетовые звезды сварки. В небе плыли огромные краны, и тени их стрел быстро проносились по земле…
Они шли, серые от пыли. Белокуров и худой, очень высокий юноша в отцовской шляпе, уже почти забывший, кто он и что он, ему казалось в эти минуты, что он сам давно здесь работает и должен найти людей, обидевших животное и наверняка хохочущих сейчас в какой-нибудь канаве с окурками. «Судить их будем, – думал Алмаз. – Судить! Будут сидеть на скамье подсудимых с привязными ремнями!..»
– Что, что сказали в вагончике? Расскажи, – просил Алмаз своего нового товарища.
В вагончике он никого не нашел. Девочка-практикантка с малиновой нашивкой Кавэнергостроя отложила толстую книгу, подняла на Белокурова неясные глаза и, узнав, в чем дело, перепугалась. Она почему-то решила позвонить в милицию, подняла трубку синего телефона, но здесь выход в город был очень мудреный, да и милиции как таковой на Кавазе не было. Была только боевая комсомольская дружина (БКД), поэтому, невесело усмехнувшись, Анатолий Белокуров положил свою коричневую тяжелую руку на ее белую тонкую кисть. «Неужели у нас такое возможно?.. – шепотом спрашивала девушка, глядя в ужасе на белоголового парня с облупившимся розовым крупным носом. – У нас же все… ударники… на СЭДУ… что вы?!» Белокуров, не отвечая, оглянулся – на скамейке, возле зарешеченного окна спал человек, положив на лицо кепку. Анатолий поднял крепку, пригляделся. Нет, кажется, непохож, да и коротковат. Те были высокие и здоровые. Белокуров, не оглядываясь, вышел.
– Я одного-то точно помню, – объяснил он, тяжело дыша. – Я его, как тещу родную, запомнил. Увидел меня – рванул… Такой мордастый, глаза вразбег… И на спине у него было… у него было… такая завитуха была, рюмка со змеей на спецовке. Это у студентов мединститута. А он сварщик… Что-то не вяжется… Может, где одолжил. В общем, такая штука… рюмка со змеей. А другой черный, черные волосы, пестрая рубашка, в лицо не разглядел. А третьего совсем не помню. Ты-то не видел?
Алмаз признался:
– Я потом увидел. Я их не видел.
– Ну ничего. Найдем. Они не знают, что со мной связались. Мы на границе и не такое распутывали… Подонки!
– А может, по следам попробовать? – спросил Алмаз, заранее смущаясь. Какие уж тут на стройке следы.
– Найдем… Восстановим из пепла… Ты смотри, где какая вывеска, где начальство. Туда и зайдем. Мы их из земли вытащим и обратно туда заколотим!..
Они подошли к железному забору, небрежно покрашенному зеленой краской. Вдоль этого забора и бежали сварщики. За открытыми воротами – белый корпус, на стене мазутом или жженой костью: СТАЛЬТРЕСТ. ГР. УГМ 34… Зачеркнуто и сверху: 8.
Белокуров и Алмаз ступили за ворота. Здесь краснели и рыжели горы труб двухметрового сечения, тавровые балки, железные листы. Слева от белого корпуса на земле блестели рельсы, катился, став ногами на крайние рельсы, похожий на паука, громадный кран, он двигался, дребезжа звонком, расставив ноги, а между ногами у него стоял железнодорожный состав с грузом, и стрела выбирала из очередного вагона балки, переносила их в сторону, туда, где бегали, махая руками машинисту крана, парнишки в касках… Белокуров и Алмаз Шагидул-лин зашли в крытый, вроде гаража, огромный цех, чуть короче деревни Алмаза. Невозможно было смотреть по сторонам – работали сварщики. Гром стоял от молотков, не услышишь крика под ухом.
Белокуров замахал руками, к ним подошел перемазанный в мазуте человек, снял темные очки, вздернув голову, словно спрашивая, в чем дело, кого надо. Белокуров кивнул на выход. Они втроем вышли в зной, к синим теням, к слепящему красному железу.
– Мне бригадира или комсорга, – сказал Белокуров.
– Я бригадир. Толокнов.
– Я бригадир из объединения строителей, из ОС, СМУ-шесть, Белокуров.
Они протянули друг другу руки, каждый из них повторил для себя фамилию другого, пожал плечами, видимо, что-то прикидывая. Затем Толокнов удивленно спросил:
– Сюда-то что тебя занесло?
От его бригады до бригады Белокурова было напрямую не меньше сорока километров.
– Сейчас объясню, – сказал, мрачно щурясь, Белокуров. Он в двух словах поведал суть дела, показывая рукой: – Вот отсюда они побежали… У одного на спецовке сзади рюмка со змеей…
Толокнов снял замасленную кепку, протер ею синие очки, сплюнул, снова надел, очки ткнул в нагрудный карман. И неожиданно разозлился:
– Ну и что? У меня-то что ищешь? У меня таких нету! На пушку берешь? Нету у нас таких, нету. Мы уже три недели морды жарим, конец квартала, план горит, времени нету, а ты пришел уголовщину пришивать?..
– Ты чего кричишь? – тихо перебил его Белокуров. – Я тебя по делу, посоветоваться. Как к бригадиру. Ну-у, брат, так мы хрен построим Каваз… Я что, прокурор, что ли? Мне-то что, делать больше нечего?
Они помолчали.
– Ну история… – пробормотал Толокнов. – В самом деле. И придумали же, мерзавцы! Додуматься надо – лошадь приварить… Жива лошадь?
– Жива-а… Вон парнишка помог расковать.
– У меня в самом деле нету такого, чтобы зо змеей… у меня командированных нету… Мы – стальтрест, спецовка без картинок… черный один есть – грузин, так он из лучших у нас… Ты знаешь что? Загляни-ка во-он туда… там – Спецнефтьмонтаж какой-то, тоже трубы варят, для ТЭЦ… Во-он, видишь пустырек, и такая бетонная каракатица. Вывески нет, они месяц всего там. И, знаешь, там столб стоит, старый, деревянный, прямо от него и входи. А у меня нету, Белокуров!
Толокнов побежал обратно к своим, а Белокуров и Шагидуллин пошли искать людей из Спецнефтьмонтажа. Постояли на пустыре, увидели столб, разбитый в щепу трактором или КрАЗом, переглянулись, подошли к двери, на которой висел отпечатанный красной краской спецвыпуск местной газеты.
В комнатке сидел смеющийся человек в черной рубашке и синтетическом галстуке. Он поздоровался за руку, внимательно выслушал. Потом долго молчал, что-то прикидывая, и, вдруг, потянув носом воздух, вкрадчиво спросил у Белокурова:
– А почему от вас вином пахнет? Или, может быть, я ошибаюсь?
Белокуров растерялся.
Белокуров и Шагидуллин, опустив головы, побрели через пустырь.
– Ч-черт!.. Слушай, Алмаз, зайди один, узнай, где что. А когда найдем тех парней, я все возьму на себя… Ты иди, иди прямо в партком, скажи, что работаешь у меня, в СМУ-шесть, входи, где под стеклом золотые буквы… где солидней. Там люди поумней… Нет хуже маленького начальника, вроде вот этого, где мы были… Я тебя подожду здесь. Эх, сен-сен бы пожевать!..
Белокуров развернул плечи, вдохнул, выдохнул… вдохнул, выдохнул…
– Ну, иди, иди. Видишь, как твой первый день на Кавазе начинается. Гордись!
Белокуров сел спиной к расщепленному столбу, закрыл глаза.
И почему-то жалко так его стало Алмазу, так обидно за него… Почему они смеют пугать Белокурова? Он натянул на лоб шляпу, искривил маленький рот. Ему захотелось бежать по стройке, стучать во все двери и окна. Вспомнилась бедная старая лошадь, расставившая подкованные ноги, глядящая вперед безумными сверкающими глазами, она, конечно, не понимала, почему не может оторвать копыта от земли… А это сделали люди. Плохие люди!
– Ты сиди, – сказал Алмаз своему новому товарищу. – Я сейчас узнаю.
Алмаз пересек двор, увидел несколько грузовых машин и шоферов, которые курили на скамеечке. Он молча обошел их сзади, никаких рисунков на спинах не увидел.
– Тебе чего, моща? – доброжелательно спросил один из шоферов. – Кого ищешь?
– Извините. Где сварщики?
– Одна бригада там, – кивнул парень в сторону бетонного корпуса. – Остальные на объектах. Ты ж знаешь, у нас здесь работы почти нет…
Он открыл дверь и увидел в коридорчике яростно споривших людей. Они были в зеленых спецовках (Белокуров видел зеленую!), в касках и рукавицах. Алмаз, задыхаясь от табачного дыма, прошел сквозь толпу, глядя по сторонам, но ни на ком рюмку со змеей не углядел… Он толкался здесь минут десять, потом сжал упрямо рот, опустил ниже шляпу на лоб и зашагал дальше.
Над входом одноэтажного деревянного здания увидел вывеску: ОМ, и помельче написано: «Объединение строительной механизации». На крыше трепетал блеклый флаг. Здесь постоянно сновали люди, заворачивали на территорию за домом, садились в машины и уезжали. Там стояли оранжевые экскаваторы с ковшами, КрАЗы и еще какие-то похожие на гигантских кузнечиков машины на резиновых колесах. «ОМ… – прошептал про себя Алмаз. – Объединение механизации?..» Если бы энал Алмаз, что он сам через какое-то время будет здесь работать! Но это будет не скоро, очень не скоро…
Он поднялся на крыльцо, возле которого е одной стороны желтела высохшая клумба, с другой – лежали железное корыто и палочки с привязанными тряпками. «Когда грязь, дожди, здесь моют обувь… – догадался Алмаз. – Совсем как у нас в деревне». Мысль эта успокоила его. Он вошел в длинный коридор, миновал огнетушитель, портреты молодых мужчин и женщин – около тридцати портретов, прочитал на дверях: «Корнеев… Салахов… Вебер… Замначальника управления… Постройком… Шевченко… Горяев, партком». Здесь был партком, только никакого золота под стеклом, написано от руки на белой картонке. Алмаз нахмурился и постучал.
– Войдите.
Алмаз вошел, снял шляпу. Лоб у него был красный от удара, слегка вспух, лицо приобрело независимое, злое выражение.
Он поздоровался и, гордо задрав голову, посмотрел на плакаты.
Горяев, парторг ОМ, широкоскулый, с темными полноватыми губами человек, в этот день на обед не пошел – в столовой до сих пор скверно готовили, ему принесла секретарша Вебера два пакета с молоком. Он пил его, надрезав бумагу, разглядывал искоса Алмаза. Черноволосый, худой, очень нескладный татарчонок, но уже, несомненно, юноша – руки ниже закатанных рукавов венами вздулись, на скулах желваки, подбородок острый, оформившийся. Прямой длинный нос. Интересно, что у него?
Алмаз говорил то по-русски, то по-татарски, он залился краской, застеснялся, на лице выступил пот.
– Мой бригадир ждет там, на улице. Он… зашел поговорить в соседнюю организацию… Нужно найти этих… этих плохих людей, а? Мы их узнаем. Их надо судить, а?
Энвер Горяевич не перебивал его. Парнишка ему понравился. То ли совершенно наивными горящими глазами, то ли редкой стеснительностью своей. Сама история, которую он рассказывал, была неожиданной. Парторга окружали заботы «машинные»: экскаватор, сломавший ковш, кран, уронивший плохо застропаленную балку на машину, нехватка запчастей, машинное масло, солярка, бензин, резина, покрышки… Парторгу спать не давали ясли, которых не хватало, путевки в пионерлагерь, квартирный вопрос… И вдруг какая-то лошадь, идиоты, поиздевались над ней, и этот деревенский мальчишка, выговаривающий вместо яшен – жяшен (молния), на очень смешном диалекте.
– Ай-яй-яй! – воскликнул Горяев. – А ты где работаешь?
Алмаз признался:
– Я только ехал… и тут эта история… Но я пойду к Белокурову. Он бригадир, обещал взять. Он бывший пограничник.
– А на экскаваторе или скрепере работать не хотел бы?
Лицо Алмаза посветлело. Но тут же он насупился, ответил почти недружелюбно:
– Я обещал.
– Ну что ж… – Энвер помедлил. – Жаль. Что я могу тебе сказать. Эти трое уже давно наверняка сменили свои куртки и свои штаны. – Резко зазвонил телефон. Горяев снял трубку, послушал и неожиданно, жестко глядя перед собой, отрезал: – Нет. Снова повторяю, такие вещи не прощаются. Партбилет – не индульгенция, наоборот, каждая ваша глупость только усугубляется, и спрашивается с вас вдесятеро! Это… это не мои домыслы… Ну, хорошо, пишите. Хоть в ЦК пишите. Не забудьте под письмом расписаться и число поставить. Всего хорошего! – Горяев бросил трубку, поднял другую, сказал: – Я занят! – и, подняв на Алмаза татарские черные глаза, мягко продолжал. – И свои, повторяю, штаны. Сейчас этих мерзавцев не найдешь. Вы молодцы, что освободили лошадь. Если встретите когда-нибудь их… ну, набейте морду, а еще лучше – напишите в газету, и пусть их с позором турнут со стройки. Успокойтесь. Как вас зовут? Алмаз? Успокойся, Алмаз. – И на татарском языке продолжал: – Я хочу сказать тебе, что у меня одного работает около сорока тысяч народу…
– Сорок тысяч?! – ахнул Алмаз. И простодушно спросил: – А почему же не золотом на дверях?..
Энвер искренне засмеялся:
– Будет… будет золотом… и не на таких сараях… а на дворцах, куда люди придут жить. Мы же строители, мы временные. Мы пишем карандашом «кто есть кто» на своих дверях. Мы уйдем, и Белокуров уйдет. А люди придут работать на Каваз, и у них будет золотом. Сперва – у начальников, а лет через десять-двадцать – у всех… Но я хочу сказать о другом. У меня работают тысячи. Каждый день – сотни происшествий, тысячи новостей, новостей прекрасных. И что среди всего этого старая лошадь? Я тебя понимаю, но ты пойми меня. Не могу я сейчас останавливать своих рабочих и проверять их в профиль и анфас. Каждый час простоя отнимает у государства двенадцать-пятнадцать тысяч только по моей организации. Дели на шестьдесят, дели! Сколько будет в минуту? Двести рублей – каждая минута! Тебе надо минут десять – поговорить, рассказать. Я сейчас мог бы по селектору, по радио оповестить народ… Но это отняло бы у страны две тысячи рублей. А сколько стоит лошадь, Алмаз? Рублей двести…
– Я понимаю… – клоня голову, сказал Алмаз. – Я понимаю… извините…
Горяев продолжал втолковывать Алмазу общеизвестные истины и решительно не мог понять, что заставляет его сегодня так подробно разговаривать с каким-то простодушным мальчишкой? На него словно сеном пахнуло от Алмаза, невинной мудростью детства, безыскусной суровостью деревенской логики. Энвер вспомнил свою деревушку, где не был лет семь… так получилось. И сейчас, заглядывая в лицо понурившемуся Алмазу, он словно шел по зеленой широкой улице, мимо кур, почти невидимых в траве, и жарко дышащих собак.
– Ты из каких мест? – спросил Горяев.
– Из Подкаменных Мельниц…
– Это совсем рядом! – обрадовался неизвестно чему Энвер. – Ну как, нравится тебе здесь? Или ты еще ничего не видел? Конечно, это только окраина стройки. Начнешь работать – увидишь, как развернули мы Каваз…
– Спасибо. Я пойду? Извините, что я… (Горяев говорил по телефону.) Извините, так жалко лошадь, а то я бы… (Горяев отвечал по другому телефону.) А я хотел спросить у вас: вот и там и там – сварщики… и у стальтреста, и в этом нефтьмонтаже, и еще… Зачем?! Разве нельзя собрать их всех вместе, и будет одна контора…
Горяев, внимательно глядя на Алмаза, улыбался.
– Думаешь – распыление? Нет, здесь сложнее. Потом поймешь. Ну мне пора ехать.
Они вышли на улицу. Солнце уже садилось – было темно-малиновым, и стрела башенного крана, легшая на него, просматривалась легко и четко.
– Сав бул, – протянул руку Энвер. – Будь здоров! Захочешь у нас работать – приходи…
Парторг сел в «газик» и укатил. Алмаз вспомнил о Белокурове, побежал к расщепленному столбу. Ему было стыдно, что он заговорился с этим человеком, отнял время у него, а для дела ничего не сделал… Белокуров будет, наверное, ругаться.
Анатолий сидел, прислонясь по-прежнему к столбу, и спал. Алмаз заулыбался, глядя на товарища, сел рядом. В груди болезненное напряжение прекратилось, и Алмазу захотелось поесть. Он поискал было глазами рюкзак и вспомнил: оставил в автобусе! Пироги, булочки, шаньги с творогом, кабыстый, чак-чак… все осталось в рюкзаке. И, кроме этого, адрес родственника-милиционера! Алмаз стал осторожно будить Белокурова.
– Толя, вставай!
Белокуров открыл строгие синие глаза.
– Алмаз? – спросил он хрипло. – Ты Алмаз? Ну, ну, как дела?
Алмаз рассказал, где был, потом упомянул о рюкзаке.
– Да брось! – махнул рукой Белокуров. – Рюкзак мы тебе найдем, а пироги – черт с ними! А насчет адреса… Чего он тебе? На работу мы тебя устроим. Считай, что принят, пока по второму разряду… потом придумаем. Поехали в общагу!
– Не-ет… – краснея, уперся Алмаз на своем. – Там пироги, бабушки пекли… мама пекла…
– Ну, хорошо. Съездим на автостанцию, прямо сейчас. Найдем бабушкины пироги. Найдем!
Белокуров медленно поднимался, опираясь о расщепленный столб и рассматривая его смеющимися глазами:
– Ого! Катя плюс Вася… А смотри-ка, какой-то цыган написал… Тазыбаев Женя, цыган, приехал впервые в Набережные Баркасы двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года и уехал навсегда двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Даже дня не задержался! Вот парень!.. Заехал бы он сейчас, кого только на стройке нет – все сто национальностей…
Они сели в рейсовый автобус и поехали. Сильно трясло, у Алмаза в нагрудном кармане рубахи стала позвякивать денежная мелочь. Чтобы не бренчало, он сунул в карман смятый платок, но грудь оттопырилась, как у девушки. Ему стало почему-то не по себе, вместе с платком он переложил монетки в брюки. В автобусе ехали смуглые, очень молодые девушки, его ровесницы. Казалось, они посмеивались над высоким нескладным мальчиком. И лицо Алмаза стало непроницаемо-злым. Но такое выражение трудно было долго удержать, через минуту-две снова глаза его чудесно блестели, разглядывая приближающиеся Красные Корабли.
Автостанция была тоже на окраине, на рыжем пустом лугу. Здесь стояли несколько длинных роскошных «Икарусов» и десяток заплатанных автобусов, похожих на зелинский. Который из них? В диспетчерской шоферов не нашли. Имя вспомнили не сразу.
– Что-то такое горючее… – бормотал Белокуров. – Динамит, карбид…
– Фарид! – воскликнул Алмаз.
Девушки в диспетчерской сказали им, что Фарид уехал на своем автобусе домой, будет утром в десять, у него рейс в Дурт-Мунчу (д. Четыре Бани). Анатолий и Алмаз посмотрели на темно-красный закат, на фоне которого чернели тысячи тонких труб, башенных кранов, стальных каркасов завода, потом забрели в буфет, который уже закрывался, съели по четыреста граммов жареной колбасы с хлебом, запили черным теплым кофе. Белокуров взбодрился, а Шагидуллина самым позорным образом потянуло в сон. Когда они ехали в центр Старого города, в Красные Корабли, он уже клевал носом, и бывший пограничник удивился:
– Как же можно после кофе спать? Подъем!
Потом они шли по какому-то очень широкому проспекту, вокруг шаркала ногами многотысячная толпа, проносились машины с малиновыми и белыми огнями, от каменной земли шел теплый дух. А дальше лифт большого здания вознес Алмаза на восьмой этаж.
У него появились новые друзья. Он жал руку Славе, жал руку дяде Косте, еще здоровался с кем-то… Потом ходили по коридору, смотрели, нет ли свободной койки, но даже койка Белокурова была занята – на ней временно спал шофер, который развелся с женой; пустую лежанку нашли в комнате где-то за лифтом, и Алмаз, стесняясь незнакомых людей, разделся под одеялом, даже не выбросив брюк на стулья.
Алмаз сквозь сон слышал все, что происходило вокруг него. Он боялся, что его новый друг будет рассказывать о лошади, но Белокуров об этом молчал, лишь посмеивался. Он много курил, потом, густо и страшно дыша табаком, лег недалеко от Алмаза на полу. Долго ворочался.
– Все. Мы дома. Все, братишка, – проговорил он в темноту.