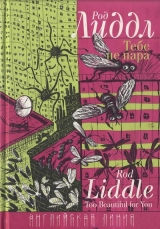
Текст книги "Тебе не пара"
Автор книги: Род Лиддл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Мисс Макколл взирала на Пфистера через окно его кабинета. Вид у нее был какой-то удивленный.
Под конец это стало действовать Пфистеру на нервы до такой степени, что он встал из-за стола и подошел к окну опустить пластмассовые жалюзи. Она все утро не сводила с него своего давящего, чуть ли не обвиняющего взгляда. Застывшее на ее лице выражение сообщало ей сходство с неким василиском, шутки ради изваянным в стиле постмодерн. Тем временем четырьмя этажами ниже шумно, с гиканьем и оглушительным хохотом резвились третьеклассники.
Даже сейчас, встав, чтобы потянуть за нейлоновый шнур, он заметил, как некоторые из них, обернувшись к нему, начали с издевательским ржанием показывать пальцами в сторону мисс Макколл. Один мальчишка, неплотно сложив пальцы в кулак, принялся быстро махать им вверх-вниз – Пфистеру этот жест был хорошо знаком. Сама по себе фамилия Пфистер звучала недостаточно непристойно и оскорбительно, поэтому среди 1700 учеников директор был известен под куда более простым и незатейливым прозвищем «дрочила».
Пфистер постучал в окно, и дети неторопливо разошлись, не переставая гоготать, а он остался стоять, уставившись на мисс Макколл, в свою очередь уставившуюся на него. Ну, что вылупилась, матушка, подумал он, хватит пялиться. Со вздохом опустив жалюзи, директор вернулся к своему большому сосновому письменному столу, заваленному многочисленными расписаниями, отчетами и докладными – со всем этим уже давно пора было разобраться.
Но работать он не мог – знал, что мисс Макколл по-прежнему пялится на него, несмотря на опущенные жалюзи.
Поерзав в кресле, он залез в верхний ящик стола и пересчитал мелочь в пластмассовой серой коробочке. Поковырял в зубах разогнутой скрепкой для бумаг, покончив таким образом с остатками съеденного второпях невкусного обеда. Затем снова взглянул на часы: 14:43. В очередной раз медленно, устало вздохнув, нажал на кнопку селектора.
– Дженни, где Дэрил Хейст?
Послышался треск статического заряда: это его секретарша в приемной по соседству возилась с проводом.
– У него две физики подряд; сказал, что заскочит, как только освободится. Это было… м-м-м… сейчас посмотрю… в десять. Пойти мне, поторопить его?
– Да. По-моему, пять часов – срок вполне достаточный. Да и физика, честно говоря, мне кажется сомнительным предлогом. И вот еще что: пора бы кому-нибудь что-нибудь сделать с мисс Макколл. Она у меня уже в печенках сидит. Разберитесь, пожалуйста.
– Будет сделано, шеф.
Но прошло еще сорок пять минут, прежде чем селектор наконец возвестил о прибытии Дэрила Хейста. Почти одновременно – ибо вопросительного стука-предупреждения не последовало – дверь распахнулась, и в кабинет бесшумно вошел бритоголовый четвероклассник. Он остановился в нескольких ярдах от стола Пфистера с выражением неописуемой скуки на одутловатом, нездорового цвета лице. На его рубашке виднелись следы крови. Директор коротко вздохнул, вытащил из ящика голубой бланк объяснительной и снял колпачок с перьевой ручки, подаренной ему попечительским советом по случаю юбилея, в ознаменование пяти беспросветных лет на посту руководителя районной школы им. Даниеля Ортеги.
– Спасибо, что пришел, Дэрил. Садись, пожалуйста.
Голос Пфистера звучал ровно, в нем не слышалось ни фамильярных ноток, ни осуждения. Именно так их учили разговаривать в подобных ситуациях. Подросток с мрачным видом опустился в кресло и принялся теребить гигантский прыщ на лбу. Прыщ распух, покраснел, будто от злости, но еще не достиг той стадии спелости, на которой его можно было бы успешно изъять, не прихватив заодно и всю оставшуюся часть головы. Эта штука, должно быть, причиняет мальчику боль, мешает сосредоточиться.
Несколько мгновений Пфистер молча смотрел на него.
Наконец Дэрил Хейст завершил исследование своего лица и соизволил взглянуть на Пфистера в ответ.
– Ну че еще? – произнес он с некоторым нетерпением и усталостью в голосе.
Пфистер размышлял о том, как лучше начать разговор. По его жилам пробежала волна совершенно недопустимой в профессиональном смысле неприязни. Не следует давать волю эмоциям, мысленно поставил он себе на вид.
Однако на сей раз, подумал он, этот малолетний негодяй у меня действительно получит, мать его так. Вопрос только, как это сделать? В таких случаях всегда трудно принять правильное решение. К тому же многое будет определяться тональностью этой предварительной беседы. Прежде всего, решил Пфистер, постараемся соблюдать спокойствие и говорить начистоту.
– Дэрил, зачем ты убил мисс Макколл и водрузил ее голову на сорокафутовый шест?
Дэрил раздраженно щелкнул зубами.
– А я че, знаю? Наверно, постоянно испытывал ожесточенное неприятие и грубое отношение со стороны коллектива. Извиняюсь. Сколько раз повторять-то. Я, типа, это… раскаиваюсь.
С этими словами Дэрил взглянул на директора с неким подобием мерзкой полуулыбки на лице.
– А теперь я чувствую себя намного лучше, – добавил он, – и смогу продолжать обучение без дальнейшей угрозы для учеников и сотрудников.
Что выводило Пфистера из себя, так это подкованность Дэрила, то, насколько легко и гладко подобные фразы вылетали у него изо рта, вызубренные под руководством целой армии психологов, полицейских инспекторов и сотрудников службы социальной поддержки. Особенно раздражало то обстоятельство, что в любой другой ситуации Дэрил двух слов связать не мог. Пфистер почти не глядя сделал пометку на голубом бланке.
– Дэрил, мне необходимо знать следующее, для протокола, – продолжил он, барабаня пальцами по объяснительной записке. – Подверглась ли мисс Макколл сексуальному насилию?
– А я че, знаю? Не помню я. Я в тот момент находился в состоянии депрессии.
– Послушай-ка. Я задаю этот вопрос, так как мне нужны все подробности дела. Но скоро расследование начнет полиция, будут проведены различные тесты, и тогда…
– Ну ладно, ладно, ладно, всё! Ну, трахнул я ее в задницу.
– До или после наступления смерти?
– Да блин, ну не помню я.
Он замер в раздумье.
– По-моему, когда она умирала.
Пфистер кивнул и снова что-то черкнул в своих бумагах.
– Значит, после того, как пырнул ее в самом начале, но до того, как обезглавил?
– Угу. Да. Ну, в общем, и то, и то.
– Хорошо. Так, а каким образом ты отделил ее голову от тела?
Дэрил сунул руку в карман пиджака, извлек оттуда длинный кухонный нож и швырнул его на стол.
– Вот этим вот.
Пфистер взглянул на орудие, кровь на котором еще не успела полностью засохнуть, и, не прикасаясь к нему, сделал краткую запись в бумагах.
«Большой нож, зазубренный по краю, с деревянной рукояткой, вероятно, предназначенный для резки хлеба», – написал он.
– И мисс Макколл была убита именно этим оружием?
– Ну да, а чем же еще. Я ей, правда, еще пару раз в рыло дал, когда она орать начала.
– Чем же, позволь спросить, было спровоцировано твое нападение?
– Да она, блин, меня постоянно доставала: это сделай, то сделай, а потом еще накинулась за то, что я Далгетти пырнул, ну, это меня просто вывело. Начал испытывать ожесточенное неприятие, гру…
– Далгетти? Ты его пырнул? Как его состояние?
Об этом относительно мелком происшествии директору не сообщили.
– Да нормально, я его на самом деле даже и не пырнул – так, шею порезал немного. Перевязанный ходит.
– Послушай, Дэрил. На этот раз тебя ждут большие неприятности. Я хочу сказать, тебе предстоит как минимум весьма подробное обследование у психиатра, а по его завершении, полагаю, перевод в другую школу.
Мальчишка наклонился вперед в кресле, сжав кулаки на коленях.
– Ну да, вот из-за такого говна всегда вот так, – проныл он. – Будешь тут испытывать ожесточенное неприятие и грубое отношение со стороны коллектива, когда тебе постоянно в морду тычут. Короче, я ж говорю: искренне раскаиваюсь в своем поступке. Серьезно.
– Да, я не сомневаюсь. Но это ведь уже не первый случай, не так ли?
– То есть в каком, блин, смысле?
– Ну, например, досадное устранение мистера Спаркса…
– Да пошел ты! Это не я, это Флобер из 4-го «Р». Ты че, вообще, придурок долбаный?
– Неужели? – Пфистер порылся в памяти, которая в последнее время, надо признать, стала слегка сдавать. – Прости, пожалуйста. Не хотел тебя напрасно обвинять. Тысяча извинений. Но я уверен, Дэрил, – было ведь что-то еще, что-то неприятное. Ты не помнишь, что именно? У меня тут в деле наверняка записано. – Пфистер принялся рыться в ящике с папками.
Дэрил Хейст опять раздраженно щелкнул зубами.
– Ну, мистера Гибсона в прошлом году в лицо пырнул на уроке естествознания, так он же сам, блин, напросился, все так говорили, даже социальная служба, плюс еще они меня потом заставили пройти кучу всяких дурацких психтестов, хоть я понятно объяснил, что сожалею, раскаиваюсь и тому подобное, даже перед мистером Гибсоном готов был извиниться, только он, блин, из школы ушел, так что я не понял, сейчас-то чего об этом разговор заводить…
Ах да, вот оно что. Пфистер вспомнил. По рекомендации местного отдела образования и лично молодого честолюбивого заведующего, Дейва Шибболета, Дэрила не исключили из школы за то досадное происшествие. Аргументы против исключения, обеспечившие успех защиты, были просты, но сокрушительны. Доказано было, что склонность Хейста к насилию распространялась только на учителя естествознания, мистера Гибсона; было также признано, что имевшая место определенная личная неприязнь – если не физическое насилие как таковое – являлась взаимной. Поскольку мистер Гибсон ушел из школы им. Ортеги по собственному желанию, лиц, для которых Дэрил мог бы представлять угрозу, в школе больше не осталось. Пфистер знал, что те же аргументы вполне можно было использовать и на этот раз. Серена Макколл мертва – а значит, больше не может пострадать от силовых приемов или, если на то пошло, амурных притязаний Дэрила.
Пфистер понимал, что важно не терять самообладания. Но с другой стороны, сколько можно терпеть это жуткое нахальство, это нытье, а главное – вопиющую несправедливость положения. Ему нравилась Серена Макколл, подающая надежды учительница, пользовавшаяся немалым авторитетом среди учащихся – или, по крайней мере, среди тех из них, у кого отсутствовала врожденная склонность к насилию и убийству. Она, конечно, заслуживала лучшей участи, чем уход из жизни при таких обстоятельствах: засунутый в зад юношеский член, насаженная на шест голова. Пфистер твердо решил, что смерть Макколл должна повлечь за собой нечто более значительное, чем очередная серия психиатрических тестов и возможный перевод Хейста в школу с забором повыше на какие-нибудь несколько дюймов. Им обоим было хорошо известно, что дальнейшие события станут, вероятно, развиваться именно по такому сценарию. Осведомленность Дэрила во всем, что касается псевдоюридической стороны дела, плюс его заведомо тяжелые обстоятельства: происхождение, неблагополучная семья и трудное материальное положение – этого вполне достаточно, чтобы мера наказания (если общественность и потребует такового) оказалась предельно мягкой.
Но на этот раз ему от Пфистера не уйти; он свое получит, это точно. Засранец всем своим видом напрашивается на более суровое, чем обычно, порицание. Тупые, ничего не выражающие глаза, агрессивная, развязная походка, скука, сквозящая в каждом движении, неизменно жалобные, скулящие интонации, наглость, доведенная до рефлекса, четкая убежденность в том, что это он пострадавший, и при этом – полное бессердечие.
Не говоря уж, разумеется, о его склонности убивать, калечить и насиловать сотрудников во время приступов агрессивного психоза. Расквитаться с мерзавцем, думал Пфистер. По-черному расквитаться. Да, именно такие слова пришли ему в голову – должно быть, не случайно, а по воле какого-то не менее мстительно настроенного божества, ибо, пока он повторял их про себя, у него внезапно прорезалась одна мысль.
Секунду-другую Пфистер размышлял над возникшей идеей. План непростой, думал он, но может сработать. Не торопиться, думал он, тянуть время, постараться расположить его к себе, усыпить бдительность и только тогда закинуть удочку. И может быть, может быть…
Он откинулся в кресле и отложил в сторону ручку.
– Да, подвели мы тебя, Дэрил, подвели.
Парень ответил подозрительным взглядом.
– В каком смысле?
– Ну как же: ты уйдешь от нас, так и не получив практически никаких знаний. У тебя постоянно были трудности с тех самых пор, как ты сюда поступил. Нелегко тебе здесь пришлось.
– Ну да, я это, привык уже, – пробормотал Дэрил. Жалость к самому себе так и сочилась из него, словно гной. – И дома, блин, тоже плохо было – папаша свалил на хрен.
– Я понимаю, Дэрил, я все понимаю. Но чем же мы еще могли тебе помочь? Что мы могли для тебя сделать?
– Че-че, непонятно, что ли? Кончали бы наезжать, а то достали уже: то одно, то другое.
– Да, я понимаю. Все правила, правила, да?
– Ну да, правила дурацкие. Никто ж не понимает, мне-то каково.
– Извини, Дэрил. Ясно, что нам следовало с самого начала немножко больше к тебе прислушиваться. Мы с тобой видимся, только когда у тебя неприятности – разве это дело? Тут наша школа страшно виновата. У нас же нет никакой возможности общаться по-человечески!
Дэрил медленно кивнул.
– Если б я мог с кем-нибудь про это поговорить, не знаю, может, ничего такого и не случилось бы. То есть я про вот эти вот дела, когда меня ну просто выводят…
– Я понимаю, понимаю. Теперь мне все ясно. Но хоть что-нибудь тебе здесь, у нас в школе, понравилось?
Хейст секунду подумал, откинувшись в кресле.
– Да вроде нет.
– А спорт?
– He-а. То есть футбол еще ниче так. Работа по дереву, в общем, нравилась, вот только мистер Маршалл – такой пидор.
– Да, Дэрил. Самый настоящий пидор.
Мальчишка взорвался от хохота.
– Ага! Про учителя сказал – пидор! Ха-ха-ха-ха-ха! Так же не говорят!
– Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Мистер Маршалл – пидор первый сорт! – проорал Пфистер.
От восторга Дэрил заскулил, потом тоненько заржал.
– Вот видишь, Дэрил, наши взгляды, похоже, во многом совпадают. Взять мистера Дагена – козел или как?
– Точно,блин, козел, настоящий, блин, пидор.
– А мистер Вэчери – про него что ты скажешь?
– Пидор!
– Да, и к детишкам, наверное, пристает.
Дэрил снова забился в конвульсиях; лицо его сияло счастьем.
Загудел сигнал селектора – это была Дженни.
– У вас там все нормально, сэр?
– Да, Дженни, спасибо, все прекрасно.
Не обратив внимания на это вмешательство, Дэрил подался вперед и, словно задумав тайный ход, произнес:
– А знаете, кого я больше всего ненавижу?
– Кого, Дэрил?
– Жиллетта. Как свинья, блин, здоровый такой, жирный, потный. И пидор. И вообще придурок.
– Ты знаешь, Дэрил, тут я с тобой, пожалуй, соглашусь.
Мальчишка ухмыльнулся.
– Послушай, Дэрил, – сказал Пфистер, убирая в ящик голубой бланк, – давай не будем больше об этом деле, а?
– Да, сэр!
– С полицией, боюсь, побеседовать придется. Но в следующий раз давай-ка мы с тобой лучше обсудим, кого еще из моих сотрудников следует считать самыми настоящими пидорами – идет?
– Конечно, сэр, без проблем. У меня их, блин, целый список здоровенный!
– Не сомневаюсь. Ну что ж, а теперь иди-ка обратно в класс. Встретимся как-нибудь еще, при более приятных обстоятельствах.
Счастливо улыбаясь, Дэрил поднялся со стула.
– Хорошо, сэр. Пойду, что ли, правда. У меня сейчас французский, два урока у этой вшивой лягушатницы – ну, у шлюхиэтой, мисс Шевенман.
– Ха-ха-ха! Вот уж действительно дура несчастная! Да, и последнее, пока ты не ушел…
Пфистеру удалось закинуть крючок с наживкой. Это оказалось не так уж и сложно – совсем не сложно, по правде говоря.
– Что, сэр?
По-дружески легко, словно это не имело никакого значения и даже как будто заранее соглашаясь с любым возможным ответом, Пфистер спросил:
– А все-таки, чем тебе мисс Макколл не угодила?
По-прежнему широко улыбаясь, Дэрил не смог удержаться от ответа:
– Я ж говорил. Она меня, блин, доставала постоянно. И…
– И?..
– Ну, блин, ну не перевариваю я сволочь черножопую…
И тут он, вспомнив правила игры и внезапно сообразив, что нарушил их, пусть на очень короткий срок, но очень и очень недвусмысленно, замер на месте.
В ничего не выражающих глазах впервые промелькнуло выражение настоящей паники.
А Пфистер, почувствовав, как напряжение во всем теле отпустило, позволил себе некое призрачное подобие милой улыбки.
– Ах, Дэрил, Дэрил, Дэрил… – обратился он к дрожащему ученику. – Я думаю, тебе лучше снова присесть. Полагаю, нам нужно обсудить одно очень важное дело.
И вынул из ящика другой бланк – на этот раз красный, а не голубой.
ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ ЭНГИНА ХАССАНА
Целое утро Энгин Хассан мучается над заковыристой задачкой. Можно ли занимать полосу для общественного транспорта по дороге в еврейскую картинную галерею – рассадник сионизма, который он собирается взорвать вместе с прилегающей пивной, – размышляет он. Или вреда от этого будет больше, чем пользы? Даже сейчас, стоя на светофоре, блестя пленкой испарины и нервно барабаня руками по рулю, он не может определиться. С одной стороны, он скорее попадет на небо, это несомненно. Может, даже удастся успеть к галерее в назначенный срок – важный момент, ибо толпа очень быстро поредеет, когда пройдет обеденный час пик. С другой стороны, нарушая правила, он рискует попасться на глаза полиции, что может поставить успех всей операции под серьезную угрозу. Как поступил бы Тарик? Э-э, в том-то и сложность: Тарика здесь нет. Теперь он один.
Во время вчерашней репетиции он проехал весь путь по правилам, но по каким-то необъяснимым причинам дорога была намного свободнее. В этом городе не поймешь, чего ожидать от движения, думает он. Непредсказуемо, как английская погода.
Радио в машине настроено на популярную музыкальную программу. Внимание Энгина постепенно рассеивается, он начинает подтягивать Ронану Китингу, весело, хоть и слегка фальшивя: «Жизнь – американские горки, садись и поезжай». Такое мировоззрение Энгин целиком разделяет.
Светофор переключается, машины впереди трогаются с места со скоростью около трех миль в час. Энгину видно препятствие: грузовик, везущий товар в супермаркет, перегородил внешние ряды – похоже, занесло при попытке резко повернуть налево. Ворча, он выруливает влево, на запрещенную часть, и газует. Шло бы оно все, говорит он самому себе. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Аллах, разумеется, не взыщет за столь мелкое правонарушение, к тому же совершенное во имя такой высокой цели. Законы дорожного движения – дело рук человеческих, разве нет? Ведь в Коране, не дай соврать, ничего не сказано про полосу для общественного транспорта, продолжает он свой внутренний разговор.
Энгин разгоняется по широкому центральному бульвару – и вот, наконец, он у цели! Впереди, за чередой дорогих магазинов, виднеется ресторан при галерее – до него, должно быть, не больше мили. Он явно принял мудрое решение: успеет нанести удар в назначенный час. И потом, по центральной части поток движется так медленно: непонятно, как ему вообще удалось бы набрать скорость, достаточную, чтобы протаранить двери и проскочить через вестибюль к входу в основное помещение галереи. На этом они особенно настаивали. Ресторан находится на втором этаже, в застекленном зале в глубине здания, на приличном расстоянии от фасада. Нет смысла взрывать ко всем чертям один вестибюль. Жертв среди этих свиней, этих грязных еврейских преступников, будет до обидного мало.
Осталось триста ярдов. Ведя машину одной рукой, он открывает бардачок, вынимает маленький, тускло отливающий черным металлический детонатор и кладет его на колени. Модель новая, детонатор чешского производства, радиус действия 5,5 миль. Но на этот раз на полную мощность он опробован не будет. Пластиковая взрывчатка лежит надежно упакованная в багажнике, примерно в 5,5 футах от Энгина. Никакой промашки тут быть не может!
Какая слава ожидает его там, по ту сторону этого непристойного американо-сионистского шабаша, вакханалии светлого дерева и отделанного под старину металла! Для начала семьдесят две девственницы. Подумать только: зарыться лицом в шелковистые, незапятнанные прелести девы небесной! Тут он хмурится. Хочется надеяться, что девственницами они остались в результате собственной скромности, близости к Господу и самоограничения. А не потому, что никому до него не хотелось их от этой девственности избавить. По справедливости за все его старания девственницы ему должны достаться вполне приличные. Семьдесят две девственницы, немного похожие на Касси, маленькую симпатичную девушку-индианку, работающую в местной химчистке, – это было бы в самый раз, благодарение Аллаху.
Однако, кроме всего прочего, вызывает тревогу это мистическое число, семьдесят два. Здесь, внизу, на земле, оно, может, и кажется большим – но чтобы этого хватило на бесконечность? Использует их всех, а потом что? А может, просто всякий раз, как он пожелает проявить свою мужскую сущность, Аллах обеспечит поступление целого нового отряда семидесяти двух девственниц, из которых можно будет выбирать. Это было бы куда приятнее и избавило бы его от необходимости растягивать рацион девственниц на нескончаемые тысячелетия. А если дело действительнотак обстоит, можно ли ему тогда иметь сразу двух? Или трех? Или семьдесят двух?
Проблема в том, что ничего такого ему подробно не объясняли, а спрашивать не хотелось, чтобы не показаться надоедливым, да и в любом случае с Тариком на эту тему не поговоришь – тот подчас бывает жутко нетерпелив и суров.
Ну что ж, скоро он все узнает.
Сто ярдов. Он замечает, что сердце бьется немного учащенно и, несмотря на кондиционер, рубашка набухает потом. Придется слегка вывернуть в правый ряд, чтобы получше направить удар, добиться правильного угла столкновения с входной дверью галереи, но это ничего, впереди как раз есть немного места между двумя еле ползущими машинами…
За пятьдесят ярдов он произносит суру из Корана, делает глубокий вдох и, резко бросив машину вправо, жмет на газ.
Др-др-др-др-ру-у-у-у-у-у-у-м-м-м-м!
Позволительно ли засунуть средний палец деве небесной в зад? Он отнюдь не уверен в этом. Ему очень хотелось бы, однако он подозревает, что там, наверху, под взором Аллаха этот номер, видимо, не пройдет.
Но, к сожалению, на глубокое осмысление данного вопроса времени сейчас нет.
Он гудком разгоняет пешеходов и бросается обратно влево, неуловимым рывком въезжает на тротуар и разбивает входную дверь галереи почти точным лобовым ударом. Позиция выбрана идеально! Опоры светлого дерева разломаны надвое, в воздухе свистят, как лезвие косы, смертоносные осколки стекла. Он видит, словно в тумане, всех этих кричащих вокруг людей, но движется дальше, смяв стальной край конторки и вышвырнув оттуда вахтершу. Та пролетает над машиной и оказывается позади него; лицо неверной шлюхи растянуто в гримасе непонимания и ужаса. Врезав по тормозам и юзом проехав последние сорок ярдов, он с негромким хрустом вписывается в открытую бетонную стену, обозначающую вход в саму галерею. Ему видно, как наверху, на балконе пивной, обедающие в переполохе ныряют под сиденья в поисках укрытия, – но нет, ребята, думает он, извините, не попёрло вам, поздно теперь прятаться. Машина стоит в точности там, где ему было велено остановиться.
После краткого излияния благодарности Господу он крепко зажмуривает глаза и нажимает на красную кнопку в середке детонатора.
Какой смысл глаза было закрывать, думает он.
А затем думает: как же это у него получается – думать, какой смысл глаза было закрывать.
– Десять минут, мистер Хассан!
Рявкающий голос распорядителя за дверью вытряхивает Энгина из крайне беспокойного забытья. О Господи, суетится он, быстро запихивая в рот китайский блинчик с подноса с закусками, доставленного в его гримерную, кажется, всего несколько секунд назад. Он что, заснул? Осталось десять минут, а он еще не гримировался. И даже притронуться не успел ни к креветочным слойкам, ни к экзотическим фруктам в большой вазе, ни к прохладительным напиткам в ассортименте, которыми его здесь любезно потчуют. Времени ни на что теперь не хватает, мысленно рассуждает он. Все торопишься, торопишься, и так каждый божий день.
Но до чего мил был сегодня Парки: заглянул к нему в комнату поздороваться. Не каждый телеведущий найдет время познакомиться с гостями программы перед началом. А ведь Парки самый знаменитый среди них всех.
– А, Энгин, здравствуйте, – сказал Парки, просунув голову в дверь. – Как тут у вас с обслуживанием, все на высшем уровне?
Да-да, мистер Паркинсон, все замечательно, взахлеб залепетал Энгин, а вслед за тем, стремясь завязать беседу, спросил, как зовут остальных гостей программы – хоть и знал, кто они, главным образом потому, что их гримерные располагались по соседству.
Парки просветил его, временами приправляя рассказ мрачноватой йоркширской иронией. Какой приятный человек! Лучшие ведущие ток-шоу обладают способностью разговорить тебя до полного расслабления еще до того, как ты примешься за дело, моргая в свете софитов. Эта невежественная свинья, Фрэнк Скиннер, даже руки не пожал и не попрощался по окончании – да и само интервью было пустой тратой времени, так, подпевки к невеселому попурри скиннеровских шуток, плоских, ребячливых. Зачем тогда вообще было его приглашать? Посадили бы в кресло картонную куклу в форме Энгина Хассана, а Фрэнк пускай бы шутил себе, как ни в чем не бывало.
Вздохнув и поднявшись на ноги, Энгин хватает банку «Спрайта» из ведерка со льдом, проверяет, все ли у него с собой, разглаживает на фигуре пиджак «Босс» и направляется к двери, гримироваться.
По коридору взад-вперед лихорадочно носятся продюсеры, авторы программ и распорядители, охваченные, как водится на телевидении, бессмысленной паникой. Шоу уже началось: снимают беседу Парки с первой участницей, женщиной, страдающей болезнью Дауна, которую, тем не менее, избрали кандидатом в члены парламента от консерваторов Моул-Вэлли (есть, оказывается, и такое место). Энгин поздоровался с ней, когда бедняжка, трогательно дрожа, стояла в фойе, не вполне понимая, что она здесь делает.
Гримерша-то и вправду очень привлекательная, думает Энгин, с хлюпаньем потягивая свою сладкую водичку. Она – еще одно воплощение его былых грез о девственницах Аллаха в те дни, когда он все пытался кого-нибудь подорвать: волосы цвета бронзы долгим каскадом струятся вниз по спине, подвижный рот – обалдеть можно. Усадив его в кресло, она оборачивает простыню вокруг его шеи.
– Так вы, значит, впервые на телевидении, мистер Хассан?
Энгин снисходительно смеется.
– Нет-нет – совсем наоборот. Последнее время я постоянно на телевидении – сам не знаю, почему, хе-хе-хе. Непонятно, с какой это стати людям хочется послушать, что я рассказываю. Прямо какой-то ветеран сцены!
Женщина легонько касается лица Энгина ваткой с темно-коричневым тональным кремом.
– Как интересно! – щебечет она. – Так где, значит, вас последний раз показывали?
Энгину приходится на мгновение задуматься. Со временем все эти шоу как будто сливаются в одно.
– Э-э-э… «Слабое звено: звездный выпуск»… или «Твоя жизнь» – не помню что-то.
– О, так я же вроде «Слабое звено» видела. Интересно было?
По правде говоря, «Слабое звено» ему совершенно не понравилось: там еще эта жуткая грубиянка задавала вопросы, ответить на которые у него не было ни малейшего проблеска надежды. Его в тот раз выкинули первым из участников. Откуда, черт побери, ему знать, кто был братом Гамлета? Нет бы спросить о чем-нибудь из славных анналов исламской литературы! Эти телевикторины… все они предвзятые в культурном плане. А вот «Твоя жизнь» прошла замечательно, у него прямо комок к горлу подступил, когда ему представили древнюю, но все еще бодрую миссис Бадареев, соседку, чьи нескончаемые поручения он выполнял в детстве. Они тогда жили у пыльных берегов озера Ван. Когда ее вызвали на сцену, он за голову схватился – искренне не мог в это поверить, аж дыхание сперло. И тут старая дура вышла и все испортила, сказав через переводчика (голос у этой деревенщины напоминал карканье от душившей ее мокроты):
– Мы все еще тогда друг другу говорили: ну, что с Энтина взять, с дурачка этакого. Бывало, стоит ему появиться, так мы все посмеиваемся, мол, никакого толку не выйдет из этого толстяка, уж поверьте, никакого толку.
Как смеялись зрители! И как противно было, когда потом, после этого злобного клеветнического выступления, пришлось обнимать коварную старую каргу на глазах у миллионов людей. Невежественная, неблагодарная ведьма!
И все-таки народ на телевидении работал неплохо; в какой-то момент Энгин даже забеспокоился, что они могут выйти на видеосвязь с Тариком, сидящим в пещере где-нибудь в горах Гинду-Куша. Он нервно потел и косился на экран каждый раз, когда ведущий кого-нибудь игриво представлял. Для этих умников с телевидения, кажется, нет ничего невозможного, если что задумали – сделают. Все как будто готовы плясать под их дудку.
– В «Слабом звене»? А, да, – говорит он девушке-гримерше, – очень интересно было! Эта Энн Робинсон, Бог ты мой! Такая серьезная дама!
Пока она пудрит ему лоб, он спрашивает, стараясь снискать ее расположение:
– Так это вы гримировали небезызвестного мистера Робби Уильямса?
Робби – главный приглашенный участник, звезда шоу, настоящая достопримечательность. За воротами телестудии собралось тысячи две девочек-подростков, все визжат, описаться готовы от восторга. Входя в здание, он заметил, как мордашки у них разочарованно скривились: конечно, это ведь он, Энгин, а не их идол, появился из черного «Мерседеса». У Робби хватило воспитанности поздороваться с Энгином сразу по прибытии. Если точнее, он дружелюбно, со своей знаменитой обезьяньей усмешкой произнес: «Здорово, дружище, как дела?» – и скрылся в своей гримерной, размером изрядно побольше.
– Да! Он такой милашка, – говорит неверная шлюха-гримерша. – Ну, знаете, ни чуточки не задается. Все трепался со мной, прямо будто я ему, ну, как лучшая подружка!
– Весьма талантливый эстрадник, это факт, – подтверждает Энгин и начинает напевать: «Это он-на-а-а».
– А вы знаете, – спрашивает он гримершу, – что песня «Это она» была написана о принцессе Диане?
– О-о-о-о, да что вы, не может быть. А я думала, это о бывшей девушке Робби. Ну, знаете, симпатичная такая, она еще аборт сделала.
– Нет-нет. Ее написал человек по имени Карл Уоллингер…
Но времени объяснять у него нет, так как распорядитель, тяжело дыша и в страшной панике, вернулся сообщить Энгину, что ему срочнонужно в студию.
Снабженный миниатюрным микрофоном, он терпеливо ждет за кулисами, за толстым синим занавесом, а рядом стоит студийный менеджер, готовый подать ему сигнал к выходу. Но Парки никак не может закруглиться с женщиной, страдающей болезнью Дауна, – она, кажется, не хочет уходить. Все продюсеры озабоченно переглядываются друг с дружкой. Наконец ассистент самолично вытаскивает ее из кресла – камеры в этот момент скромно отворачиваются. После этого Парки расслабляется, без запинки благодарит и начинает готовить почву для появления Энгина.








