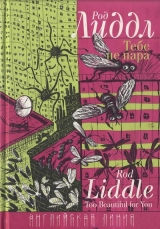
Текст книги "Тебе не пара"
Автор книги: Род Лиддл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
А потом еще ночь…
О господи, ночь.
Ночью паршиво. Может, я уже слишком много проспала за последние двадцать четыре часа. Наверно, часов девятнадцать как минимум провела в постели. Может, от этого ночью заново переживаешь день в сжатом до ужаса виде, со всеми его несправедливостями, обидами и грубыми нарушениями приличий.
Постоянно просыпаюсь убедиться, что я одна, шарю по постели в ожидании обнаружить какого-нибудь мудака-бродягу на постое, потом откатываюсь обратно в сон, и мне снятся черепашки, они кричат, Эмили, Эмили, ты что делаешь, ты же нас заживо сваришь, только они не по-английски кричат, а по-румынски, но несмотря на это я как-то их понимаю, каждое слово, а дальше черепашки превращаются в Ника, он посмеивается себе и говорит, эй, ты чего, я же пошутил, да расслабься ты, Эм, – он так всегда говорил, стоило ему меня расстроить или вывести из себя.
Вечером, когда я вернулась, к двери моей спальни была прибита дохлая черепашка, в записке от Маппи говорилось: «Убить вздумала, сука», что мне вообще-то показалось не по делу – одно слово, перебор. Слишком много он времени на свой аквариум тратит, Маппи этот, ему нормального человеческого взаимодействия не хватает. У него вовсе никакого кирлиан-свечения нет, на что угодно спорю.
Я с ним, когда только въехала, переспала один раз: от одиночества, от чувства потери, незащищенности, уязвимости некуда было деться, хотелось втереться в доверие к новым соседям, и секс представлялся как бы подходящим для этого средством. Вышло еще хуже, чем когда я его черепашек гребаных сварила, точно вам говорю. На полутрахе поймала его за таким занятием: уставился неотрывно на свой аквариум и смотрит, ловит ли хамелеон Роджер мух, которых он только что туда запустил.
Ну да, ясное дело – я, видимо, слишком много с кем спала, и слишком часто не по тому поводу. Вообще-то непонятно, кому с кем сколько раз следует переспать и зачем, и какие тут могут быть правила. Если считать в глобальном масштабе, скажем, на одном конце шкалы – мать Тереза, а на другом, ну не знаю, Софи, например, то я, пожалуй, гораздо ближе к тому концу, где Софи. И что тут плохого? Я иногда забываю, какой во всем этом смысл, зачем мы вообще этим занимаемся. Ради удовольствия, наверное. Чаще всего ради удовольствия – почувствовать, как чье-то сердце бьется рядом с твоим. Чаще всего. Ну, и кроме того, дело еще вот в чем: среди нас, тусовщиков, возникает такой странный, приобретательский, что ли, инстинкт. Ужасно, правда ведь? Смех в том, что хуже всего в смысле секса было с Ником. Какая-то неуверенная возня, от этих дел нам обоим делалось и противно, и стыдно. А потом он меня бросил. Может, потому и бросил, хотя сам говорил, неизвестно, куда это все приведет, а после я слышала от Софи, что он якобы хотел «путешествовать». Куда путешествовать? Зачем? Я бы поехала с ним путешествовать, раз ему так хотелось. Честно говоря, меня никакие особые эмоции с Балэмом не связывают. Все дело в том, что за три месяца он дальше Вондсворта [25]25
Балэм, Вондсворт – районы на юге Лондона.
[Закрыть]так и не уехал.
Ох, поспать бы, ну пожалуйста.
Встаю попить воды, ковыляю по лестнице мимо неудачных инсталляций Джамала, мимо здоровенного ящика, где Маппи держит свою Джессику, кобру тайскую плюющуюся. В ящике тихо: змея либо спит, либо опять выбралась наружу. Бывает, откроешь шкафчик в кухне и как завопишь: там эти пакетики с бобами мунг, вегетарианским сычугом и тофу, а среди них виднеется эта злобная черная голова, ярко-красный язык так и мелькает туда-сюда, тупые глаза – как обсидиановые бусинки на вид, и взирают на тебя с ползучей ненавистью. Хорошо хоть мы заставили Маппи удалить ей ядовитые железы. Джессика – тайская плюющаяся кобра, которой нечем плеваться, не кобра, а какая-то полная бессмыслица.
Налив себе воды, плетусь обратно в постель, отхлебываю пару глотков, ложусь и обращаюсь к черепашкам с мольбой оставить меня в покое. Что они и делают. В следующий раз вместо них мне снятся Аннины ноги.
2
Новости из США, если уж вам интересно, довольно плохие.
Анна лежит в огромном институте в городе, который называется Батон-Руж, они там пытаются выяснить, что с ней не так и можно ли этот процесс как-нибудь повернуть вспять. Последние сведения такие: они считают, что болезнь вызвана искусственным загаром в сочетании с высокоэффективным гелем-депилятором, которым она пользовалась; вероятно, там произошла какая-то страшная химическая реакция. Но до конца они не уверены и хотят ее еще подержать у себя на обследовании.
Тоби уже подумывает о том, чтобы судиться с фирмой-производителем солярия, а заодно и геля, но врачи говорят, у них, к сожалению, пока нет ничего хоть сколько-нибудь состоятельного, все это, если честно, дело довольно темное, так что придется ей там пролежать неизвестно сколько.
Тоби говорит, она хочет, чтобы мы все приехали ее навестить. Мне бы на ее месте этого хотелось меньше всего, если бы мои ноги почернели и стали твердыми и блестящими, как у жука, но что тут поделаешь. Еще один друг Анны, довольно противный тип, Мик, коммунист, зацикленный на собственной персоне, ездил туда ее проведать и говорит, что вид у нее не очень, но, кажется, ей там не так уж плохо, хотя врачам он не доверяет. Все это нам рассказал Тоби и добавил, особо не волнуйтесь, Мик просто ненавидит американцев как таковых, так что его оценку ситуации нельзя принимать за чистую монету.
Ну, в общем, похоже, мы все туда поедем, если сумеем денег раздобыть, может, остановимся на пару дней в Нью-Йорке – у Астры, двоюродной сестры Симбы, там чердак или типа того.
Все наши теперь очень сильно напряглись по поводу средств личной гигиены, а вдруг и с ними произойдет то же, что с Анной. У Софи неожиданно впервые появились волосы на ногах. А Биба тут где-то прочла, что от дезодорантов бывает рак и всей дезодорантной промышленностью заправляют трое евреев, к тому же они, типа, держат в своих руках мировые запасы оружия, ракет и прочего, а также «Kentucky Fried Chicken». И к тому же «Kentucky Fried Chicken» – на самом деле вовсе никакие не куры, они и на ящиках не пишут «куры», и на ресторанных вывесках, чтоб не загреметь под акт о надлежащей упаковке и маркировке товара, ведь они на самом деле что продают – никакие это не куры, а безобразные существа-мутанты, слепые, без ног, без клювов, и держат их в огромных чанах в полной темноте. Эти трое евреев все прекрасно знают, но явно не парятся, а может, даже рады, потому что нас не любят, и все это – часть какого-то глобального плана, а что они с Палестиной делают, евреи эти, вы только посмотрите, это же просто позорище.
Тут встряла Софи: э, нет, здесь якобы все дело в поташе, по словам ее знакомого с Нью-кросс-роуд, американцы преднамеренно его везде распыляют, вот от него и бывает рак, хотя, может, и три загадочных еврея к этому имеют какое-то отношение.
Честно говоря, я просто не знаю, кому верить. Как-то это все притянуто за уши. Я, например, лично знакома с несколькими евреями, и они, на мой взгляд, как будто бы ничего, разве что многовато о себе понимают и занудные. А одна моя подруга, Табита, работает в этой, как ее, картинной галерее, у владельцев-евреев, так вот она говорит, что они очень вежливые и вроде бы по отношению к нам не особо враждебно настроены, плюс дают пять недель отпуска в году и к ее занятиям по кикбоксингу по пятницам после обеда нормально относятся. Так что, кто знает? Может, три загадочных еврея несут ответственность и за мое поведение в тех случаях, когда я как бы вырубаюсь и начинаю делать всякие мерзопакости в полный рост.
В общем, теперь они хоть название для этого дела придумали, для Анниной болезни.
Метастатический кератоз.
Вот гадость, а?
Но бедняжка Анна хотя бы вот этогоне видит:
Очередной вечер, все та же компания: Дом, Радж, Биба, Трой, Ади, Симба, Раду, Софи, Табита, Дипак, Баунти, Мик, плюс еще несколько человек, Доминик с ними в прошлом году в отпуске познакомился, в Гваделупе. Дювальер – худой, остроконечный, с коком на голове в стиле recherché [26]26
Recherché – изысканный, утонченный, вычурный (фр.).
[Закрыть]и все старается полапать Софи, которая изображает из себя такую крутую недотрогу-недавалку, типа, она выше всего этого. Твикс и Корниш – красотки из самого высшего света, одну из них Доминик явно имел в не столь отдаленном прошлом, нет, не знаю, кто из них кто.
Мы собрались в «Овцераме», это такая полугалерея, полуклуб рядом с Вондсворт-роуд, открыл это заведение Сол, он с нервным видом околачивается возле стойки бара (или, как его здесь называют, «Бе-е-е-ра»).
Овцы – настоящие, живые овцы – недовольно слоняются по танцполу, покрытому искусственной травой, такая обычно в старых овощных лавках бывает.
Идея и вправду хреновая.
Дипак уговорил нас прийти, типа, на открытие, пообещав кучу навороченных ребят, классной музыки, кокса и сколько угодно спиртного, что и решило дело. Но еще только полдвенадцатого, а я уже жалею, что не пошла в «Резиновый клит» или «Адукин», там как-то привычнее тусоваться в этот день недели.
Типа овцы, значит? Да ладно, ну с какой вообще стати-то?
Дипак говорит, нам по идее следует взаимодействовать с овцами, что, на мой взгляд, было бы нечестно по отношению к животным: у них и так вид травмированный, того и гляди, в суд подадут.
Короче, план не сработал. Никакого взаимодействия вообще не получилось. Все люди скучковались у бара, а овцы тем временем сгрудились на танцполу и проявляют первичные признаки тиннитуса, известного также как шум в ушах. Может, кому-то нужно просто подойти, сделать первый шаг, ну, я не знаю.
Это якобы мериносы, очень дорогие.
«Звать меня Эрном, я буду верным», грохочет из колонок, во всей песне одна-единственная строчка вокала, все остальное – беспощадное буханье ударных и баса, оно мне порядком действует на нервы, да и овцам, видать, тоже, этот нескончаемый долбеж с тупым рефреном, буквально на одной ноте тянется: «Звать меня Эрном, я буду верным». Эрном, значит? Да нам-то что? И что это еще за фигня про верность? Лишь бы в рифму. Все лето ее играют по клубам, эту песню, я ее просто ненавижу, вот бы выяснить как-нибудь, кто эти правонарушители, и нанести им тяжкие телесные повреждения.
Значит, стою я у стойки бе-е-е-ра, попиваю «Скользкую мартышку» и «Влажную торпеду», ничего коктейли, музыка ломится в башку, все окружающее, кажется, в сговоре против меня, настроение все хуже и хуже, в общем, понятно, а впереди еще часа четыре, ох-хо-хо, тут чувствую, что-то о задницу трется, поворачиваюсь в ожидании увидеть какую-нибудь дурацкую овцу, но это не овца, это всего лишь левая рука Раду. Окинул меня долгим взглядом, такой румын в Лондоне, а потом смотрит, там, в другом углу зала, лампочки мигают и агрессивные недовольные животные на танцполу, и орет мне в ухо: «Эмили, прошу… кто такой Эрн?»
Я говорю: без понятия, Раду, мне-то откуда знать, а сама как бы игнорирую его, даже покачиваюсь в такт музыке – похоже, слегка окосела от «Мартышки», такое чувство, как будто сто лет прошло, но оборачиваюсь – Раду все еще тут, трясет головой.
«А почему овцы?»
На это я просто пожимаю плечами и качаю головой, не могу я ему объяснить про британскую культуру во всех ее проявлениях, есть вещи, которые не объяснишь, и вообще с недавних пор это все уже конкретно достает, эти непрерывные расспросы, типа, почему на эскалаторе нельзя стоять слева, и этот самый, Оксфорд– цирк,а где же тогда клоуны, Эмили, прошу?
Но он все равно не уходит – наверно, никак не въедет в еще один момент британской культуры, а именно, что делают девушки, когда им хочется, чтоб от них отвалили, оставили их в покое, наверно, в Румынии с этим все куда яснее, а может, в Румынии девушки никогда не просят мужиков отвалить, не знаю.
В общем, он все еще здесь, прямо рядом со мной, у стойки бе-е-е-ра, я вижу, как Троя колбасит на полу возле двери, ведущей в комнату оттяга, Софи танцует бок о бок с Дювальером, овец по всему танцполу разогнали, а вся остальная тусовка тоже за этим наблюдает, и тут Раду берет меня за руку, притирается еще ближе и говорит уже не так громко: «Эмили, твой друг, Ник. Я не думаю, что он вернется».
Что похоже на правду. На днях возвращаюсь от Симбы, я ей тут помогала готовить очередную здоровенную партию гуакамоле, а на моем автоответчике мигает красная лампочка, и лампочка эта как раз и оказалась Ником. Ему пододеяльник его нужен. Уже почти год прошел. Никаких тебе привет, Эмили, как жизнь, что происходит, надеюсь, все в порядке и т. д., типа, я по тебе так скучал, можно я заскочу забрать свой пододеяльник от Кензо? Короче, прослушала я это сообщение, перемотала назад и снова прослушала, и сразу такое чувство возникло, как будто у меня колит начался от звука его голоса, и тут входит Раду, выдернул автоответчик из розетки и швырнул его через всю комнату таким жестом темпераментного европейца, означающим недовольство, а я ему, пардон? Он смотрит на меня, показывает на автоответчик, теперь уже расчлененный, и говорит: «Я думал, он есть сволочь?»
А я говорю, «он сволочь», Раду, а не «он есть». И добавляю, ну да, правильно, ну и что?
Но он прав: парень ушел с концами.
К часу мне уже такнадоело в «Овцераме», что я незаметно сваливаю в туалет, где намереваюсь слегка оттянуться без посторонних, может, даже поспать часок-другой, но, добравшись, вижу, что это невозможно, поскольку туда битком набились столь же недовольные овцы. Стоят себе небольшими унылыми группками и переблеиваются друг с другом. Я уже подумываю, что надо бы выбраться потихоньку наружу, схватить такси и отправиться домой, ну, в общем, просто отползти с малыми потерями, как вдруг замечаю, что одна овца в дальнем углу туалета ведет себя странно. Встала на задние ноги и раскатывает дорожку кокса на металлической полке. Наблюдаю, не в силах оторваться: вот она наклоняется к поверхности и своей гигантской ноздрей втягивает в себя как минимум грамм, а потом поднимает свою тупую бесформенную башку и как чихнет пару раз, типа, по-овечьи: расширенные глаза открыты, зрачки вздернуты кверху, словно на шарнирах. Явно продолжаю глазеть, что некрасиво, и тут происходит вот что: это создание ловит мой взгляд, жутковато лыбится нездешней овечьей ухмылкой и говорит, ну че, подруга, хошь, дорожку вместе раскатаем? На этом я раз – и выметаюсь оттуда, беру и выметаюсь.
Клянусь вам, так оно и было; прикол в том, что все остальные либо не заметили, либо не придали значения.
Плюс еще там две овцы трахались в кабинке, даже дверь закрыть не потрудились.
Карабкаюсь вверх по лестнице, прохожу мимо вышибалы наружу и стою под желтым фонарем, вдох-выдох, вдох-выдох, смотрю на улицу в поисках такси, размышляю, есть ли тут поблизости мини-кэбы, или же мне просто пешком пойти. В дверях «Овцерамы» появляется Сол, спасибо, говорит, Эм, что пришла, ну и как тебе, а я ему отвечаю, ага, классно, удачи тебе, овцы и вправду в корне меняют дело, слушай, ты мне такси не вызовешь, а он улыбается, вызывает по своему телефону кэб, пять минут, говорит, и тут я внезапно вспоминаю: ах да, говорю, и скажи там, если Раду домой собирается, я уже ухожу, и Сол снова исчезает внутри своей последней, безумной и обреченной творческой авантюры.
Короче, как вы уже, наверно, поняли, я теперь как бы подруга Раду, и это, в общем, по-моему, не так уж плохо. Точно вам говорю: он изменился с тех пор, как вы с ним познакомились. Побрит, помыт и побрызган дезодорантом, вот он какой стал, такой, знаете, представительный, основная фишка – курчавые черные волосы, типа, такие непокорные, плюс карамельного цвета кожа и бледно-голубые глаза. Дом ему пару недель назад сказал: Раду, в тебе есть что-то такое, ну не знаю, цыганское, что ли, после чего Раду встал и довольно сильно дал ему в зубы – это очень некрасиво, придется над этим поработать, но ведь и Доминик себя некрасиво повел, он явно незнаком с общественно-демографической ситуацией в Румынии, о которой я постепенно узнаю много нового.
Короче, я не вполне понимаю, во что выльются наши отношения, вроде как вляпалась в очередной раз не по собственной, в общем-то, воле, меня беспокоит, что у Раду бывают эти резкие перепады настроения, хотя все это, видимо, связано с тем, что с ним произошло у него на родине, из-за чего он уехал, но все равно, по масштабам Балэма симптомы, скажем прямо, тревожные.
В общем так: он якобы работал врачом в больнице и был выдающейся фигурой в оппозиции, она у них там нелегальная или типа того. В один прекрасный день к нему приходят из секретной службы, начинают его избивать до полусмерти, проделывать разные штуки с электродами, мокрыми полотенцами и немецкими овчарками, все это он мне со слезами описал в подробностях, не могу, ну не могу я сейчас об этом – я на такие вещи реагирую, как на бедняжку Анну с ее ногами. Все это он мне рассказал как-то вечером, когда ошивался у меня, поскольку у Бибы гостил друг, парень по имени Йохум, такой из себя красавчик, бабла куча, блудный сын одного немецкого автогонщика, короче, она не хотела, чтоб Раду там крутился, плюс подозревала, что может понадобиться спальня для гостей, никогда ведь не знаешь наверняка; а Раду просто начал рассказывать мне про себя на своем жалком, запинающемся английском (сейчас, кстати, он у него гораздо лучше стал), а сам плачет, мы сидим вдвоем на полу у меня в комнате под громадной инсталляцией Джамала, где использованы замороженные хрустящие блинчики «Финдус» с курятиной, беконом и кукурузой, а я просто слушаю, качаю головой, плачу и говорю, как же так можно с людьми поступать, не понимаю, от чего он заплакал еще сильнее. Я тогда обхватила его руками и так и держу, бог знает сколько времени, просто держу, прижав к себе, покачивая, ну не знаю, как шестимесячного какого-нибудь, и это было приятно, по крайней мере мне. Слушать про то, как он бежал от полиции, было просто страшно, как он все эти границы пересекал, без денег, без документов и т. д., почти как я, когда ездила в Краби [27]27
Краби – курорт в Таиланде.
[Закрыть]в том году, а спал он на улицах – в Дубровнике, Триесте, Марселе, Париже, а потом вот в Лондоне, толком не зная, что делать, и еще в шоке, наверное, от этих дел с мокрыми полотенцами, электродами и немецкими овчарками.
Ну, под конец сидим мы, я его устало поглаживаю по волосам, рыдания вроде как кончились, все так тихо, спокойно, и тут из-под софы выкатывается Джессика, Раду как завопит, выскочил из комнаты, как ненормальный, а я за ним, нет-нет, говорю, не волнуйся, Маппи ей удалил ядовитые железы, все нормально, а потом я разрешила ему завалиться у меня в комнате, и он даже не прикоснулся ко мне, просто закрыл глаза и крепко заснул, может, боялся, что кобра вернется, если он пошевелится, или что-то типа того, не знаю.
На другой день я сказала Раду, что ему нужно подать на вид на жительство, ну, чтобы, типа, легально жить в стране, ведь дело его беспроигрышное, как мне кажется, но он волнуется: а вдруг, если признаться во всем властям, секретные службы смогут на него выйти; неудивительно, что он их так боится, еще бы, особенно в связи с овчарками.
Что вообще происходит в наше время с животными? Что на них такое нашло? Куда ни глянь, везде они, занимаются вещами, которыми им заниматься не положено. Ну знаете, везде какие-то создания, ведущие себя странно и не по-животному. Змеи, овцы, собаки, черепашки. Может, они постепенно адаптируются, типа, к нашему образу жизни привыкают, может, мы сливаемся воедино, мы и животные? Пойди пойми.
Короче, все это случилось примерно месяц назад, и я вроде решила, что разрешу ему какое-то время потусоваться у меня, потому что Йохум переехал к Бибе в свободную комнату и, похоже, играет с ней в какие-то долгосрочные игры, а для меня это, в общем-то, не такой уж напряг, если Раду тут поживет, а свободной комнаты у меня нет, так что приходится ему спать со мной.
Если подумать, он вроде как идеальный бойфренд: и заботливый, и благодарен до слез, когда я с ним сплю; я считаю, это ценные качества в мужике. Плюс к тому, по части секса он – сама прямота, ему немного нужно, типа, потрахался и хватит, я с ним спала раз двадцать, и он ни разу не попытался засунуть мне палец в задницу или привязать меня к батарее, как большинство мужиков.
Так что посмотрим, что из этого выйдет.
Кстати, мы собираемся устроить нечто вроде вечеринки в его честь в следующую пятницу у Бибы, отчего он ходит весь гордый, речь готовит. А произошло вот что. Разговорный английский у Раду все лучше и лучше, хотя мне еще приходится его поправлять, даже такие простые вещи, как артикли, времена и все такое, но прогресс идет ну очень быстро. И вот пару дней назад заскочили Трой с Дипаком, когда меня дома не было, сидят у меня в комнате, и Раду тоже там, а Дипак говорит, типа, в шутку, давай, Раду, поставь чайник, сделай нам чайку, дружище, а Раду развел руками и говорит: «Типа, что за дела?»
Дипак лопается со смеху, а Трой говорит: «Невероятно!», а после рассказывает мне, как было дело, так что мы решаем устроить вечер «Типа, что за дела?», отметить окончательное вступление Раду в тусовку. Наконец-то румынский парень грамматику осилил.
3
В общем, раз в год я езжу к матери – это дело такое, что без большого количества спиртного и наркотиков класса «А» как бы и не обойтись. Беру с собой Раду, раз все равно суббота и делать ему нечего, кроме как скрываться от воображаемых сотрудников секретной службы и постоянно жаловаться на холод. Плюс к тому, думаю, может, маме он понравится, покажется интереснее, чем большинство моих прежних знакомых ребят, все-таки жизнь у него была такая, овчарки там и все дела.
Часов где-то в восемь утра мы на вокзале Ватерлоо, день ясный, солнечный, берем кофе в «Косте», неплохой, поезд ждет с важным видом на четырнадцатой платформе, набитый народом, все едут с детьми на запад, в деревню на выходные, тащат с собой всякие закуски и мерзкие безалкогольные напитки, и комиксы, и все такое, а у меня настроение довольно хорошее, думаю, может, хоть на этот раз от встречи с мамой у меня не начнется тяга к само– или матереубийству. Хотя, если честно, на это я особо не рассчитываю.
Сидим в купе для курящих за столиком, друг напротив друга, Раду украдкой поглядывает вокруг на случай, если люди из секретной службы тоже решили отдохнуть и направились на денек в Девон, типа, прошвырнуться. Хоть он и прилично одет, народ на нас смотрит все равно странно, может, из-за того, что он меня немного постарше и с лица у него не сходит подозрительное выражение, а может, дело в его волосах, которые самую малость длинноваты, нет, честно, как шерсть у зверя в мультике, а я ему говорю, вот поэтому люди и глазеют, они считают, что ему не помешает хорошая стрижка и, может, немного мусса для укладки, вот и все, и уж точно никто не собирается вытворять над ним эти штуки с электродами, мокрыми полотенцами и собаками.
Но он все куксится, сползает пониже на сиденье, зарывается в газету или отворачивает голову к окну, глядит, как мимо проносится Суррей, кусты да пригороды так и мелькают.
К Бейзингстоку он немного отошел, а когда после Андовера в поле зрения появились мягкие зеленые равнины и пригорки Уилтшира, прямо-таки разоткровенничался, заговорил о сельской местности в его любимой Румынии, которой ему с каждым днем все больше не хватает, пустился в рассуждения, сможет ли он туда когда-нибудь вернуться. Правда, когда я спрашиваю про его семью там, на родине, он замыкается в себе, у него появляется выражение невыносимой грусти – в этом он, честно говоря, не сильно отличается от моих бывших парней.
Потом мы стоим рядом с вокзалом в Солсбери, ждем автобуса, я и Раду, в очереди вместе с трещащими американскими туристами и странноватыми японцами, подходит красный двухэтажный автобус, мы все влезаем, пока все идет отлично. Раду обнимает меня за плечи, мы выбираемся из города, движемся вперед и вверх, к равнине, он теперь уже в хорошем настроении, Эмили, говорит, твоя мама – хороший человек, да?
На этот счет у меня имеются кое-какие сомнения. Думаю, перевариваю это какое-то время, потом говорю, ну, я как-то не задумывалась на эту тему, нет, на самом деле «хороший», если честно – не то слово, не первое, что приходит мне в голову при мысли о матери. «Плохой», наверно, ближе к истине. Или, может, «невыносимый до чертиков».
Тут у него вид делается озадаченный, Эмили, говорит, ты ведь любишь свою маму, да? А я такая, э-э, ну-ка, давай еще раз и поподробнее, в результате он заводит длинную, возвышенную проповедь на тему о том, какая это святая вещь – любить и почитать мать свою, что бы там ни было, и что это особенная связь, которую никогда не разорвать, она даже важнее, чем та особенная любовь, какую испытываешь к родине ( что-что?),она превосходит собой все, тут он останавливается, потому что я похлопываю его по плечу и показываю из окна на поле в каких-нибудь нескольких сотнях ярдов от гигантских вертикально стоящих камней, а там, вон он, слева, ярко-синий, с луной и звездами на боку, на верхушке трепыхается треугольный конопляный флаг, вот, посмотри… это – вигвам моей мамы.
Увидев такое,он на пару минут заткнулся.
– Она тут в отпуске, да?
He-а, не угадал, Раду. То есть да, пожалуй, что в отпуске, какие новости и т. д., только она как бы вот здесь и живет. Постоянно.
Он ненадолго замолкает, пока мы вылезаем из автобуса, потом его лицо искажает гримаса отвращения.
– Она есть цыганка?
Я смеюсь, это его раздражает. Нет, говорю я, не цыганка она, нет. Если б она была цыганка, у нее по крайней мере было бы достойное оправдание для такого смехотворного образа жизни.
Он довольно неожиданно плюет длинной струей мокроты на поросшую травой обочину. Я, знаете, не фанат плевков. В общем и целом я человек без особых напрягов – иногда, можно сказать, даже чересчур, – но когда плюются, как-то противно – просто не катит.
С лица Раду, однако, не сходит жуткая перекошенная гримаса.
– Цыганка, блин, это есть подонок. Подонок,Эмили. У нас есть много цыганы в Румынии. Это есть вор, весь вор. Шлюха и вор.
Затем, чтобы прояснить ситуацию, добавляет:
– Женщины есть шлюха; мужчины есть вор.
А после:
– Они не моются, цыганы. Никогда не моются.
О’кей, о’кей, румынский паренек, не заводись. Никакая она, на хрен, не цыганка, говорю я, можешь мне поверить. Она даже крючок для одежды не сможет, блин, выточить под угрозой смерти. Значит, так, Раду, послушай-ка, говорю я строго, хватит на меня так смотреть, и больше никогда при мне чтоб не плевался, договорились? Моя мать – то, что в Англии называется… «хиппи». О’кей?
– Хиппи?
– Ага, хиппи. Они тоже часто есть шлюха, вор. Они, Рад, тоже есть никогда не моются.
Как ни странно, он улыбается.
– А-а-а, хиппи! Как группа «Гретфул Дед», да?
Ага, говорю я, конечно; как группа «Grateful Dead», один к одному.
Мы перелезаем через низкую деревянную изгородь и тащимся через поле; вокруг – выброшенные мусорные мешки, использованная туалетная бумага, разбитые радиоприемники и CD-плейеры, автохлам, пустые коробки из-под готовой еды, изведенные упаковки от синтетического красителя вайды, пакеты из-под бобов и чечевицы, примитивная канализация и грязные, визжащие дети.
На Раду футболка со звездами и полосами поперек груди, тоже обноски с Домова плеча, а тут подбегает вонючий маленький оборвыш и пищит сердито: «Америка, руки прочь от Чили!», после чего исчезает в кустах.
Ну, Раду сразу, в чем дело? Я только головой мотаю, не зная, как реагировать, и мы идем дальше. Из первой палатки слышны звуки яростного спора, вторая – вся дырявая и кажется совершенно необитаемой, а третья – палатка моей матери. С другой стороны поля доносятся звуки этой уродской песни, «Звать меня Эрном, я буду верным», правда, на таком расстоянии ничего не слышно, один бас-барабан, но я ее все равно узнала, мы подходим к откидному пологу палатки, но тут выходит какой-то мужик и нас останавливает.
На нем такая бесформенная кацавейка, сшитая из того, чем обычно трубы прокладывают. Лет ему где-то, наверное, сорок, очень высокий, с нечесаной русой бородой и затуманенными голубыми глазами, на нас глядит заторможенным, пустым взглядом, по идее выражающим подозрение.
– Здравствуйте, люди добрые, – говорит он, – что хорошего скажете?
От звука его голоса, протяжного и гундосого, как из пустоты, меня внутренне будто перекашивает. Я думаю, а что, если его просто треснуть, тут он начинает рассматривать нас с ног до головы, я через силу улыбаюсь и говорю, мы к моей маме пришли, это же ее палатка, так?
А он расплывается в огромной улыбке и говорит, ого, вау, ты дочка Карен, клево, конечно, это ее палатка. Только она как бы занята.
А я ему, типа, как-как? Еще раз, и погромче. Занята?
Дело вот в чем: если она чем-то занята, это впору отпраздновать. Последний раз она была занята в 1976-м, когда ужин готовила. До сих пор помню удивление на лицах у всех, а потом, чуть позже – запах, дым, сирены, мигалки. Не вечер был, а черт знает что, правда.
Но я не теряю спокойствия и говорю мужику, слушай, ты ей просто скажи, что мы пришли, о’кей? Он улыбается и исчезает внутри, слышен приглушенный разговор, потом он снова появляется все с той же дебильной улыбкой и говорит, ладно, через десять минут можете войти.
От этого мне просто смешно делается, я говорю, слушай, мы к моей матери пришли, так что либо мы заходим, либо уходим еще на год, что, если честно, может, не такой уж и плохой вариант, а он пожимает плечами, по-прежнему стоя у входа в палатку. В конце концов я его без церемоний убираю с дороги со словами: извини, хипан, но нам сюда.
Отодвигаю, значит, полог идиотской палатки и осторожно захожу, за мной Раду, а бородатое насекомое, хипан этот (он-то вообще кто тут такой?) беспомощно, как у них принято, стоит снаружи. Какое-то время глаза привыкают к мускусному сумраку, я ковыляю вперед, вдыхаю густой сладкий запах, типа ванильного, пропитываюсь тяжелым теплым духом. Часть палатки, где устроено большое лежбище на двоих, закидана тяжелыми пестрыми одеялами, на стене висит такое панно с рисунком, напоминающим звездно-лунный орнамент снаружи, дальше лежанка поменьше с ярко-красными одеялами и желтой подушкой, на которой выткана голова какой-то хиппи. В основном это барахло тут было и в прошлый мой приезд, но в густо прокуренном, удушливом сумраке мне удается разглядеть бледно-желтые свечи, расставленные вокруг комнаты, по концам серебристой звезды, нарисованной на синем брезентовом полу. Это что-то новенькое, мам. Прелесть. Свечи воняют, да и вообще, по-моему, это довольно небезопасно, но не мне же здесь жить, черт побери.
Мать сидит у дальней стены палатки на другой куче одеял, голова откинута назад в этой ее манере, которую я помню с детства и которая меня слегка раздражает. В одной руке у нее здоровенный косяк, у правого колена – бутыль какого-то мерзкого на вид домашнего снадобья, по моим понятиям, почти наверняка алкогольного. Секунду-другую она не выходит из этого якобы транса, мы стоим посередине палатки, смотрим на нее, Раду, по-моему, не вполне верит в происходящее, думает, ну, это его, типа, нарочно разыгрывают, вот-вот откуда-нибудь выскочит кучка заводил с хохотом и криками, привет, румынский паренек.








