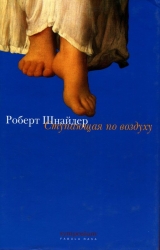
Текст книги "Ступающая по воздуху"
Автор книги: Роберт Шнайдер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Она любила запах покинутых комнат, и комнаты эти не могли быть достаточно велики. Часами ее мысли мечтательно вплетались в тяжеловесные посеревшие гардины. Она оживляла в памяти фигуры, световые пятна и пейзажи тех картин, от которых остались еще не выцветшие прямоугольники на обоях. Картин становилось все меньше, пятен на стене все больше. Она страдала вместе с Марго, когда одна из гравюр австрийских миниатюристов оказывалась в белых паучьих лапках скупщика картин. Поэтому она жадно впитывала глазами то, что еще осталось, вбирала в память все, вплоть до фона. Прозелень леса позади Амура и Психеи. Белого, в короне из роз быка в «Похищении Европы» с его раздутыми ноздрями, наивными глазами и похотливым лоскутом языка. И, выучив, можно сказать, наизусть эту картину раньше, она лаконично заявила Марго, что выкупит ее для бабушки.
Ей так нравилось быть одной. Даже когда первыми летними ночами уже вовсю гремел гром и дерево балок и потолка с постоянным скрипом и треском продолжало нести свое тяжкое бремя. У нее вошло в привычку ночевать в одной из трех комнат попеременно. Каждой она дала имя: Лунная, Комната бедного грешника – в ней было лишь одно окно, да и то затемненное огромной ветлой; Зал воздушных пешеходов – конторское помещение старого Латура, позднее – бильярдная деда, хотя бильярдного стола здесь никогда не было. Поистине императорская палата, с высокими потолками и никак не отапливаемая, смотрела на юг тремя своими окнами с массивными неоромантическими арками. Эту залу Мауди любила больше всего. Ведь оттуда был виден не только парк, но и луг, весь вытканный желтыми цветами, его цветущий покров с симфонической широтой устремлялся вниз по склону. В эту ширь врывались чистые аккорды белого и розового цвета яблонь и вишен.
Уложить постельные принадлежности было делом нескольких секунд, тут она набила руку, так как всегда могла сразу решить, в какой комнате в данный момент будет уютнее душе.
Однажды в Зале воздушных пешеходов, едва она успела подтащить голубой камчатный шезлонг к огромному, как церковная дверь, окну, ее слух распознал в ночи некое жуткое событие.
Светила предпасхальная луна, и даже когда ее нельзя было увидеть отсюда, ландшафт был хорошо освещен, настолько хорошо, что у окна можно было читать. Со стороны луга послышался чей-то нарастающий крик, сопровождаемый воплями какого-то другого существа. Сначала Мауди подумала, что это голоса кошек, оспаривающих друг у друга власть над территорией, так как звуки становились все более жалобными и душераздирающими. Но вскоре она поняла, что один голос, должно быть, подает большая птица, а другое животное – возможно, кошка, куница или еще какой зверек. Однако прислушавшись к яростному шипению и хрипу, она сразу же догадалась, что там, за окном, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Она приподнялась на шезлонге и, справившись наконец с заржавевшим затвором, открыла ставень, посмотрела вниз, в сторону луга, и не заметила ничего необычного. Она лишь слушала. И странное дело: хрип птицы звучал все жалобнее, как и неровный, прерывистый крик кошки или твари, которую она принимала за кошку. Смертоубийственная схватка была в самом разгаре. Победителя не было, но не было и обращенного в бегство. На какие-то мгновения все стихало, чтобы потом из надорванных глоток исторгались еще более ужасающие звуки. Два существа истребляли друг друга. И это взаимоистребление длилось бесконечно, беспрерывно. Временами оба как бы замирали, но не для того, чтобы собраться с силами, а для того, чтобы не умереть раньше противника. Ибо звуки все более слабели и сякли, а обе твари испытывали муки невообразимые.
И хотя Мауди зажгла весь свет, какой был в бильярдной, а потом, забравшись на подоконник, несколько раз хлопнула в ладоши и крикнула: «Прекратить! Прекратить!», но смерть не спугнула. Животные, казалось, уже не дышали, но сердца еще какое-то время бились. Тихое, самоудушающее мяуканье. Жуткий, подавленный хрипотой плач. Потом наступила мертвая тишина. Но жалоба вырвалась еще раз и звучала, может быть, несколько минут, а после уже ни шороха.
Марго в ночной рубашке и с распущенными волосами подошла к подоконнику и обвила руками ребенка, не испугав его. И Мауди ночевала в ее комнате, в ее кровати.
Впервые в жизни Мауди узнала нечто о страдании, не щадящем природу, а может быть, и о страдании, блуждающем среди людей. Она постигла непримиримость и то, что жизнь обрывается смертью, больше того, она поняла, что смерть – это не мертвое тело, как дедушка два года назад, или скелет дерева, уносимый после ненастья Рейном, или тельце ежа, присохшее к асфальту шоссе. Она узнала, что смерть пребывает среди живущих. Поняла это, хотя и не сумела бы выразить.
Она, желавшая обнять всех, весь мир Якобсрота, волей-неволей убедилась в том, что, по существу, лишь немногие достойны объятия. Ночь обоих побежденных уже не выходила у нее из головы. И это длилось почти год, пока однажды вечером она вновь не придвинула шезлонг к окну в Зале воздушных пешеходов.
(Восьмидесятые) В феврале 1981 года Амрай устроилась на работу. Благодаря столь же любезной, сколь и тактичной протекции Инес она получила место заведующей новой модной лавкой Ромбахов – крохотным магазинчиком тонкого белья и дамского платья на углу Мальхусштрассе и Главной площади сразу же за ратушей. Там она могла распоряжаться всеми делами как ей заблагорассудится, будь то закупка и реализация или распорядок собственного рабочего дня. У нее на подхвате была миловидная, очень послушная продавщица, которой Инес сумела внушить – Амрай об этом не знала, – что девушка служит под началом не кого-нибудь, а мадам Латур, из тех самых.
На тридцать шестом году жизни Амрай вновь почувствовала себя счастливой. Если у покупательницы были проблемы с фигурой, она воспринимала их как свои собственные. С искренним участием она давала советы своей клиентуре. Если нечто ужасающе бесформенное жаждало приобрести брючный или облегающий костюм, чтобы сделать свою оболочку не только безвкусной, но и смешной, Амрай, пуская в ход энергичную жестикуляцию и все свое красноречие, пыталась убедить покупательницу отказаться от покупки. Если это не помогало, хозяйка открыто говорила даме с талией в три обхвата все, что она о ней думает. А то, что дама покидала бутик, отстреливаясь очередями ругательств, и уже навсегда выбывала из числа клиентуры, мало заботило Амрай.
Она не умела кривить душой. Латуры всегда отличались прямодушием. И по мере сил избегали сомнительных компромиссов. Разумеется, каждая из представительниц этого рода по-своему страдала от отсутствия спутника жизни. Амрай – в большей степени, чем Марго: та справилась с одиночеством и научилась любить. Однако в первые годы после расставания с мужем Амрай тоже не пускалась ни в какие любовные авантюры, хотя если бы Харальд только пальчиком поманил, она наверняка дрогнула бы и бросилась в его объятия. Но робость сердца подсказывала ей, что тем самым она добилась бы лишь временного отдаления одиночества.
Амрай была уже не способна довериться мужчине. Сердце не могло забыть Амброса. И чем больше лет, больше зим они жили врозь, тем сильнее становилась тоска. Сама она этого не сознавала, а Марго в нескончаемые воскресные дни увещевала ее, советуя именно теперь уповать на своего ангела и вовсе не искать развлечения в новой истории. «Ведь она же увядает, просто-напросто увядает», – добавляла Марго с ледяным взглядом и теплотой в голосе.
Истинной причиной, побудившей Амрай устроиться на работу, были все же денежные проблемы. Марго пускала на продажу имущество Красной виллы, отрывая от него один кус за другим: мебель, ковры, фаянсовые амфоры, мейсенский фарфор с китайским рисунком (один этот фарфор, датированный 1741 годом, позволил бы обитательницам виллы безбедно прожить не менее года) и наконец столь бережно хранимый набор елочных украшений, работа мастеров венского югендштиля. Но вырученные деньги шли не на уплату налогов и не на ремонт дома. Деньги уходили иными путями. Амрай знала это и одобряла мать.
Несмотря на то что дело о банкротстве фирмы было давно закрыто и претензий по долговым обязательствам в судебном порядке никто никому предъявить уже не мог, а некоторые из обязательств даже потеряли силу за давностью лет, на душе у Марго кошки скребли. Втайне она лелеяла мысль рано или поздно вернуть долг с процентами каждому, пусть даже самому скромному кредитору. План совершенно утопический. Ибо общая сумма, которую Марго, потратив на подсчеты несколько недель, вывела из горы обязательств, скопившихся за пятнадцать лет, выражалась астрономической цифрой. Тем не менее Марго продолжала продавать. В первую очередь она имела в виду мелкие предприятия-поставщики и фирмы, многие из которых развалились вследствие банкротства Латуров. Она встречалась с владельцами, если их еще можно было разыскать. На нее бросали недоверчивые взгляды, потом отводили глаза и не говорили ни слова. Иные же, напротив, не принимали денег, так как в дни отчаяния и ненависти переехали в дешевые квартиры и расставание со скромным обиталищем повергло бы их в состояние мучительной свободы. Уж лучше жить в тесноте. И это Марго. Неприступная Марго. Стареющая дама, чьим жизненным принципом была спокойная сдержанность. Я вижу, поэтому я молчу. Так она желала жить. Она молчала при Дитрихе, пропускавшем мимо ушей ее аргументы и полагавшемся на мнение партнеров по роме́. Она молчала, когда в доме появился Амброс, видевший Амрай в розовом свете. Она молчала в магазине Мюллера, когда пыталась внушить простоватым особам, что женщина пользуется ароматом духов, а не аромат женщиной. Именно эта молчаливость снискала ей авторитет, которого она и не добивалась. Даже человек посторонний, какой-нибудь случайный прохожий, чувствовал флюиды благородства, исходящие из самого ее существа. И с инстинктом лесного оленя держал почтительную дистанцию. Лишь единицы догадывались об истинном истоке этой благородной ауры – о непреложном принципе одинокости, определявшем всю ее жизнь. Марго превзошла науку расставаний и самообладания.
Ее ночи озарял круг света. Она страдала бессонницей. Болезнь желудка сказывалась на очертаниях рта. Сохранившая свою высокорослую стать – по состоянию организма она приближалась к шестидесятилетнему рубежу, – Марго выглядела так, что ей никто не дал бы и пятидесяти. Этим свойством природа наградила не только ее, но и Амрай, которой в девятнадцать лет приходилось показывать паспорт кассирам кинотеатров. Ее принимали за ребенка.
Да, Марго имела моложавый вид, но ощущала себя давно уже не в том возрасте, который можно было предположить, судя по наружности. Волосы, каштановый оттенок которых она постоянно поддерживала, бахромой окаймляли лоб и, гладко обтекая голову, стягивались на затылке большим бархатным кольцом. Глаза были в точности как у Амрай – цвета темной озерной воды, но губы – ярко очерчены, а вот нос выдавал принадлежность к латуровской породе, однако его крючковатость не искажала, а скорее обогащала рисунок лица. Что же касается телосложения, то его вполне можно назвать сухощавым, а костистые руки были всегда холодными. Парк означал для нее родину. Особенно его террасированная часть, примыкавшая к северной стороне дома. Там, у подножия виноградного холмика, который имел скорее чисто декоративное назначение, она выращивала розы. Южная часть парка оставалась в своей натуральной запущенности. Туда она больше не ходила, ни при каких обстоятельствах. Зато Мауди и Эстер устроили там sisters corner[12] – потаенное местечко в колючих и густосплетенных зарослях, откуда в летние дни возвращались в царапинах, измученные укусами клещей.
Она избегала общества, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь. Даже если говорить приходилось немного. Марго не боялась быть откровенной. Но и то немногое, что исходило из ее уст, задевало за живое. Для нее было сущей мукой видеть, как ее откровенность принимают за зловредность. Поэтому она уже не выходила. Разве что с семьей. Да и то редко.
Штифтера она читала в тусклом свете своих не знающих сна ночей. Еще в бытность ученицей интерната «Сакре-Кер» в Риденбурге, что на Рейне выше Боденского озера, ей довелось читать и возненавидеть его. В ту пору он был для нее синонимом скучищи. Какое-то время словечки штифтерский, штифтерятина и т. п. без конца шелестели под высокими сводами классной комнаты. «Не день, а сплошная штифтерятина». «Ты мне такого штифтера подложила!» «Тошно-то как, оштифтереть можно». После смерти Дитриха ей попал в руки покоробившийся, в зеленом кожаном переплете томик – «Пестрые камни», и, прочитав Предисловие, она вдруг заплакала, она вновь обрела способность плакать.
Она могла наизусть читать целые периоды текста. Стоило ей произнести первую фразу: «Мне уж пеняли за то, что я пишу лишь о малом, что герои мои – всегда люди обыкновенные», как все вокруг наполнялось музыкой. А дойдя до строки: «…так же как всякий человек – драгоценный дар для всех людей», она вынуждена была умолкнуть, у нее пресекался голос. В Сочельник одна-одинешенька она отправлялась на Мариенру и читала там «Горный хрусталь», как бы ни вела себя стихия: дождь ли хлестал, сыпал ли снег или буйствовал суховей. Она, для кого была небезразлична католическая традиция, которую Марго давно научилась ненавидеть и любить, по вечерам читала уже не Евангелие от Луки, а историю о таинственном эфемерном свечении, возникшем перед заблудившимися детьми Занной и Конрадом в звездной ночи. Она читала это Мауди, адресуясь к ней чаще, чем к Амрай, и говорила, что это вроде бы такое неброское повествование дает почувствовать чудо рождественской ночи куда более явственно, чем само Евангелие. Мауди не могла теоретически осмыслить сказанное. Но глаза ее просто светились, словно зажженные голосом бабушки. А Марго со своей стороны положила за правило разговаривать с внучкой как со взрослой. Когда они вместе трудились в саду; когда, сидя за массивным письменным столом, Марго разбирала пожелтевшие юридические документы, а Мауди, притулившись рядом, разбиралась с домашним заданием; когда приходилось гладить белье и они вдвоем укладывали его в стопки и когда по завершении работы Марго погружалась в размышления и философски замечала:
– В конце нашей жизни остается лишь один вопрос: был ли ты верен самому себе?
Нет, жизнь не озлобила эту необычайно сдержанную и жестковатую в общении женщину, даже болезнь не согнула ее. Она знала: чем больше глубины, которых достигает мысль, тем сильнее тоска. Тоска по чему? Этот вопрос не занимал Марго Мангольд. Важно, что тоска была и никуда от нее не денешься.
~~~
и все-таки. Человеку нужна игрушка. Мобильная, разноцветная, всегда новая. Необходимо разгулье. Оно ненадолго согревает в холоде бесконечности. Ибо лишь поняв, что жизнь движется к концу (а ему и впрямь хочется наиграться), человек начинает ощущать вечность. Поэтому иногда надо развеяться в легкомыслии. Для того и новая весна. Весна 1982 года.
Все, что стояло на колесах и колесиках, выкатывалось из подвалов и гаражей, стряхивало пыль, смазывалось и начищалось до блеска. Велосипеды, ролики, детские коляски и трехколесные «козлики». Полгорода по воскресным дням отводило душу на дамбе, переходящей в горизонталь без конца и края. Все, что было способно гулять, спешило нагуляться. Все, что движимо кручением педалей, набирало обороты.
А тем временем, пока крутились педали, криминальная полиция, входившая в систему городской власти, проявляла прочувствованную заботу о самих велосипедах. В «Штадтботе» она поместила уведомление:
Ежедневно в Австрии имеет место хищение примерно 75 000 велосипедов. Если бы это произошло во время велопробега по Австрии, то из соревнований одним махом была бы выведена основная масса участников. В долине Рейна за прошлый год было украдено 1292 велосипеда. А посему:
ТЫ ТОЖЕ ПОДУМАЙ ХОРОШЕНЬКО О НАДЕЖНОЙ СОХРАННОСТИ СВОЕГО ВЕЛОСИПЕДА!
Прикрепляйте – даже на время недолгого отсутствия – раму вкупе с передним и задним колесами стальным тросом, стальным же хомутиком или прочной цепочкой к какому-либо стационарному объекту. Но не к водоразборному крану или иному надежно закрепленному предмету, от которого зависит общественная безопасность. Прикрепление велосипеда к гидрату карается по закону.
Не экономьте на отказе от приобретения замковых тросов, покупка нового велосипеда обойдется вам дороже! Покупайте качественные средства охраны, с плохими вор легко справится. Не оставляйте в подсумках никаких инструментов. Ими может воспользоваться похититель, чтобы разобрать и выкрасть ваш велосипед по частям. Однако ваш велосипед должен быть снабжен инструментом, средствами ремонта шин и насосом. За отсутствие вышеперечисленных принадлежностей взыскивается по закону.
Вам предоставляется также возможность зарегистрировать номер велосипеда в газетах «Тат» и «Варе Тат». Оба издания два года назад начали кампанию под девизом «Атака на хищение велосипедов», благодаря чему можно без труда и быстро определить владельца найденного велосипеда.
Прислушайтесь к этим советам, и тогда ничто не омрачит радости велотуризма. Да здравствует велосипед!
Новое солнце горячило кровь не только благонамеренных горожан, но и велосипедных воров Якобсрота. В начале 80-х мода на велосипеды приобрела поистине повсеместный размах. Их седлали даже турки, которых тысячами доставляли в долину в связи со строительством автобана. Катались, как корова на льду, зато их сыновья уже лихо гоняли на двух колесах.
Им хотелось быть cool[13], будто ничто тебя не колышет. Cool. Словечко вошло в обиход. Cool. Турецкая молодежь. Новое поколение, возросшее в тесных закоулках Якобсрота. Черноволосые, с глазами цвета мокко, дети, которые уже без ошибок тараторили на рейнском диалекте и чьи отцы воспитывали их в традициях ислама, а на Курбан-байрам резали барашка. Те самые мальчики, с которыми не желали знаться юные горожаночки. Из-за чего турки начали выдавать себя за итальянцев. В «Ризико», первой дискотеке Якобсрота, в этом хлевообразном здании, где еще год назад продавали с аукциона племенной скот. Они носили распахнутые на груди рубашки и белые джинсы, полагая, что это самая фишка. Но итальянского прикида маловато, чтобы угостить джин-тоником, не говоря уж о приглашении совершить ночную поездку на взятом напрокат лимузине с откидным верхом.
А неустрашимые водители этих кабриолетов, невзирая на обманчивую щедрость солнца, беспрестанно носились вверх и вниз по Маттейштрассе, чтобы потом несколько дней мучиться необъяснимыми хрипами. Томатно-алый «корвет-шевроле-58» несколько недель нахально парковался у входа в кафе «Грау». Потом вдруг исчез. Злые языки уверяли, что банк нашел новое местечко этому восьмицилиндровому фумигатору, а заодно и тому, кто на нем ездил. Эдвина Оглоблю, якобы актера, готовившего себя к главной роли в многомиллионной (в долларах) постановке на студии «Юниверсал», Эдвина Оглоблю больше не видели в кафе «Грау».
Первые лучи солнца слепили рассудок. С кашей в голове люди брали кредиты, заключали браки, затевали процессы.
Мальчикам, пережившим в одну из зимних ночей свою первую эякуляцию, майский воздух придавал куража, и они, встав на ролики, старались задеть на лету брюнетку из 5-го «д», грудастую из 6-го «г» и цыпочку из 7-го «б».
Ведь паренек из долины редко отваживается сказать девице, о которой мечтал бессонными ночами, что любит ее, на самом деле. Он злит или тиранит ее, чтобы обратить на себя внимание. Таким способом он дает знать, как пылает его сердце. Немые остаются немыми. Даже весной. Вся надежда на игру глазами. Но от этого никакого толку – слишком велик страх услышать «на самом деле куда уж там».
Когда площадки перед дверьми кафе и ресторанов стали вновь меблироваться стульями, Jeunesse dorée[14] подставила простывшие лица в темных очках теплым лучам, юная дама, идущая в ногу со временем, наглядно провозгласила свой разрыв с эрой бюстгальтеров. Этому ее научили весенние уроки венских и инсбрукских денечков. С видом полной непринужденности она прирастает к фирменному итальянскому стулу и, напрягая спину, раскрепощает бюст под персиковой пикейной безрукавкой. Маленький ослепительно белый треугольник между слегка разведенными бедрами действует на мужчин как дорожный знак, дающий право преимущественного проезда. А когда щекочущий ветерок неожиданно обозначал твердеющие соски, мужчины были окончательно заарканены, особенно – блондины. Эротизация овладевала всем. Глазами, ладонями, губами, речью.
Той весной Мауди простилась со своим детством. Но несмотря на то, что она вступила в пору половой зрелости, у нее еще не было менструаций. Не начались они и спустя несколько месяцев, что не тревожило ни Амрай, ни Марго. Это, мол, бывает по-разному. У некоторых девочек первые регулы приходятся на пятнадцатилетний возраст. Эстер же раз в месяц освобождалась от уроков гимнастики, о чем Мауди говорила не без зависти.
В те же дни последовала череда странных случаев. Откуда ни возьмись, появились какие-то новые знакомцы Мауди, и никто не знал, как они стали таковыми. Ее невероятная, прямо-таки потрясающая доверчивость теряла всякую меру и все сильнее проявлялась с наступлением юности. Какие-то сомнительные типы входили в распахнутые двери ее жизни, это были главным образом мужчины, и создавалось впечатление, что Мауди магически притягивает их. Началась полоса инцидентов, ажитаций и недоразумений, самая пустяковая причина которых крылась в половом созревании, а самая существенная оставалась неизвестной. Все стало иным. Мауди казалось, что изменились вдруг люди. Почему люди робели при ней, но в то же время к ней льнули? Ведь она же такая, как и прежде.
Те, кто помнил, какая она была в детстве, видели это иначе. Теперь просто не узнать ту самую задумчивую и молчаливую девочку, говорила Инес. В сердце Мауди назревает гнойник какой-то безудержной мятежности – такой диагноз поставил классный куратор, вызвавший Амрай для доверительной беседы после скандала на уроке немецкого. В сочинении на тему: «Как ты оцениваешь занятия по немецкому языку?» девочка аттестовала его как труса, якобы на том основании, что он боится самого себя и не способен ходить по воздуху, а потому хочет угождать всем.
Разладилась и, казалось бы, уж такая крепкая дружба с Эстер, которая временами стала выбирать себе в качестве первой подруги несчастную Юли, между прочим ту самую девчушку с лицом брейгелевской страхотки, которую Бауэрмайстер когда-то угостил ворованным мороженым. Однако для такого выбора была и другая причина: Эстер, чьи груди выпукло круглились и вокруг которой увивались безусые ухажеры, пришла к выводу, что блеск красоты станет еще неотразимее в соседстве с безобразной неказистостью.
Но ведь были же времена sisters corner, потайного местечка, куда обе они заползали независимо от погоды. Была дощатая хижина, которую сколотил для них Харальд и доступ в которую разрешался только женщинкам, как они тогда выражались. Крохотная клетушка под дырявым навесом: Харальд не все сделал по правилам и не настелил толь. Строение держалось на четырех столбах, одним из которых служил обрубок ели, сваленной когда-то Бауэрмайстером, чтобы она не заслоняла ему вид из окна. Имелось нечто вроде откидной двери и двух оконных прорех в форме сердца. Внутри царил терпкий дух сырой древесины и бумаги, запах, неистребимый даже летней жарой. Когда в sisters corner приглашали подружек, Мауди заблаговременно опрыскивала его позаимствованными у матери духами L’Air du Temps.
От часто сменяемых цветных плакатов веяло каким-то острым беспокойством, которое постепенно вселялось в головы взрослеющих девочек. Эпоха лошадиных портретов миновала. В фавор вошли поп-звезды и рептилии. С Дайаной Росс соседствовал комодский варан, печально взирающий на индонезийское небо.
Изменялся язык, все более тяготея к двусмысленности, к заговорщицкой условности. Они всегда говорили на тайном языке. На уроках истории (обе ходили во 2-й «б» класс местного Терезианума), когда господин Даут толковал им про страшное иго фогтов, они не могли удержаться от, казалось бы, беспричинного смеха, за что учитель оставлял их «без обеда». И если впредь что-то не совсем удавалось: стянуть ли с ноги резиновый сапожок или решить задачку, при всяком промахе или маленькой неприятности раздавался вздох, сопровождаемый проклятием: У! Страшное-иго-фогтов! Придумывались все новые ласкательные обращения друг к другу. Они выглядели неразлучными, а их дружба в те весенние дни настолько срастила их, насколько это вообще возможно между людьми. Они любили друг друга, а стало быть, как им тогда казалось, и весь мир.
Бывали дни, когда они не мыслили ни часу прожить друг без друга. С приближением темноты в sisters corner становилось неуютно, им ничего не оставалось, кроме как пожелать спокойной ночи, но стоило разойтись на несколько шагов, как накатывало щемящее чувство разлуки. Они то и дело оборачивались, махали друг другу и кричали, обмениваясь ласковыми словами. Прибыв восвояси, они немедленно связывались по телефону, хотя жили всего-то в восьми домах друг от друга, и долгие разговоры завершались обычно тем, что спустя полчаса Эстер, в пижаме и с зубной щеткой под мышкой, стояла у ворот Красной виллы. Они ночевали в Зале воздушных пешеходов, на более чем тесном шезлонге, висок к виску, и Мауди должна была поглаживать Эстер по предплечью. Иначе та не могла уснуть.
Они настолько овладели языком взглядов, что не требовалось никаких слов. Да, иногда они говорили на этом языке с таким мастерством, что вполне могли обходиться краткими репликами, сопровождая их движениями зрачков, бровей и век.
Им нечего было скрывать друг от друга, ни в душевном, ни в телесном существе. Они писали друг другу письма с клятвами до гробовой доски хранить взаимную верность, с рассуждениями о том, что на этой земле, над которой нависла угроза атомной катастрофы, (о чем приходилось слышать каждый божий день), всё – прах, кроме любви. Они решили стать королевами любви. Королевой Ри и королевой Ре. Ласковым прозвищам подыгрывал цвет девичьих губ, подкрашенных помадой матери – малиновой и лавандово-бледной. Надувные матрасы в sisters corner становились площадкой для разучивания сцены утреннего пробуждения женщины. Эстер исполняла роль погруженной в сонную негу, потом проводила по лбу тыльной стороной ладони, медленно открывала глаза и со словами: «Любимый, где моя услада?» вновь смыкала их.
За своим телесным формированием они наблюдали с любопытством и большой серьезностью. Когда груди стали обретать выпуклость, Эстер перенесла несколько тревожных недель. Ибо левая грудь развивалась слабее, чем правая. Эстер плакала и терзалась чувством неполноценности. А душевная сестра обнимала ладонями ее голову, целовала, гладила волосы и утешала. Они ощущали изменившийся запах их плоти и чуть более глубокие обертоны голосов. Они хотели стать женщинами и делали все, чтобы казаться старше. Выдавали себя за четырнадцатилетних. Если бы рок разлучил их, они бы умерли от горя.
Так было до событий одного августовского вечера.
Они впервые проводили лето не под небом Лигурии, не в Рапалло, где у Ромбахов был свой дом, а в родном городе. Инес, ее сводный брат Харальд, Амрай и несколько их друзей жили своей взрослой компанией внизу, а девочки якобы находились под присмотром Марго. Они упивались нежданной свободой, особенно Эстер. Так как Харальд, все больше углубившись в дебри религиозных материй, возомнил себя в некотором смысле ее воспитателем. Он загонял девочку в какой-то неясный, задымленный ладаном сонм, в мир демонов и догм, который казался ей чем-то непроглядным и в силу своей чугунной дидактики был для нее слишком неуютен и душен. Со смешанным чувством торжества и вины она слушает теперь звон колоколов Св. Урсулы, приникает своей легкой, как крылышко, рукой к спящей Мауди, чье тихое и ровное дыхание успокаивает ее совесть. Но окончательным успокоением и счастьем вновь забыться утренним сном она была обязана самой Марго Мангольд. И хотя Харальд не то чтобы уговаривал, а чуть не за горло брал пожилую даму, требуя следить за благочестием юных особ, она отправилась к мессе одна, ей и в голову бы не пришло разбудить девочек.
Послеполуденные часы, когда неподвижный воздух был бел и плотен, как свернувшееся молоко, они проводили в пойменных прирейнских лугах, у так называемых котлованов Магдалинина леса. Там они красовались в новых бикини, пестреющих черно-оранжевым крапом и обшитых рюшем. При этом поначалу бикини носили девочек, а не наоборот. Эстер исхитрилась усилить объемность матерчатых чашечек на груди так, что мальчишкам они казались полными чашами. То были светлые деньки блаженной лени и дурачества. То были дни сердечного откровения, открытия в себе способности любить и любовного томления.
Как бывает в моменты удесятеренной остроты жизнеощущения, музыка становится синонимом невыразимого в слове. Музыка, которая не может отзвучать с годами и доносит из прошлого запахи и краски той единственной поры счастья или боли. Пока в конце концов не минует и это и музыка покажется пресным набором звуков, даже смешной, ибо сердце не может взять ее тона.
Upside down, boy you turn me. Inside out and round and round, and round and round. Это было и паролем и отзывом того лета. Рюди из 4-го «в» (со сверстниками они не водились) ежедневно извлекал дребезжащий пароль из своего кассетника. Он врубал эту песню для Эстер. Тут все начинали танцевать. Юли, Венцель, Пиза, однорукий Стив, Мауди, Эстер и Рюди. Их расцветающая плоть проникалась эротикой, а движения в свой черед эротизировали музыку, которая властно-мужественным рокотом бас-гитары опять-таки сообщала сексуальный заряд пластике девочек, между тем как обволакивающе-нежный голос Дайаны Росс зажигал в мальчишечьих глазах огоньки невинной страсти.
После купания вскакивали на велосипеды, катили к мороженице Густля, и там происходило всячески оттягиваемое прощание девочек. Мауди ехала в район Иудиных ворот, где в парфюмерном магазине Мюллера ее поджидала Марго, чтобы вместе отправиться домой. Эстер держала путь прямо к своему дому, ей предстоял ежевечерний междугородный разговор с Рапалло, и надо было покормить хомячка Цезаря. А вечером снова вместе – за ужином в Красной вилле.
– Я должна тебе кое-что показать, – шепнула Мауди на ухо подруге, когда они складывали в тележку грязную посуду. Потом встала на цыпочки, открыла дверцу висячего шкафа и мигом спроворила кофейную чашку, спрятав ее под полой пляжной блузы.








