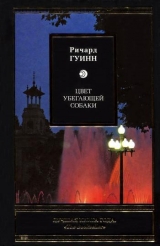
Текст книги "Цвет убегающей собаки"
Автор книги: Ричард Гуинн
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Ричард Гуинн
Цвет убегающей собаки
Солнце только что исчезло на западном горизонте долины. Я постоял еще немного на валуне рядом с башней, глядя в ту сторону и вдыхая запах дымка, поднимающегося из трубы, затем вернулся в дом и подбросил в печку несколько оливковых веток. Собака свернулась у моих ног, в тени.
Прошлой зимой я купил ноутбук и этот чудесный дубовый стол. Каприз, конечно, но дело того стоило.
Мелочи, а как они украшают жизнь.
Времена года неторопливо сменяли друг друга. Весна выдалась обильной на влагу, лето – сухим и жарким. Миндальное дерево у меня в саду дало первые плоды. Наступил октябрь, начались осенние дожди. И ветер задул.
Этот ветер, ветер с гор, продувает все углы, как злой демон. Раздирает душу, воздействует на поведение, порабощает душу. В конце концов отдаешь себе отчет лишь в его непосредственном и таинственном воздействии на все, тебя окружающее: беззвучный призрак собаки, застывшей в ожидании на пороге; дохлая овца, валяющаяся под придорожным вязом… Ветер высасывает из тебя все соки, обессиливает, карает. Иные под воздействием этого дующего с гор ветра убивают, другие постепенно сходят с ума.
Башня стоит на самом гребне холма, одиноко возникая вдруг на фоне поросших деревьями склонов. Архитектор строго следовал принципу прямых линий. Вдалеке, если погода ясная, можно увидеть причудливо изрезанные временем пики высоких гор, летом цвета серого гранита, а с ноября по начало июня покрытые снежными шапками. В башне три этажа, соединенные спиральной каменной лестницей. Последний пролет ведет на плоскую крышу. Но я редко поднимаюсь наверх. На первом этаже у меня есть все, что нужно, – камин, окно, письменный стол, место для готовки, кровать.
Большую часть года здесь холодно, но это меня не смущает. Я закутываюсь в теплое. Иногда просто сижу в кресле и смотрю через окно на долину и белую дорогу, вьющуюся по густо поросшим зеленью склонам холмов. В стенах верхних этажей башни прорезаны бойницы, через которые защитники могли забрасывать стрелами врагов. А впрочем, сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь покушался на эту твердыню. Нечего тут защищать – ни теперь, ни раньше. Мне рассказывали, что построена башня в XIII веке с единственной целью – сюда заключили последнего отпрыска рода по боковой линии. Его держали на третьем этаже, потому там две комнаты: одна – для узника, другая для стражника.
От башни долина, изрезанная, как шрамами, балками и оврагами, перемежающимися порою мощными утесами, уходит на тысячу или даже более метров вниз, где раскинулось обширное плато. Земли здесь низменные, они простираются на юг, уходя за близлежащий городок, и на запад, в сторону города. С тех пор как узник в обществе единственного своего спутника рассматривал здешние пейзажи, они вряд ли так уж сильно изменились. В роли стражника теперь выступаю я, только сторожить здесь некого, точно так же, как и нечего защищать.
В мои обязанности входит смотреть за хозяйством. Есть у меня и свой участок, там я выращиваю овощи. Кроме владельца, называющего себя бароном и живущего в городе, здесь не появляется никто. Да и хозяин наведывается редко и никогда не задерживается надолго. Какое-то время ходит по округе либо поднимается на крышу башни посмотреть, работает ли громоотвод. Ну и деньги мне дает.
Бывает, я не вижу барона месяц и больше. Тогда приходится ехать к нему на службу, в город, а это в сотне километров отсюда. Я выхожу рано и пешком направляюсь в близлежащий городок, где есть железнодорожная станция. Дорога поездом занимает примерно полтора часа. В городе секретарша барона передает мне деньги в коричневом конверте без имени адресата. Дело не в том, что он не знает, как меня зовут, просто это одна из наших договоренностей.
Днем, в сопровождении рыжей овчарки Филоса, я часами разгуливаю по буковой роще. Встаем мы рано и сначала ищем грибы, а потом просто бродим. Сейчас, из-за осенних дождей, дорожки затоплены и покрыты грязью. Вечерами я остаюсь дома и готовлю бесхитростную еду – фасоль, картошку, хлеб. Перекусив, сажусь у камина и начинаю писать. Прошлым октябрем я дал себе на эту работу год. Полный кругооборот – все четыре времени года. Я попытался вспомнить, как все было на самом деле, а не как мне хотелось бы и даже как я убедил самого себя. И все же не могу быть полностью уверенным в том, что мое повествование – правда. Рассказ – это всегда только версия, возникающая в определенный момент. И она может измениться, ведь наша жизнь состоит из бесчисленного количества таких моментов, разворачиваясь в череде событий от смутно припоминаемого прошлого к столь же зыбкому будущему. Но ничего, кроме этих моментов, у нас нет. Они образуют ткань памяти. Мы вновь и вновь переживаем их, постоянно что-то подправляя, что-то меняя местами, до тех пор пока не придем к версии, которая нас устраивает. Вот ее-то мы и называем рассказом. Но даже и такой рассказ принадлежит нам не полностью, ведь в нем участвуют люди, которыми мы то ли были когда-то, то ли казались себе такими. А чаще – которыми стремились стать.
Я благодарен судьбе за то, что имею, – за свои скромные обязанности, ежедневные дела. Например, проверку метеорологического оборудования, хранящегося в низком, выкрашенном в белое улье, что стоит прямо за башней. Барон так и не сказал, зачем ему нужны мои услуги, а я и не спрашивал. Вообще-то спросить хотелось, но удержался. Подозреваю, дело тут либо в том, что характер у него такой – все должно быть в полном порядке, либо хочет увериться, что платит сторожу не зря.
Сегодня утром, закрывая дверь метеостанции, я заметил зайца, грызущего траву метрах в двадцати отсюда. Филос и заяц тоже заметили друг друга – одновременно. На мгновение человек, собака и заяц застыли на месте, затем Филос рванулся вперед, яростно продираясь сквозь кусты ежевики, а заяц что есть мочи помчался прочь. Это был самец. Задними лапами он мощно отталкивался от земли и в зимнем своем одеянии казался гигантом. Хвостик его вращался с бешеной скоростью, мелькая в осеннем мелколесье. Филос упорно преследовал бедолагу, и шкура у него была окраса убегающей собаки.
На местном наречии это обозначает нечто неопределенное, смутное, туманное, быть может – именно ситуацию бегства. Вообще-то подходит. И к эпизоду преследования зайца, и к повествованию, над которым я сейчас работаю.
Я намеревался описать события, случившиеся однажды летом в последнее десятилетие XX века. Сейчас они кажутся мелькающими кадрами фильма. Сеанс закончился, но образы киношных героев продолжают тревожить память. Выходя из зрительного зала, останавливаешься в фойе, и накатывает на тебя чувство горечи и утраты непрожитой жизни. Что-то встало на твоем бренном пути… может, эпизод из фильма, может, кем-то произнесенная фраза, а скорее всего – смутный порыв, пробужденный в тебе неким персонажем. Так может начинаться любое повествование: туманная ностальгия по чему-то далекому, но хорошо известному, – на мгновение оно, словно вспышка, мелькает перед тобой, а потом исчезает.
Ла Торре де Вилаферран
Часть I
Мы не знаем, чего желать, потому что, имея в распоряжении всего лишь одну жизнь, не можем ни сравнивать ее с жизнями, прожитыми ранее, ни совершенствовать ее в жизнях, которые нам предстоят.
Милан Кундера
Глава 1
Почтовая открытка
Как-то майским вечером, возвращаясь домой, я стал свидетелем кражи, но не сделал ничего, чтобы ее предотвратить. Дело происходило в Готическом квартале, совсем рядом с Рамблас. Причудливой формы фонари по обе стороны улицы напоминали о более величественных временах, а узкие переулки терялись в лабиринтах, куда не проникает дневной свет. Проходя мимо поворота в один из таких переулков, я заметил на углу бледного молодого человека, озирающего своими маленькими, как у пресмыкающегося, глазками проходящую мимо толпу. Я замедлил шаг.
Не прошел и десяти метров, как услышал пронзительный женский голос, выкрикивающий одно-единственное слово на английском. Молодой человек накинулся на загорелую, с пепельно-светлыми волосами женщину в короткой розовой юбке и принялся яростно сдирать у нее с плеча сумку. Женщина отбивалась… Но вот бедняжка упала на землю, и вор стремительно пересек улицу, прижимая к груди добычу, и исчез в переулке.
Все случилось мгновенно, я и пошевелиться не успел.
Какое-то время женщина не поднималась с земли, юбка задралась у нее до пояса. Лежа наполовину на мостовой, наполовину на тротуаре, она выглядела грустной и беззащитной. Она была плотного телосложения, кожа на ногах красная.
– Остановите же подлеца! – выкрикнула жертва нападения, неловко поднимаясь на ноги.
Она смотрела прямо на меня.
К счастью, рядом оказался сердобольный прохожий. Совсем юный на вид, он был одет в легкий голубой костюм. Молодой человек круто остановился, метнулся в переулок и сразу исчез во тьме, но буквально через несколько секунд вернулся, безнадежно разведя руками, как это делают люди латинской расы, когда у них что-то не получается. Он бегло выразил жертве свое сочувствие – ни единого слова, им произнесенного, женщина не поняла – и, пожав плечами, продолжил свой путь.
Женщина сердито стряхнула приставшую к юбке пыль. Выглядела она так, будто вот-вот разрыдается. Я по-прежнему стоял не шевелясь. Несколько человек, задержавшихся было в надежде на захватывающее зрелище, тоже двинулись своей дорогой. Интересно, а что в сумке, между прочим подумал я.
– Ты мог остановить его. Сволочь! – Первый слог этого слова она выплюнула так, словно поперхнулась хрящом.
Ясно, что адресовалось это мне, но у меня не было желания посмотреть ей в лицо и попробовать оправдаться. Наверное, она права. Если бы я не утратил способность двигаться, то действительно находился в наиболее удобном положении, чтобы остановить вора.
Я крупнее его. Я мог перехватить злодея, не дать скрыться в переулке. Или подставить ногу, и пока он будет подниматься, придавить шею башмаком, прошипеть ему на ухо, какой он негодяй, измолотить как следует ногами и кулаками. Я мог унизить его, мог дать взбучку и выйти из ситуации героем, заслужившим благодарность загорелой туристки и аплодисменты публики. Женщина в розовом пригласила бы меня поужинать у себя в гостинице, поведала бы печальные подробности своего неудачного брака, рассказала о работе, которая не доставляет ей удовольствия, о решении завести собственное небольшое дело, которое теперь едва ли не процветает на юго-востоке Англии, о поездках, как она выражается, на «континент». Ближе к ночи возникла бы или, хуже того, стала реальностью перспектива секса под выпивку. И конец моей спокойной жизни.
За что все это? За несколько дорожных чеков, паспорт, билет, ключ от гостиничного номера, пудреницу, помаду?.. Ну, еще как максимум крем для загара. К тому же бродяге деньги нужны гораздо больше, чем ей. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть ему в глаза.
Я взглянул на женщину, стоящую напротив меня, и, к собственному облегчению, не ощутил ничего похожего на сострадание. Ноги мои словно ожили, и я двинулся дальше. Не оборачиваясь. Дошел до конца Каррер Ферран, миновал здание мэрии, украшенное искусными цветочными горшками, с ее атмосферой былой колониальной славы. По мостовой, мимо одинокого полицейского и кучки нищих. Через улицу Лаэтана с шумным потоком автомобилей.
Зайдя в знакомый бар рядом с площадью Святой Катарины, я сел за стойку, рядом с кофейным автоматом. Заказал пиво и бренди. Я проглотил пиво и теперь грел в ладонях рюмку с бренди. У входа в бар сутенер о чем-то спорил со своими девицами. Вскоре после моего появления они ушли. В баре было тихо. Я все никак не мог прийти в себя после приключения на Каррер-Ферран. Хотя и сталкивался с подобными вещами едва ли не каждый день. Так почему же сегодняшняя кража произвела на меня такое впечатление? Потому что женщина смотрела на меня и говорила по-английски. «Сволочь» – это слово она произнесла три раза. В последний она явно адресовалась ко мне. Я и пальцем не пошевелил, чтобы помочь ей.
Я рассказал о краже бармену Энрико. Представил свое бездействие чуть ли не как подвиги особо подчеркнул уродливость жертвы. Энрико через силу засмеялся и в ответ поведал о поножовщине, случившейся в баре месяц назад. Эту историю я слышал дважды и на сей раз пропустил мимо ушей. Осушил рюмку с бренди и вышел из бара.
Я обитал в районе площади Святой Катарины. Квартира моя находилась на верхнем этаже, куда вели восемь крутых лестничных пролетов. Квартирка маленькая, и зимой тут гуляли сквозняки. Лучшее в ней – открытая веранда. Выходя на нее, я оказывался немного выше таких же веранд, находящихся на крышах соседних домов. Сидишь здесь и смотришь на огни Тибидабо – призрачного парка развлечений, словно плавающего прямо в ночном небе. Или вниз, на запыленную стеклянную крышу старого рынка, что растянулся прямо подо мной, напоминая опустевший железнодорожный вокзал. Но больше всего я любил улечься в гамак и смотреть на звезды, прислушиваясь к доносящимся снизу звукам городской жизни.
Открыв дверь и войдя в квартиру, я обнаружил на полу почтовую открытку. На ней была изображена репродукция картины Хуана Миро. Я перевернул открытку. Аккуратным почерком, зелеными чернилами здесь были обозначены дата и время: 20 мая, 11 часов утра. И никаких пояснений, никакого обратного адреса. Из текста на каталанском внизу открытки явствовало, что репродукция сделана с картины Миро Dona en la Nit, то есть «Женщина ночью». Картина хранится в Фонде Миро. А 20 мая – завтра.
Мою почту никогда не доставляли наверх. Она оставалась в почтовом ящике, при входе в подъезд. Тот, кто просунул открытку под дверь, либо каким-то образом вошел в дом, либо жил здесь. Быстро перебрав имена жильцов и решив, что никто из них автором открытки быть не может, я решил спуститься к своему соседу-андалусийцу Ману – вдруг он что-нибудь подскажет. Ману жил на третьем этаже с женой и дочерью-школьницей. На крыше, прямо позади моей кухни, он держал кроликов. Вечерами поднимался наверх, усаживался подле клетки и попивал вино из Кордовы. Иногда я составлял ему компанию. Наша дружба и проявлялась как раз в этом естественном ночном ритуале. Нам нравилось общество друг друга. Здесь, пребывая на командных высотах, приятно было отпустить беглое замечание по поводу соседей либо положения дел в мире. Если Ману было одиноко, он стучал в мою дверь либо в окно на кухне (оно как раз выходило на нашу общую крышу, где, кроме клеток с кроликами, стоял стол и несколько стульев) и приглашал пропустить стаканчик-другой вина. Он работал на складе в доках.
Ману открыл дверь, что-то дожевывая. Мы поздоровались.
– Слушай, Ману, ко мне нынче вечером никто не приходил?
Он вытер губы грязной салфеткой.
– А мне-то откуда знать?
– Меня не было дома, и кто-то в мое отсутствие подсунул открытку под дверь.
– Я ничего не слышал. Погоди. – Он окликнул жену и дочь. Те тоже никого не видели и не слышали. На Ману был светлый жилет, натянутый на круглый живот. – Пошли ко мне. Выпьем чего-нибудь. Или поешь.
– Да нет, спасибо.
– Как знаешь. Да не волнуйся ты так.
– Что-то случилось?
– Может, еще вернется.
– Кто вернется?
– Тот, кто приходил. Твой посетитель.
– Возможно.
– Ты выглядишь обеспокоенным.
– Я не понимаю, что все это значит. А то, чего я не понимаю, беспокоит меня.
Было видно, что Ману переваривает услышанное.
– А знаешь, что беспокоит меня? Мои кролики. Кролики должны трахаться. А эти не трахаются.
Это неправда. Кролики Ману весьма любвеобильны и размножались с устрашающей скоростью.
– Может, твои кролики заняты высокими материями. Обдумывают жизнь духа. Или состояние дел в футбольном клубе Барселоны. Или местные выборы. А может, у них разные сексуальные ориентации.
– Думаешь, мне самому это в голову не приходило?
– Наверняка приходило. До завтра.
– Увидимся.
Я поднялся к себе и вновь принялся разглядывать открытку, пытаясь сообразить, откуда же начать. Но ничего не приходило в голову. Открытка без подписи, без текста – только уведомление, или приглашение, или и то и другое. Прихватив с собой открытку, я вышел на веранду и закурил сигарету. Красная черепица еще не остыла и обжигала босые ноги. Город утопал в огнях. С моря дул теплый ветерок, неся с собою запах соли и обещание лета. Стоял я долго, опираясь о парапет и прислушиваясь к начинающимся звукам ночи – такси, собаки, супружеская пара, скандалящая при открытых окнах в доме напротив… Я решил принять душ и пораньше лечь спать.
Наутро, в пять, я проснулся от шума фургонов, разгружающихся у рынка. Дело привычное, и меня это вполне устраивало – я люблю вставать рано. Спальня примыкала к веранде, и спал я с настежь распахнутым окном. Внизу на мостовой громоздились ящики со свежими фруктами и овощами, рядом – цветы и другие домашние растения, что продавались на рынке. Воздух этим майским утром был свеж и душист.
Мне тридцать три года. Порой у меня побаливает печень, и ощущается смутная тоска по домашнему уюту, постоянному доходу и детям, которые ждут тебя вечером с работы. Нередко тоска совмещается с болью. Три года назад, после тяжелого запоя, когда печень давала о себе знать особенно сильно, я отправился на прием к иглотерапевту, в Мараголл, в северной части города. Иглотерапевтом оказалась молодая женщина по имени Финна Мендес. Дело свое она любила, ну а я воспринимал многочисленные уколы с легким мазохизмом. Боли в печени поутихли, и я не стал встречаться с Финной просто так. Она сидела на какой-то диете и курила сигареты «Винстон». Заставляла меня поглощать в немереных количествах шелушеный рис и свежие овощи. У нее были блестящие черные волосы, неожиданно голубые глаза и спортивный «фольксваген гольф», на котором Финна развивала опасную скорость. Она окончила университет по специальности биохимик, обожала рок и верила в скорое пришествие инопланетян. Мы стали любовниками, и я переехал к ней.
По субботам и воскресеньям мы, как правило, не работали, предпочитая совершать головокружительные походы в Пиренеи. С собой брали всего лишь пару одеял, побольше фруктов и орехов да котелок для чая. Оставляя машину где попало, мы взбирались на удобную площадку повыше, где я разводил костер и кипятил чай из трав. Финна изо всех сил всматривалась в небо, рассчитывая увидеть летающую тарелку. Она могла сидеть так часами, не теряя веры в успех. Иногда откидывалась на спину, устроившись головой у меня на животе. Я тоже смотрел на небо, дивясь грандиозности созвездий.
– Смотри, – оживилась она однажды вечером, после полуторачасового неподвижного лежания, – вот и она.
– Это самолет, – откликнулся я, даже не глядя в ту сторону. – Наверное, собирается совершить посадку в Жироне.
– Самолеты так не мигают, – возразила Финна. – У этих огней цвет другой. И вспыхивают они иначе. К тому же эта штука стоит на месте.
Световой сигнал, о котором шла речь, был серебристо-голубого цвета, и отсюда не скажешь, на какой высоте он находится. И не поймешь, то ли действительно застыл на месте, то ли движется, но очень медленно.
– Оно зависло, – пробормотала Финна.
Что может означать голубой цвет, я понятия не имел, но в жизни не признал бы, что эта штуковина – неопознанный летающий объект. Я потянулся за сигаретой, закурил и вгляделся в мерцающий огонек. В горах небо определенно к нам ближе. Гигантский звездный занавес казался плотнее, чем обычно, и сквозь шрамы тьмы светили миллионы звезд.
– Но почему здесь, Финна? Почему ты считаешь, что они должны появиться именно здесь?
– Пиренеи занимают первое место в Европе по частоте появления НЛО. А треугольник, образуемый Монсератом, полуостровом Кап де Кройс и Андоррой, – особенно. Существуют некие признаки того, что можно назвать космической восприимчивостью. Количество каменных окружностей в определенной местности. Важные религиозные центры средневековья. Все это соответствует определенному энергетическому уровню.
Порой она изъяснялась в стиле туристического справочника Нового времени.
– Ну и что эти пришельцы здесь делают?
– Ждут, полагаю.
– Ждут – чего?
– Пока у нас возникнет в них нужда, неужели не ясно?
– В общем, они представляют собой нечто вроде интергалактических социальных работников, так?
Подобного рода замечания Финна, как правило, игнорировала.
– Все начнется, когда люди зайдут слишком далеко. Война, чума, разруха. Уничтожение природной среды. Вот тогда и произойдет что-то необычное.
– И сколько, по твоим расчетам, осталось ждать?
– Да лет пять-шесть.
Я поднялся и подбросил в костер немного веток. Теории Финны казались занятными, но ее веры в летающие блюдца я не разделял. Однажды, в начале нашего знакомства, она даже высказалась в том роде, что я и сам – пришелец из иных миров, только не осознаю этого. Сей мыслью она поделилась во время ночной вылазки и, к счастью, потом уж ее не развивала, почувствовав, должно быть, что версия мне не по душе. Финна поднялась вслед за мной, вся дрожа от волнения. Наклонилась, принялась стряхивать с моего свитера иголки, яростно отбрасывая их в сторону, словно меня облепили огромные вши. Я продолжал ворошить длинной палкой угли.
– Ты считаешь, я спятила.
– Нет, – поспешно возразил я, – нет, конечно. Только как можно столь определенно говорить о предметах… недоказанных.
– Это просто ощущение того, что в конечном счете нас охраняет некоторая потусторонняя сила.
– То есть нечто вроде веры в Бога.
– Нет. Бог здесь ни при чем. Это просто внутренняя убежденность.
– Знаешь, Финна, в университете ты готовилась стать ученым. И в других ситуациях действительно принимаешь во внимание доводы разума, веришь в теории, поддающиеся проверке, и все такое прочее. Но идею вторжения извне ты принимаешь просто так, без всяких доказательств. Слишком много, скажу я, в тебе противоречий.
Случалось, я просто испытывал потребность подколоть ее, ибо вера в НЛО меня раздражала. Чушь, право, какая-то – в отличие, скажем, от занятий иглоукалыванием либо уверенности в целительные свойства трав, ароматических масел, лечебного массажа шиацу, которые по крайней мере опираются на естественную основу и находят подтверждение на практике.
Но не эти противоречия породили трещину в наших отношениях, скорее – нарастающее ощущение того, что мы ожидаем друг от друга разного. По прошествии года совместной жизни я стал больше заниматься работой, засиживался, бывало, допоздна, возвращался домой к одиннадцати, когда Финна уже была в постели, притворяясь спящей. Она, в свою очередь, начала проявлять чрезмерную требовательность. В тех случаях, когда не прикидывалась, будто не замечает меня, – тащила в постель и отпускать не желала. Не то чтобы я противился, вовсе нет. Но периоды вынужденного воздержания с нарастающим внутренним напряжением – вот что начало меня доставать, да и несовместимость этих двух сторон наших отношений – либо молчание, либо секс. И никакой середины, хоть крохотного участка плодородной земли, на котором можно получше узнать друг друга. Наверное, общего у нас было меньше, чем нам хотелось считать поначалу.
Однажды вечером я напился и разбил машину на кольцевой дороге. Со мной ехали однорукий поэт из Колумбии и исполнительница фламенко – трансвестит. Как все произошло, я не мог вспомнить и провел неделю в больнице. Ко всему прочему пострадала еще одна машина, и моей страховой компании был предъявлен солидный счет. Мне грозила утрата водительских прав, хотя вроде на наличие алкоголя в крови меня не проверяли и в полицейской камере я тоже не сидел. Во всяком случае, ничего такого мне не запомнилось. После выписки из больницы отношения с Финной совсем разладились. Мы начали швыряться разными предметами и попрекать друг друга былыми грехами – всегда плохой знак. Я переехал к Карлосу, этому самому колумбийскому поэту, в квартал Готико, а к концу недели снял квартиру на площади Святой Катарины.
К нынешнему моменту прошло два года, как мы не виделись с Финной, и при мысли о ней я ощутил разом и возбуждение, и раздражение. Я надел шорты, прошлепал на кухню, сварил себе кофе и вышел на веранду. Вдалеке, за кранами в порту, медленно поднималось солнце. Жаркий будет день. Еще ничего не решив, я уже знал, что утром пойду в Фонд Миро и в одиннадцать буду стоять перед «Женщиной ночью», пытаясь понять, кого или что мне предстоит отыскать.
Я был членом клуба здоровья, находившегося рядом с Марагалом, – напоминание о прежней моей размеренной жизни. Самое время сходить туда, заняться зарядкой – так и пройдут два часа, оставшиеся до момента, когда я должен быть в Фонде Миро. В метро толпился народ, но большинство ехало на работу в противоположном направлении. В гимнастическом зале я принялся разминаться на дорожке. Время от времени с угнетающей равномерностью мои движения повторяли конторские служащие – каждый выполнял собственную программу самосовершенствования. Мне лично не следовало слишком напрягаться, ведь уже две недели, как я не наведывался в зал. Тем не менее с дорожки я перешел к штанге и принялся работать с железом, мучительно накачивая мышцы и укрепляя торс. Наконец отправился в сауну, потом долго плавал. К этому времени большинство посетителей разошлись, и сауна, а также бассейн остались в полном моем распоряжении. Приятно было посидеть в покое да погреться. Словно в тихой гавани оказался после всех этих мучений. Да еще так славно пахло эвкалиптом и свежей сосной… Я попытался сделать несколько дыхательных упражнений. Голова была свободна от любых мыслей. Я лениво следил затем, как пот струйками стекает с груди на живот.
Открылась дверь, и я с удивлением увидел в проеме старейшего своего друга – каталонского скульптора и художника Эухению Фабр, живущую в квартале Грасиа. Мы были знакомы еще до моего переезда в Испанию. Впервые встретились в Афинах, лет пятнадцать назад. Она из тех, кто по доброй воле берется за самые тяжелые дела, это смуглая, сдержанная и весьма серьезная женщина, хоть и наделенная неброским, но своеобразным чувством юмора. Внешность ее выдавала некоторое родство с миром животных – не родись она человеком, быть ей лисой.
– Смотри-ка, Эухения. А я и не знал, что ты член клуба.
Она чмокнула меня в обе щеки.
– Приятель пригласил. Вот я и пришла. А тебя что сюда занесло?
– Да тоже в некотором роде приглашению следую. – И я рассказал ей про почтовую открытку.
– Загадка. Ты знаешь, конечно, что у Миро есть несколько картин с таким названием?
– Увы.
– Теперь будешь знать. Помимо той, что на открытке, – это «Женщина с птицами», «Женщина с птицами ночью», «Женщина и стая птиц».
– А как насчет «Птицы ночью и стаи женщин»?
– Такая картина мне неизвестна.
– Странно. Видишь ли, во-первых, открытки у меня в квартире вообще не должно было быть; а во-вторых, она появилась в особенный момент.
– Чем особенный?
– Я обнаружил ее сразу после того, как стал свидетелем кражи. Я мог помочь жертве, но застыл как вкопанный. Словно все происходило на телевизионном экране. Мне было интереснее смотреть, чем делать что-то.
Эухения помолчала.
– Н-да, не похвально. Но вообще-то ничего особенного, обычное дело. Такое уж время. Мы живем словно внутри пузырей. Все то, что происходит снаружи, кажется пагубой либо покушением на твою частную жизнь. Заходи как-нибудь. С тобой я чувствую себя нормальным человеком.
– Это комплимент? Подозреваю, что нет. Тем не менее спасибо, непременно зайду.
– Сколько мы уже не виделись? Инерция. Летаргия. Надо бы тебе с места стронуться. В горы, например, сходить.
– Это точно.
В сауну вошла еще одна женщина, помоложе, с коротко остриженными светлыми волосами, и села на полку рядом с Эухенией. Она подозрительно посмотрела на меня, и Эухения поспешила представить нас друг другу. Имени новой знакомой я не уловил. Совсем о другом думал. В сауне стало слишком жарко, и я вышел. Долго стоял под прохладным душем, затем оделся, чувствуя, как по всему телу разливается приятное ощущение невесомости.
Рядом с клубом было небольшое кафе. Я купил газету на испанском и заказал завтрак – омлете гренками. К тому времени как я дочитал газету, было больше десяти. Я вышел из кафе и спустился в метро.
Когда вошел в вагон, скандал был в полном разгаре. Неподалеку от меня четверо подростков-цыган задирали пьянчужку с покрасневшими глазами. «Оставьте меня в покое!» – отбивался он от них. Не тут-то было. Казалось, цыгане подстрекают, стараются заставить его показать им что-то. Перед станцией Драссан пьянчужка принялся пробираться к двери, и я заметил у него под пиджаком щенка. Цыгане продолжали его подзуживать. В то самое мгновение, когда он собирался ступить на платформу, щенок выдал мощную струю, поразившую стоящего рядом парнишку точно в грудь. Рубаха у того разом вымокла. Паренек вскрикнул от возмущения, подался назад, но тут же кинулся на бродягу. Двери начали сдвигаться. Сверкнуло лезвие – на свет появился нож. На миг мне сделалось страшно. Я думал, что жертва рухнет на платформу. Но оказалось, паренек просто лицедействовал. Поезд тронулся, и пьянчужка сердито повернулся, бормоча что-то про себя и кутая щенка в пиджак. Один из цыган-пассажиров повторил только что разыгранную сцену, на сей раз он играл роль бродяги, который в этом этюде идет, пошатываясь, по проходу и в конце концов медленно, по-киношному опускается на пол. Паренек в вымокшей рубахе даже не улыбнулся. Остальные рассмеялись и двинулись дальше по вагону, в предвкушении новых развлечений.







