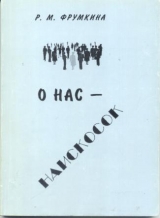
Текст книги "О нас – наискосок"
Автор книги: Ревекка Фрумкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Чтобы приносить истинную радость, занятия наукой должны иметь смысл в самих себе. Как писала Л. Я. Гинзбург, смысл – это когда не спрашивают «зачем?». Позже вы можете говорить о том, что вы хотели осчастливить человечество. Или заслужить одобрение родителей. Или разбогатеть.
Ученым движет мысль, подобно тому, как влюбленным движет страсть. Сама по себе страсть не гарантирует взаимности, но сообщает определенным переживаниям ценность и осмысленность. Движение мысли тоже не гарантирует получение удачного результата. Более того, само по себе это движение ощущается как весьма изматывающий труд. Но сколько бы ученый ни жаловался на мучительность процесса поиска, он интенсивно живет именно этим процессом.
Что касается результата, то, во-первых, результаты случаются не так часто, чтобы заполнять собою жизнь. Во-вторых, почти любой частный результат в принципе опровержим или оказывается позже поглощен более общими утверждениями. Во всяком случае, в перспективе. В-третьих, если результат действительно хорош, то через некоторое время самому ученому он начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. И если в нем (результате) не усомнятся другие, то все, что останется от ваших усилий через 10–15 лет, – это так называемые «авторитарные ссылки». Нередко в научном тексте читаем: «Как описано у К. …» или «Еще X. показал, что…». Опытному глазу видно, что сам автор ни К., ни X. не читал, так что ссылки эти – не более чем ритуал. Да и вообще вовсе не обязательно читать К. или X., чтобы затем сообщить читателям некую банальность. Это и есть авторитарные ссылки.
Авторитет – вещь приятная, пока его используют по назначению. Здесь у меня есть достаточный опыт. В ранний период моей жизни в науке (тогда я занималась применением статистических методов в лингвистике) ссылки на мои работы были многочисленны. Поначалу это мне весьма льстило. Постепенно я все чаще стала обнаруживать, что после слов «Как показано у Фрумкиной» следует какая-то несусветная чушь. Вначале это можно было отнести за счет эффекта «испорченного телефона»: сам автор меня не читал, а кто-то другой – читал, но не вполне понял и пересказал на свой манер. Довольно быстро эти ссылки превратились в формальность: если уж пишешь на данную тему, то соблюдай приличия. И что тут приятного – видеть свое имя поминаемым всуе?
Противопоставляя процесс и результат, я отнюдь не хочу сказать, что мне безразлично, куда приведет меня процесс – будет ли от моих усилий какой-то прок или все сделанное пойдет в корзину. Но мне несомненно повезло в том, что я рано поняла, что именно процесс – это житейские будни, а результат – только очень редкие праздники. Это спасло меня от надежд на легкий успех и сократило неизбежные для каждого исследователя периоды подавленности и опустошенности.
«Неволей, если не охотой…»
С проблемой отношений между процессом и результатом тесно связан, казалось бы, праздный, а на деле очень глубокий вопрос правда ли, что наука требует жертв?
Любопытны обстоятельства, при которых мне был преподан наглядный урок на эту тему. Я привыкла еще со школы, что много работать – это нормальное состояние. Однако как в школе, так и в университете объем работы был в основном задан извне. Вопрос о том, сколько же надо, сколько должно работать, возник, когда я стала сотрудником Института языкознания Академии наук. Наш шеф и учитель А. А. Реформатский предоставлял нам полную свободу. То, что своей работе можно было отдавать весь день, а не только вечер, как это приходилось делать многим в предшествующие годы, все мы воспринимали как подарок судьбы.
Бывали, однако, периоды, когда мне не очень ясно было, как двигаться дальше. Иногда просто хотелось взять с утра лыжи и закатиться куда-нибудь в лес. Да и вообще мне хотелось много разного: бродить по городу, когда цветут липы, праздновать масленицу, научиться печь пироги, читать романы по-английски и книги о постимпрессионизме по-французски. Всему этому я время от времени предавалась. Само собой, у меня была семья и соответствующие обязанности. Однако, если я по нескольку дней подряд не работала, то возникало какое-то странное ощущение провалов во времени и неясная досада.
Откуда-то явилось решение: садиться ежедневно за письменный стол в десять утра и сидеть до двух, вне зависимости от того, «получается» или нет. Если совершенно ничего не удавалось, я читала научную классику. В два часа я вставала из-за стола «с сознанием исполненного долга». Разумеется, я забывала о времени, если работа шла. К сожалению, хорошим здоровьем я не отличалась и если писала, то четыре машинописные страницы были пределом моих физических возможностей. Так прошло несколько лет, в течение которых я защитила кандидатскую диссертацию, написала книгу и несколько больших статей. Оказалось, что четыре-пять часов каждое утро без выходных – это не так уж и мало.
Весной 1964 года в Москву из Стокгольма приехал мой знакомый Ларс Эрнстер, биохимик с мировым именем. Ему тогда было сорок четыре года. В одну из наших встреч он поинтересовался моей зарплатой и был поражен ее мизерностью. Я же спросила его, что он любит читать, и, в свою очередь, была поражена ответом. «Знаете, – сказал он, – после четырнадцати часов за микроскопом…» Оказалось, что это его норма и что даже в воскресенье он часто заезжает в свою лабораторию. А сколько я работаю? Услышав, что часа четыре-пять, но тоже без выходных, он ответил мне репликой, которую я запомнила буквально: «Да вы даже своей грошовой зарплаты не заслуживаете!» Зарплата, конечно, была ни при чем. Просто моему собеседнику сама ситуация показалась абсурдной: если молодая женщина работает так мало, то ее место вовсе не в науке. В таком случае, зачем же себя мучить?
Но я отнюдь не мучила себя. Напротив того, я испытывала от своих занятий совершенно непосредственное удовольствие!
Следующая наша встреча произошла через 26 лет в его доме в Стокгольме. Я сказала: «Ну, теперь я тоже… правда, не четырнадцать, но иногда десять». А он ответил: «Ты извини, я должен после ужина хотя бы часов до трех (ночи – Р. Ф.) поработать». Мой друг был экспериментатором. Поэтому для него так же необходимо и естественно было работать 14 часов, как для меня в свое время – пять. Эксперимент не может идти быстрее, чем это позволяет природа вещей. Так что когда и я стала экспериментатором, то оказалось, что сколько ни работай – все мало. Те же, кто не связан с экспериментальными процедурами, обычно работают меньше – если, разумеется, учитывать лишь время, проведенное за письменным столом.
Беллетристы любят писать о том, как решение задачи приходило к великим ученым в самые неожиданные моменты – во сне или за картами. О невеликих не принято писать, а зря. Ведь вопрос не в том, каков масштаб задачи, решение которой является человеку, когда он, например, едет в автобусе. Важно, что для серьезного исследователя жизнь концентрируется вокруг поиска решения. В такие периоды мысль вовсе не переходит на иные предметы и после того, как ты встал из-за стола. Сосредоточенность на своей проблеме существует как бы сама по себе. Все остальное пребывает на втором плане. В этом смысле я не думаю, что занятия наукой требуют от ученого особых жертв. Не вернее ли сказать, что наука почти всегда требует жертв не от самих ученых, которым она приносит столько радостей, а от других – главным образом от близких?
Женщины в науке
Более всего афоризм о жертвах соответствует ситуации, когда науке посвящает себя женщина. (Может быть, это касается не только науки, но вообще всех творческих профессий, однако пусть художницы и балерины скажут о себе сами.) Дело здесь не только в трудностях нашего быта. Более важной мне представляется неизбежная коллизия в иерархии ценностей, возникающая из противопоставления семья – наука. Правда, поняла я это очень поздно, в силу чего много лет мучилась от очевидной бессмысленности выбора между домом и работой.
Вера в возможность гармонии поддерживалась тем, что вокруг меня преобладали именно те женщины, которые выбрали науку, а они не склонны были распространяться по поводу того, чего это им стоило. И уж вовсе было бы странно ожидать признаний в том, что выбор этот не оправдал себя.
Вспоминаю разговор по телефону, случайным слушателем которого я оказалась. Моя коллега уезжала в фольклорную экспедицию и с целью одолжить резиновые сапоги звонила по очереди многочисленным знакомым. Для меня ее реплики сливались в неясный шум, пока не возникло настойчивое повторение фразы: «Так все-таки тридцать восемь или тридцать девять?» По моим понятиям, у нее был другой, меньший размер обуви. Когда она положила трубку, я узнала, что 38 или 39 – это не про сапоги, а про то, что у трехлетнего сына ангина. В тот же день сапоги нашлись, и она уехала, отвезя ребенка к бабушке. Это была заурядная экспедиция и заурядная ангина.
У меня, скорее всего, не хватило бы решимости считать ангину заурядной. А если бы я ехала не в экспедицию на Урал, а с докладом в Оксфорд?..
Как бы там ни было, я откровенно завидовала тем, кому, на мой взгляд, подобный внутренний разлад не угрожал.
На самом деле за свою жизнь я видела не так много женщин, которые могли сочетать роль матери и хозяйки дома с серьезным научным творчеством. В действительности они сделали определенный выбор – и это был выбор в пользу науки, а не семьи. Последствия экзистенциального выбора в подобных случаях обычно представляются как прискорбная, но неизбежная бытовая неустроенность, а кулинария и тряпки – как малодостойная внимания тема.
Наш все еще вполне советский убогий быт, при всей его чудовищности, лишь обостряет конфликт, тем самым затушевывая его сущность. Последняя обнажается именно на фоне западного благополучия. Однажды на симпозиуме по психологии в Берлине я встретила молодую элегантную женщину, которая в свои тридцать четыре года уже была профессором одного знаменитого немецкого университета. При безупречной светскости в ней чувствовалась некая постоянная нервная напряженность. Уехала она внезапно, даже не появившись на традиционной прощальной вечеринке. В связи с чем я и поинтересовалась, есть ли у фрау профессор семья. Моя собеседница – недавняя студентка – поразилась абсурдности моего вопроса: о какой семье может идти речь? Разве не очевидно, что фрау профессор сделала иной выбор?
Свидетельства конфликта ценностей оставили, естественно, именно те, кто добился немалых успехов. Например, известный математик и писательница Е. С. Вентцель, мать троих детей, в одном из своих рассказов призналась, что у нее всегда страдал дом.
Наука как массовая профессия
Одно из самых счастливых состояний, пережитых мною, – это проснуться весной в шесть утра, потихоньку вытащить машинку на нашу шестиметровую кухню и сесть писать. И уж совсем прекрасно было в июне, на даче, устроиться, как только рассветет, за старым садовым столом под зацветающими жасминами и работать до отупения.
Процитирую еще раз Л. Я. Гинзбург: «Человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедает любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья – решительно все. То есть все это при известных условиях может перестать быть целеустремлением, – но только не собственное творчество» (курсив мой – Р. Ф.). «Надоесть» здесь значит именно перестать быть целеустремлением, а вовсе не опротиветь.
Разумеется, сказанное справедливо не для одних лишь ученых – судя по контексту эссе «Неудачник», откуда взяты эти строки, имеются в виду вообще те, кто занят творчеством. «Целеустремление», вероятно, не обязательно, если просто работать от сих и до сих, рассматривая науку как службу. Но тогда не стоит и ждать от нее особых радостей. Служба не только может надоесть, но, я думаю, непременно надоедает всякому нормальному человеку. С некоторого времени, однако, в науке прочно и комфортабельно обосновался именно человек на службе.
Мое поколение гуманитариев – это появившиеся на свет в начале тридцатых и пришедшие в науку в конце пятидесятых. Обстоятельства позволили нам достаточно рано заявить о своей самостоятельности. У тех, кто был более общителен, вскоре появились ученики. Сами мы все еще имели счастье близкого общения с ныне уже легендарным поколением – людьми, родившимися в 1890 – 1900-е годы. Мы видели в них высокий образец, которому хотели бы следовать в меру своих возможностей. То, что мы так хотели быть похожими на наших мэтров и их круг, объяснимо: это был знак приобщенности к миру безусловных высших ценностей. Еще бы: для них ОПОЯЗ и Московский Лингвистический кружок были естественной средой обитания, а не чем-то, о чем можно узнать из энциклопедии.
Когда я читаю в «Рассказах об Ахматовой» Анатолия Наймана, что героями ее разговоров были именно Коля, Осип, Боря, а не Н. С. Гумилев или Б. Л. Пастернак, то вспоминаю, что и мне доводилось слышать об Андрее (великий математик А. Н. Колмогоров), Роме (знаменитый лингвист Роман Якобсон) и Колюше (Н. И. Тимофеев-Ресовский, известный широкому читателю как легендарный «Зубр» из романа Д. Гранина). Всем им я была в свое время достаточно буднично представлена. Это мне вовсе не льстило, а скорее страшило как знак доверия, выданный авансом неизвестно за какие доблести. Щедрость наших учителей позволила нам подключиться к тому ценностному слою, который был обеспечен золотым запасом научного и жизненного опыта этого поколения.
Л. Я. Гинзбург, вспоминая о сложностях отношений со своими учителями – с Эйхенбаумом, Тыняновым, Шкловским, – называет себя и своих товарищей «жестокими учениками». Имеется в виду ранняя научная самостоятельность и неизбежный в таких случаях бунт против старшего поколения – неважно, в каких именно формах.
Пожалуй, я бы предпочла видеть своих учеников «жестокими» в указанном смысле, нежели обнаружить, что они, будучи дружелюбны и даже сердечны по отношению ко мне самой, равнодушны к моим ценностям. Первое поколение моих учеников – это те, кто получил диплом ближе к концу шестидесятых. В это время наука в СССР стала массовой профессией. Научный бум быстро вышел далеко за пределы математики, физики и структурной лингвистики. Вполне закономерно, что наряду с энтузиастами, которым была нужна наука ради нее самой, в науку пришли случайные люди. Сами о себе они этого чаще всего не знали. Занятия наукой представлялись им – тоже не вполне осознанно – как такая деятельность, где ценой не слишком больших усилий можно совершенно законным образом получить большие результаты (эта мифологема оказалась чрезвычайно живучей).
Для менее честолюбивых работать в науке значило «интересно жить». Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что понятие «интересная жизнь» вовсе не было связано с научной работой как таковой, а лишь с социальным престижем науки, в чем бы он ни выражался. Для третьих вообще интересная жизнь начиналась тогда, когда рабочий день прерывался для чаепития, а еще лучше – заканчивался.
Впрочем, нескончаемое чаепитие – непременный атрибут быта любого советского учреждения. И все же работники Госбанка или какого-нибудь министерства никак не могли рассчитывать на то, что в конце рабочего дня к ним придет читать лекцию сам Аверинцев! Или что они будут из тех немногих, кто увидит только что смонтированный фильм Иоселиани «Пастораль» и самого режиссера в придачу. А вот сотрудники Центрального экономико-математического института или любого другого научного учреждения с добротным названием и активной культкомиссией имели такие возможности более или менее регулярно. «Научная работа» для многих лишь заполняла промежутки между капустниками, встречами с художниками и турпоходами.
Здесь я предвижу недоумение читателя: стоит ли вообще говорить о занятиях и лицах, для науки случайных? Конечно, применительно к каждому отдельному человеку сказанное можно считать случайностью. Но то, что с определенного момента в нашей гуманитарной науке (впрочем, и в других тоже) стали количественно преобладать обычные служащие – это уже было закономерностью.
Справедливости ради скажу, что отрицательный эффект пришествия масс в науку наблюдался и в научном сообществе в США как следствие бума в прикладной науке во время второй мировой войны. В автобиографической книге Н. Винера «Я – математик» (1956) читаем: «В результате молодые люди вместо того, чтобы готовиться к долгому и трудному пути, жили с легким сердцем, не беспокоясь о завтрашнем дне… Дисциплина и тяжелый труд были для них не обязательны, и надежды, которые они подавали, расценивались ими как уже исполненные обещания».
Ярко талантливых людей мало в любой среде, и наука – не исключение. Однако, в отличие от искусства, в современной науке отсутствие яркого таланта вовсе не обрекает человека на прозябание. В сложной структуре, которую сегодня являет собой научное сообщество, может найти место каждый – если он любопытен и добросовестен. Но для того, чтобы получать от научных занятий подлинную радость, надо прежде всего любить эти занятия как времяпрепровождение.
Ближайшую аналогию я вижу в том особом удовольствии, которое я получала, когда пела в хоре. Любой из хористов при весьма скромных вокальных возможностях может способствовать чудесам, которые рождаются каждый раз заново, притом здесь и сейчас. Всякий хор требует от своих участников музыкальности, самоотдачи и чувства ансамбля. В этом смысле любительский хор должен быть профессионален. Наука не бывает любительской, если под любительством понимать размытость критерия качества. Вкус в науке – тоже своего рода музыкальность. Если есть вкус, готовность к самоотдаче и чувство ансамбля, то интеллектуальные усилия порождают азарт и приносят совершенно непосредственную радость даже скромному исполнителю. Надо лишь понять, что установка на процесс – вовсе не риторика для утешения неудачливых. Я уже говорила о том, что результат вообще случается не слишком часто. Желание иметь результат во что бы то ни стало – похвально, но у многих оно оборачивается стремлением иметь его поскорее. Отсюда – преждевременные надежды и отчаяние оттого, что они не исполняются.
Часто говорят о том, что отрицательный результат – тоже результат. Это справедливое утверждение на деле значимо только для узкого круга единомышленников, потому что только для них оно имеет практический смысл, а именно: искать дальше надо либо не там, либо не так.
Об ученом, который занимался разной проблематикой, но мало где достиг серьезных результатов, принято говорить: зачем же было так разбрасываться? Напротив того, когда в разных областях есть достойные результаты, это вызывает восхищение: как много разного человек успел сделать!
И почему-то никто не задумывается о том, что, может быть, еще больше можно было бы сделать, если бы соответствующие сферы интересов не были бы столь далеки друг от друга.
В целом, конечно, от ученого ждут именно результата. И все-таки оценка вклада ученого в науку его времени только на основании весомости полученных им результатов всегда неполна и поверхностна, даже если формально правильна. Для того чтобы наука могла быть естественным стилем жизни, нужна ценностная среда – другие люди, которые живут подобным же образом. Но «подобным же образом» – не означает «точно так же». Самый очевидный случай – это ученый, который не любит записывать свои размышления и результаты, довольствуясь тем, что рассказал о них, притом не обязательно в публичном докладе частная беседа с понимающим коллегой учеными этого типа ценится не меньше.
Таким человеком был мой учитель Владимир Николаевич Сидоров. О себе он часто говорил, что ленив писать. Писать он и в самом деле не любил, хотя если уж брался за перо, то писал так же, как мыслил, – блистательно и крупно.
Я думаю, что в науке эффективно работает тот, кто удачно сочетает упрямство с интуицией. Именно упрямство, а не одно лишь упорство. (Без упорства научная деятельность вообще не может состояться – равно как и профессиональная деятельность балерины или скрипача.) Интуиция нужна не только для «прозрений», но и в более прозаические моменты – например, чтобы бросить «копать» в момент, когда кругом уже готовы тебя поздравить. Один раз я это сделала, хотя мне самой это было тяжело, а со стороны выглядело просто необъяснимо. В иных случаях я все копала и копала, и мне даже показалось, что я нашла. Да и другим показалось то же самое. То, что я не там копала, мне стало понятно лишь спустя несколько лет. Упрямства мне хватало, а интуиции – далеко не всегда.








