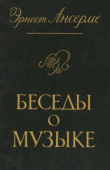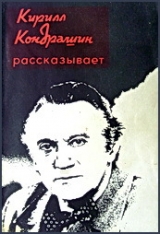
Текст книги "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"
Автор книги: Ражников Григорьевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Я уже знал, что если в пять минут второго нас не будет, то он начнет бегать, звонить в больницу. Мало ли что могло случиться. Пунктуальность его была просто удивительна. Сам он ни разу в жизни никуда не опоздал.
В. Р. Ваши отношения с ним укрепились?
К. К. Да. Но о случае с Максимом я расскажу. Я об этом написал, не знаю пойдет ли…
Был один момент, когда тучки над нами пробежали, несмотря на то, что я его, конечно, боготворил.
Это было в 1966 году, когда я был председателем жюри Второго конкурса дирижеров. Для меня, как председателя, он был первым, через 32 года после предыдущего конкурса.
Там участвовал сын Шостаковича, Максим. Но были сильные конкуренты, из числа тех, кто стал лауреатами. Это своим порядком, но кроме них там были еще интересные люди.
Три тура. На второй тур Максим прошел довольно легко. Но когда возник вопрос о третьем туре, где только шесть участников и шесть призеров, для меня стало ясно, что Максим далеко не из лучших и что он еще не тянет на шестерку. Это мне стоило многих бессонных ночей, и я для себя должен был решить, как себя вести. Будь я просто членом жюри, я бы проголосовал, как нашел бы нужным, или воздержался бы в высказывании. Но как председатель я обязан свое мнение высказать. Я высказывался о каждом. Я все время советовался со своими друзьями (Рабиновичем, Грикуровым, Раисой Глезер). Они со мной соглашались. И наше мнение было таким: Максим с его фамилией все равно сделает карьеру. Здесь ему лауреатство не нужно. Но он отнимет место у кого-то более достойного на сегодняшний день. Он слабее многих других.
Я все-таки решился на разговор с членами жюри. Разговаривал с Кара Караевым. Вот что он сказал:
– Кирилл Петрович, Вы абсолютно правы. Но я боготворю Дмитрия Дмитриевича. Знаю, как он болезненно относится к Максиму, и я не могу на него поднять руку и поэтому не поддержу Вас.
На заключительном заседании жюри решался вопрос лауреатства. По-моему, была 25-балльная система. Чтобы пройти на третий тур, нужно набрать не менее 20 баллов. Я выступил и сказал то, что думал. Меня кто-то поддержал. Но Кара Караев возражал, а с ним и другие члены жюри. В общем, Максим по баллам прошел на третий тур чуть ли не последним.
На следующий день я с утра пошел к Дмитрию Дмитриевичу, потому что знал, что ему сейчас же передадут все в искаженном виде.
– Дмитрий Дмитриевич, я хочу поговорить с Вами, разрешите? По поводу Максима.
Он меня встретил, может быть, он знал, а может нет, но держался абсолютно корректно.
– Я выступал так-то и так-то и хочу Вам первым об этом сказать.
Дмитрий Дмитриевич нервничал. Чувствовалось, что этот разговор ему неприятен:
– Кирилл Петрович, я Вам очень благодарен, что Вы пришли и в лицо мне все сказали. Я очень ценю это, но я с Вами не согласен. Может быть, только Мансуров сильнее Максима. Из всех тех, кто там участвовал, он гораздо сильнее.
В. Р. Был ли он там, на конкурсе?
К. К. Был наверное, раз говорил. Когда выступал Максим, был точно.
– Но во всяком случае, я Вас очень прошу помочь Максиму советом, консультацией, как старший, как друг.
– Конечно, Дмитрий Дмитриевич.
Я был удручен, видя, как ему больно и подумал, что теперь все: приглашения, звонки раз в месяц, как было… Звонил он обычно раз в три недели:
– Кирилл Петрович, как вы живете?
– У меня все хорошо.
– У меня тоже все хорошо. Спасибо. До свидания.
Это он одаривал такими знаками внимания, но не очень многих. Это мог только Дмитрий Дмитриевич. А после нашего разговора он стал звонить мне через день. И так продолжалось примерно месяц – не хотел, чтобы я подумал, что он обиделся. Вот такой великой души был человек. Великий человек. Он оценил то, что я имел свое мнение и что я пришел.
Я довольно регулярно у него бывал. Он сам приглашал. Жаловался на свои недуги. Помню, мы сидели на веранде, он и говорит:
– Я не знаю, что делать, руки не действуют. Не могу. Я вот пишу и приходится левой рукой придерживать правую, прыгает перо, и ноги не ходят. А память еще ничего, сердце поправилось, желудок у меня здоров, зрение в порядке, а вот руки…
Он умер от рака легких. А болезнь? Видимо, это был какой-то вид полиомиелита. У него атрофировались конечности, было трудно ступеньку даже ступить. Когда исполняли его сочинение, он приходил в Большой зал, его поднимали на третий этаж лифтом, откуда, с трудом преодолевая двенадцать ступенек, страшно медленно спускался и, сидя уже в артистической, говорил, смущаясь:
– Если сочинение будет иметь успех, Вы уж не обижайтесь, я на эстраду не поднимусь, а подойду только к авансцене Мне очень трудно. А то все будут смотреть и жалеть, а этого я терпеть не могу.
Вот что я мог вспомнить о моем общении с Дмитрием Дмитриевичем. Может быть, у Вас есть какие-то вопросы?
В. Р. Вы во время его смерти были в Прибалтике? Как к этому отнеслись люди?
К К. Да, я был в Риге. Весть о его кончине была обставлена трагическими обстоятельствами. В Риге я отдыхал и дирижировал. Воскресный день, 10 сентября. Был назначен концерт, в котором исполнялась «Камаринская» Глинки. Гидон Кремер играл концерт Сибелиуса и Десятую симфонию Шостаковича. Утром я репетирую, подходит арфистка Марина Смирнова:
– Кирилл Петрович, два слова.
– Что такое?
– Говорят, звонили Петрову из Ленинграда (он там отдыхал в это время), скончался Дмитрий Дмитриевич.
– Когда? Вчера вечером.
Я сейчас же остановил репетицию. Бросился звонить. Воскресенье, никого нигде нет. Сейчас же разыскал директора филармонии:
– Разыскивайте министра культуры, пусть он по «вертушке» звонит в Москву. В Министерстве культуры должен быть какой-то дежурный обязательно, который скажет, так это или не так. Мы должны знать, как реагировать вечером. Шостакович умер, а мы «Камаринскую» будем играть? Тем более, западное радио, как говорят, уже сообщило.
Через час мне директор и сообщает:
– Звонил представитель в Москву, подтвердилось.
– Когда похороны?
– Неизвестно.
– Тогда сегодня «Камаринскую» играть не будем. Разрешите, я скажу публике об этом.
Вечером аншлаг. Много народу, праздничное настроение. Мало кто предполагал… Хотя музыканты знали, и те, кто слушал западное радио, знали, но… Я вышел на аплодисменты, поднял руки и сказал:
– Дорогие товарищи! Должен вас огорчить. Прискорбно сообщаю, что вчера вечером, в семь часов, скончался величайший композитор современности – Дмитрий Дмитриевич Шостакович.
В зале: «А-а-а!» И все вскочили без всякого предложения. Я выждал минуту и сказал:
– Надеюсь, вы не в претензии, что «Камаринскую» мы играть не будем.
Сыграли мы концерт Сибелиуса. Это прозвучало так трагически. Все играли великолепно. А перед вторым отделением я вышел снова.
– Дорогие товарищи! Я вас очень прошу, после окончания симфонии отказаться от аплодисментов.
Мы доиграли симфонию, после этого в полной тишине зал минуту постоял, и все разошлись.
На следующий день никакого сообщения в газете не было.
Только во вторник появляется некролог. Значит, похороны только в четверг, на пятый день после смерти.
И вот мы с Андреем Петровым (с билетами нам помогла филармония) полетели в Москву. Прилетели мы только в день похорон. С 11 часов гроб был выставлен в зале. Допуск всех с двенадцати. Мы опоздали, но зал был еще пуст.
Создали правительственную комиссию. Все было официально. Ни одного оркестра в Москве нет, все записи шли под фонограмму. Процежено все невероятно, через сито. Ирина Антоновна, его жена, требовала, чтобы исполнили Четырнадцатую симфонию «Смерть поэта» и заключение «Всевластна смерть». Ей удалось настоять, но все-таки «Всевластна смерть» отрезали. Исполняла Галина Вишневская. Это, конечно, нигде не объявлялось. Играли Пятую симфонию, Восьмую, Пассакалию, в общем, музыки звучало много…
Вдоль прохода стоял почетный караул курсантов – вышколенная публика. Они стояли часа четыре в положении «смирно». Мы с Кабалевским сидели у гроба.
Потом мы нашли начальника:
– Они там стоят уже пять часов, ведь в обморок упадут.
– Ничего, постоят. И стояли.
Он очень изменился, конечно. Гроб стоял пятый день в углу справа. Если подходить к гробу со стороны ног, – там сидели близкие и родные – рядов двенадцать. Были Хачатурян, Вайнберг, Борис Чайковский. Слева стояло несколько пустых лавок. Там же микрофон, приготовленный для траурного заседания.
Пустили публику. Надо сказать, я не ожидал такого наплыва. Это было летом, в Москве мало народу. Приходили какие-то старушки, крестили Шостаковича, били ему земные поклоны, появлялись какие-то старики.
Седобородый старик подошел с палкой, причем охрана не пустила туда, нужно было дойти до гроба и повернуть в первую дверь. У кого были цветы, тех пускали. Старик встал на колени и отбил земной поклон, так как у него не было цветов.
Один, очень яркой еврейской внешности человек, видно было, тоже хотел пройти, но его не пустили. Он толкнул кого-то в грудь и прошел. Прошел мимо караула, поднялся на ступеньки и встал у гроба. Минуты три он стоял и вглядывался в лицо. Затем сделал нерусский поклон и ушел. Видимо, от еврейского народа воздал «спасибо».
Примерно до двух часов шел поток, но все желающие так и не прошли. Улица Герцена была закрыта для движения. Там еще остался большой хвост желающих.
В. Р. Причем это не те люди, которых снимали с работы для статистики переживаний…
К. К. Здесь приходили от души. Прилетела небольшая делегация из Ленинграда. Потом началась панихида. Я сидел в первом ряду. Сзади меня было место, где сидят родные. Я постеснялся туда пойти. Со мной сидели Кабалевский, Хайкин. Потом Милентьев, министр культуры, попросил нас зайти налево, но мы не пошли. Я назвал это место эшафотом, потому что туда пустили тех, кто шел не по велению души, а по номенклатуре.
Панихида произвела на меня удручающее впечатление. Искренними были слова Свиридова. Но так как их отношения были настолько натянуты в последние годы, то его раскаяние сыграло против него, а не за. Он плакал. Неплохо сказал Родион Щедрин, единственный, кто помянул о том, что у Дмитрия Дмитриевича были неприятности, мягко говоря. Хренников, отметив, что жизнь Шостаковича была нелегкой, сказал, что на его долю выпало много тяжких испытаний, и самым тяжелым испытанием была его продолжительная болезнь. Остальные говорили так, что как будто всю жизнь Шостаковичу было только хорошо.
Хачатуряну предлагали перейти на эту сторону, потому что снимали кино, но он отказался и остался там, где сидел. При его любви к паблисити я это оцениваю как большой шаг.
На кладбище поехали почти все. Народу было тысячи две. Похоронили его через могилу от его первой жены – совпадение судьбы. Просто случайно там оказалось место.
После похорон Ирина Антоновна и Максим пригласили приехать к ним на дачу. Там было человек 80. Револь Бунин, кажется, сказал:
– Вот тут собрались истинные друзья Дмитрия Дмитриевича.
Поминки были действительно очень трогательными. К ним я раньше относился как-то с неприязнью, считал это иезуитским обычаем – все веселятся. А тут вдруг я почувствовал, что меня немножко отпустило, и все как-то немножко расслабились. Правда, на следующий день мне было очень плохо и даже потом, в Риге, у меня были сердечные припадки.
В. Р. Вы не выступали там, на официальных похоронах?
К. К. Нигде не выступал. Там все речи отфильтровывались давным-давно, пропускались через десять инстанций.
Вот так кончил жизнь Дмитрий Дмитриевич, чистый человек. Между прочим, характерная особенность: когда я стоял в почетном карауле с правой стороны, там, где сидят близкие, я видел на его сильно изменившемся лице скорбный оттенок. А когда я пересел налево, то увидел совершенно другое лицо, в нем была какая-то несвойственная Шостаковичу саркастическая ухмылка. Такое впечатление, будто он смеется, слушая речи, которые звучали.
Я не утерпел и сказал об этом своему соседу, Дмитрию Борисовичу Кабалевскому. Он ответил, что и у него такое же впечатление создалось.
В. Р. Что Вы можете сказать о его покаяниях?
К. К. Его покаяния носили характер просто формальный. Ну, писал «Песнь о лесах» по заказу. Ему нечего было есть в то время и нужно было писать то, что принесет деньги. И он писал. И все равно – это Шостакович. Он писал на какие-то ужасные тексты Долматовского… Они шли параллельно, демократическое направление более доступное, типа оперетты; были и не только неудачные сочинения, но и удачные. Фортепьянный концерт – отличное сочинение, хотя он очень прост, написан для детей. Параллельно он писал «Еврейские песни» и сложнейший Первый скрипичный концерт, который сейчас – классика, но в то время казался неслыханной вещью.
После постановления 1948 года он писал Десятую симфонию, которая тоже была встречена в штыки, – сложнейшая симфония. А сегодня мне она кажется ясной. Он вообще развивался.
На Западе считалось, что критика испортила его, что он стал писать «по заказу». Я совершенно с этим не согласен. Каждый великий композитор опрощается к концу своей жизни. Барток опростился и Хиндемит опростился, не говоря уж о Прокофьеве. И у Шостаковича это логично. Я процитирую Пастернака, тоже мученика:
Во всем грядущем разуверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Вот, действительно, эта «ересь» присуща всем великим, Шостаковичу тоже.
В. Р. Говорят, Дмитрий Дмитриевич все постановления носил с собой в кармане.
К. К. Не думаю. Чихал он на эти постановления. На словах он признавал и каялся.
В. Р. А Ваше отношение к Одиннадцатой и Двенадцатой симфониям?
К. К. Одиннадцатую я люблю, а Двенадцатая слишком формальна и плакатна. Хотя там отличная первая тема. Это тоже Шостакович. Это все равно язык Шостаковича. Музыкальное совершенство формы. По-видимому, по таким вещам о нем говорить трудно. Программная музыка его фантазию сковывала.
В. Р. Не считаете ли Вы, что оголтелая критика нашего нищенского типа убивает художника? Особенно музыканта. Он ведь утонченное существо!
К. К. К сожалению, из-за критики мы лишились многих гениальных опер, которых Шостакович не создал. Две оперы – это два направления, совершенно противоположных, но каждая из них потрясает. Он драматург был великий.
Но я Вам скажу, он не считал себя обязанным перед чиновниками. «Он слушал, но ел». Свое дело делал. Сочинял что-то в ящик, что-то на публику, что-то для денег – художник не может иначе. Кто-то хорошо рассказал. Когда был трудный период, после 1948 года, и нечего было делать, он встретил своих коллег, которые спросили:
– Дмитрий Дмитриевич, что Вы пишете?
– Я сейчас для фильма пишу музыку. Неприятно, что приходится это делать. Я вам это советую делать только в случае крайней нищеты, крайней нищеты.
Он часто подчеркивал ключевые слова.
О великих музыкантах
В. Р. А какие солисты и дирижеры, с которыми Вам пришлось встречаться, оказали на Вас большое влияние?
К. К. Начнем с пианистов. Если не считать наших Рихтера и Гилельса, то я бы мог назвать двух гигантов. Они совершенно разные, но необычайно интересные.
Я не знаю, как играет сейчас Артур Рубинштейн. Ему теперь уже более 90 лет. Мы с ним выступали лет восемь назад. Он в апостольском возрасте. Мне говорили, что он скрывает свой возраст. Во всяком случае – светлейшая голова, знание множества языков и чистый разговор по-русски. Восторженность необыкновенная. О музыке он говорит взахлеб. Сейчас же садится играть. С какой-то детской непосредственностью. Необычайно простая фразировка. Вот когда он играл Шопена, я понял, что Шопена надо играть так. Он играет то, что написано в нотах, и не больше. Получается великая музыка. Никакой отсебятины, никаких таких дурновкусных рубато, замедлений и декадансов – все просто, благородно. Мы с ним играли Шопена, когда он приезжал в Советский Союз. После этого мы с ним встретились в Париже. Как раз я отлично помню этот концерт. Это было в 1963 году, в один из ноябрьских дней, когда перед началом концерта вышел распорядитель и сказал, что вчера убили президента Кеннеди. Все встали. После этого мы с ним играли Второй концерт Брамса.
Второй пианист – это Бенедетти Микеланджели. Причем надо сказать – они совершенно разные. Рубинштейн необыкновенно романтичен, даже несколько экзальтирован, но это только во внешнем его поведении. Игра его академичная и теплая. Он поэт в музыке. А Бенедетти Микеланджели сидит как истукан. Каменное лицо, ничего не выражающее. Но играет! Такая продуманность, такой вкус. Мы с ним играли Четвертый концерт Бетховена. Я там вдруг «услышал», как встречаются чередующиеся в хроматической гамме триоли с квартолями. Нужно уложить определенное количество нот в этом такте. Как это было необыкновенно отработано! Вот это – триоль, а это – квартоль. Совершенно точно. Ясно и наполнено глубочайшим смыслом.
Очень любопытно, как он готовился к концерту. Мы с ним утром репетировали. Он очень требователен и очень корректен. Он точно знал, что ему нужно. Если ты это сделал, то уже никаких придирок нет. Бывают такие солисты, которые себя желают утвердить. Он сидит и слушает тутти, которое вы сыграли, и говорит: «Прошу вас сыграть еще раз». – «Что было плохо?» – «Я хочу еще раз послушать!» Слушает. «Вы знаете, вот тут скрипки нечисто играют». – «Я не слыхал». – «Ну давайте еще раз».
В. Р. Это, очевидно, наш артист…
К. К. Это было с Гилельсом в начале конца нашей дружбы: желание самоутвердиться – вот, мол, меня это не устраивает, как бы вы ни играли, я все равно лучше. Это мне очень не понравилось.
А вот Микеланджели знает, что нужно (Рихтер, кстати, тоже), и когда вы сделали, он к этому уже не возвращается. А после репетиции приходил Богино, и они начинали колдовать над роялем. На этот день все остальные занятия в зале отменялись, репетиции кончались в час дня, концерт начинается в полвосьмого. Я прихожу в четверть восьмого, они еще на эстраде, и Микеланджели еще пробует найти вот «эту» ноту, а ее нет. Все в панике: надо еще идти в гостиницу переодеваться, машина его ждет. Наконец, он неохотно покидает эстраду. Быстро ставят оркестр. Через 10 минут он уже входит во фраке и играет как бог.
Это говорит о том, что он может «заводиться» от музыки с полуоборота, то есть он услышал звуки музыки и уже включен. Молниеносно. Это очень редкое качество. Я это качество встречал редко – у Ростроповича, скажем…
Я подумал о Рихтере в этом смысле, но потом понял, что я неправ. Как раз Рихтер долго готовится.
В. Р. Вы рассказывали, что он приходит за пять минут.
К. К. Да. Но один гуляет по Москве или где-то там в Риге, по взморью. Он не может ни с кем общаться, должен вынести в себе вот эту музыку. А Микеланджели работает, сидит…
Из скрипачей наибольшее впечатление на меня произвел Исаак Стерн.
В. Р. Кирилл Петрович, извините, нельзя ли еще о Микеланджели? Много ли Вы с ним выступали?
К. К. Я с ним играл только два сочинения. Он играл Симфонические вариации Франка и, если мне не изменяет память, Пятый концерт Бетховена. Все было совершенно по-разному и все необыкновенно благородно. Туше отработано просто идеально. Я понял, почему ему нужен идеальный инструмент. Потому что он должен быть уверен, что будет то качество, тот тембр, та сила, которые ему нужны. Абсолютно ничего итальянского, никакого легкомыслия в его отношении к музыке нет. Он отменяет концерты без конца, потому что себя чувствует в недостаточно хорошем состоянии, и платит колоссальные неустойки. Говорят, он просто разорен. Он – раб настроения. Когда он играет, он может играть только хорошо. Это мне говорили те люди, которые с ним встречались часто.
В. Р. Говорят, что он играет без изменений. Когда повторяет концерты, то ничего не изменяет в произведении.
К. К. Абсолютно точно. То, что он делал на репетиции, – это все было выверено и идеально повторено на концерте. Причем и на репетиции и на концерте это было с полным одухотворением, что называется. Не просто формально – темпово.
Я не заметил изменений. Может быть, через год он сыграет этот концерт иначе. Но тут чувствуется скрупулезная домашняя работа, многочасовая.
Что еще сказать о нем? Однажды после его концерта Арам Ильич Хачатурян пригласил к себе в дом меня с женой, были еще Карэн и переводчица. Было роскошное застолье – Микеланджели немножечко растаял, а так он очень сух, очень сдержан, молчалив. Зашел разговор с ним о том, о сем, и Хачатурян спросил его, о чем он мечтает больше всего? Он говорит: «Я мечтал бы открыть маленький ресторанчик. Я очень люблю готовить. Вот если бы у меня были бы деньги, то я купил бы в деревне маленький дом, оборудовал бы ресторан на четыре столика и с удовольствием обслуживал сам посетителей», – «Вы бы приглашали туда своих друзей?» – «У меня нет друзей», – сказал он с улыбкой. Может быть это и кокетство какое-то, но едва ли…
…Исаак Стерн совершил революцию по отношению к скрипке. До Стерна, еще до войны, приезжал Яша Хейфец. Я помню его выступление, и его помнят все старшее поколение наших музыкантов. Он совершенно убил нас феноменальным звуком, необычайной мощности и красоты. Когда он играет в финале Концерта Брамса октавы, которые потом повторяет весь оркестр, то его октавы звучат сильнее, чем первые и вторые скрипки вместе взятые, – лавина обрушивалась на вас необыкновенная. Рассказывают, что он себя вел не очень деликатно. Дирижировал тогда Александр Иванович Орлов, почтенный, отлично аккомпанирующий человек, все знающий, с громадным авторитетом. Он захотел встретиться с Хейфецем до оркестровой репетиции. Тот назначил ему прийти к нему в номер в «Метрополь». Орлов пришел. Его встретил секретарь и сказал: «Господин Хейфец чувствует себя не очень хорошо. Он поручил мне сыграть концерт, и я вам покажу все, что он делает. Я – тоже скрипач…»
И Орлов слушал, а я считаю – зря. Я бы сказал: «Хорошо, когда господин Хейфец выздоровеет, я послушаю, как он играет сам». Он был очень заносчив. Такое чувство величия. Я с ним встречался лично, сравнительно недавно. Он уже закончил свою концертную деятельность, не потому что он не может играть, а потому что ему незачем играть: у него столько денег и такие большие налоги, что ему невыгодно играть. Он купил себе остров около Лос-Анджелеса и, кажется, он делает одну пластинку в год просто для удовольствия. Я его встретил у Пятигорского.
В. Р. Вы встречались с Пятигорским?
К. К. Да, он пригласил меня к себе в дом. Мы с ним не играли, но встречались в Лос-Анджелесе. Русский дом. Говорят по-русски. Там был Байрон Джайнис – тоже очень интересный пианист, относительно молодой, с супругой, а супруга – дочь, кажется, знаменитого Гарри Купера, киноактера-звезды 40-х годов. Значит, Пятигорский с супругой и Яша Хейфец. Очень мрачно себя держал. Мы болтали, а он ни слова не сказал.
В. Р. Они говорят по-русски?
К. К. Они абсолютно все говорят по-русски. Потом очень сухо простился и уехал на своем роскошном «ролс-ройсе». В общем, произвел не очень приятное впечатление. Может быть, это черта характера, но он не коммуникабелен. А Пятигорский – тот душа нараспашку, страшно любопытен, много рассказывает и с юмором. Ему около семидесяти… Он великолепно рассказывал, как он встретился с Энеску в конце его жизни. Энеску страдал туберкулезом спинного мозга. Он ходил почти скрючившись, то есть смотрел в землю и не мог даже поднять головы. У Пятигорского рост около двух метров. «Он хочет со мной поговорить, а я не знаю, что делать, – рассказывал Пятигорский. – Нагнуться – тогда он обидится, встать на колени, тогда он увидит мое лицо. У меня было очень трудное положение и я тогда, как-то скрючившись, все-таки разговаривал…» Он очень комично это показывал, но с полным уважением к Энеску…
В. Р. Вы когда-нибудь с ним играли?
К. К. Нет, никогда не играл, даже не слышал, как он играет. Просто слушал пластинки, и вот такая личная приятная встреча.
…Почему я начал с Хейфеца. Он ошеломил всех звуком и такой мощью технической оснащенности. Он был в расцвете. Сыграл три концерта: Брамса, Мендельсона и Чайковского. Все три концерта игрались одинаковым звуком. И то, что было хорошо в Брамсе, уже в Чайковском не очень подходило, а Мендельсону было вообще противопоказано – жирный вибрирующий мощный тон для Мендельсона совершенно не подходит. Но все были в полном восторге, и Хейфец оказал сильное влияние на многих наших скрипачей, в том числе на Леонида Когана, который в его манере играет, в смысле напора…
И вот приехал Стерн, который даже тогда не особо был известен (это было в начале 60-х годов), и показал, как может скрипка звучать совершенно по-разному. Он играет Гайдна – это одна вибрация, у Чайковского – другая вибрация. Он играет Брамса близко к Хейфецу, но с особыми интересными приемами. Скажем, там есть заключительная партия, по-моему, октава, увеличенная секста, которая переходит в октаву: фа-бекар – ре-диез – в ми – ми. И Стерн этой четверти тоновой интонацией расширял увеличенную сексту. Совершенно мучительная интонация, и когда разрешалась она в октаву, чувствовалось то страдание, которое приводит к облегчению. Просто впечатление фальши, но необыкновенной совершенно выразительности. Тогда я понял, что все меняется, и, кроме того, – степень вибрации, ведения смычка, в каждом… это просто были разные скрипачи. Вот эту трансформацию я ни у какого другого скрипача не слыхал. Давид Федорович Ойстрах был великим скрипачом, но играл все примерно одинаковыми приемами, но разную музыку по-разному. Леонид Коган – тоже скрипач очень сильный, крепчайший, но у него ближе к Хейфецевской школе, а вот – на Стерна… Я даже затрудняюсь назвать скрипача, который был бы на него похож. Ну, может быть, Олег Каган в какой-то степени, молодой… он очень хорошо играет разные стили, но сейчас ему давать аванс еще рано. Спиваков, например, – тот ближе к Хейфецу, такой импульсивный, моторный скрипач.
Да, Стерн оказал на меня определенное влияние. Причем мы с ним встречались несколько раз, и я помню первое его выступление. Когда он приезжал в 1956 году, я еще ему аккомпанировал; играли с Госоркестром. Госоркестр был тогда не в лучшей форме, и, в общем, мне сладить ансамбль не очень-то удавалось. Появилась почти разгромная рецензия в «Советской музыке», что концерт Мендельсона Госоркестр обязан сыграть без дирижера вместе с солистами, что они все время сзади и т. д. Я считаю, что виноват я. Стерн был не очень доволен. Я это чувствовал. Он был со мной холодноват. Через три года мы с ним встретились в Праге. Он там выступал в другом концерте, а я дирижировал в Пражской филармонии. Он пришел на второе отделение. Там был «Вальс» Равеля. Он прошел за кулисы и бросился меня целовать: «Как же я вас тогда-то не оценил. Какой же вы дирижер! Как вы великолепно чувствуете эту музыку и что вы сделали с оркестром! Я их знаю, они всегда снобы и не хотят играть…» То есть вдруг раскрылся полностью. С тех пор мы очень большие друзья. Я с ним эпизодически встречался в Италии и во многих других странах. Ну, в общем, он оказал сильное влияние на меня, на мое формирование. Это разностильность – разные эпохи…
В. Р. Вы упоминали об Игоре Стравинском. Нет ли у Вас желания оформить свои впечатления о нем?
К. К. Стравинский относится к великим людям. Мои встречи с ним? Вообще их было немного. Я с ним познакомился, когда он был в Москве в 1962 году. Он сидел на репетиции своих сочинений. Дирижировал Крафт. Очень охотно общался, к нему многие подсаживались. Подходили и Константин Иванов, и Шнеерсон, и я, и много композиторов – целая куча. Он с большим терпением рассказывал, как он считает нужным и что… останавливал оркестр и делал замечания. Крафт дирижер ужасный, конечно, оркестр играл с ним очень неохотно. Потом Стравинский дирижировал моим тогда оркестром, сценами из «Петрушки». Оркестр ему понравился, и он сказал: «Вы знаете, оркестр более гибкий, чем тот». Я ответил, что очень приятно это слышать. Министерство культуры ему устроило прием в «Национале». Там были Шостакович с супругой, я и, по-моему, Хачатурян и Фурцева со своими заместителями, – человек 8–10, не больше. Фурцева была в ударе, много разговаривала, рассказывала. Стравинский тоже.
В. Р. Что же могла рассказывать Фурцева?
К. К. Ну, анекдоты какие-то. Она могла быть обаятельной и даже очень…
И вот зашел разговор. Мол, как же так, Игорь Федорович, Вас считали антисоветчиком, а Вы так относитесь к нашей стране, и все такое. Он тогда сказал, что все то, что о нем писали, это враки. И если американские газеты писали мои оскорбления о Советском Союзе, так и они врали, что ему не все нравится, что у нас есть. «Но свой дом ругать, – добавил он, – я не позволю. Я его сам буду ругать там, где найду нужным, – у себя же дома». Мне запомнилась эта фраза – довольно умная. А вторая встреча произошла в Нью-Йорке, в 1966 году, когда проходил фестиваль Стравинского. Это был целый цикл концертов. Я там дирижировал «Пульчинеллу», первый акт, по-моему, «Фейерверк», потом аккомпанемент и потом, если не ошибаюсь, Каприччио, а во втором отделении «Петрушку». Стравинский – маленький сгорбленный человек в темных очках – приехал на второе отделение. Из зала он почти не выходил, ходил с палкой, ему трудно было ходить. «Петрушку» он прослушал, потом пришел за кулисы, расцеловал меня и сказал мне самый большой в моей жизни комплимент, который когда-нибудь я получал. Повторю его: «Вы великолепно чувствуете паузы». Мне было особенно приятно, потому что во многих случаях я паузу-то делал там, где он ее не предусматривал; я как бы заново лепил драматургию. Он мне написал очень трогательную надпись на титульном листе партитуры, я ее поставил под стекло и очень ею горжусь, потому что Стравинский обычно весьма сух на похвалы.
Да, вот еще о личностях музыкантов, которые оказали на меня большое влияние. Борис Покровский. Мы с ним начинали вместе в Большом театре. Он был еще молодым режиссером, только что приглашенным с периферии, я – молодой дирижер. Как только мы нашли друг друга, сразу стали ставить спектакли. Причем у него, с одной стороны, было больше опыта, а с другой – у меня было меньше тогда той настойчивости, которая потом оказалась продуктивной. В общем получалось так, что во всех спектаклях лидировал он, и я об этом не жалею. У него я научился многому: драматургической лепке, чувству сцены, умению сделать то, что нужно режиссеру. Это не значит, что я легко соглашался. Очень часто мы с ним на репетициях спорили. Я ему подсказывал то или иное, и он многое принимал. Но всегда получалось так, что сценическая интерпретация ярче музыкальной. Это, пожалуй, было до «Проданной невесты». А потом мы пошли на равных. Его отношение к опере я потом увидел у Фельзенштейна, у других крупных оперных режиссеров. Это то направление, которое резко противоречит итальянской безвкусице, связанной с необходимостью приглашения звезд. Все оперы идут на оригинальном языке. Мы в них ни черта не понимаем, смотрим в программки в антракте, а певцы поют кто на итальянском, а кто только думает, что он поет на итальянском. Вот когда я был в Чикаго, то по коридору проходя, услышал хор из «Бориса Годунова», но не могу понять, на каком языке они поют и долго стоял, пока какое-то созвучие не проскочило, похожее на русский… они думают, что они поют по-русски. Это, конечно, абсолютный бред, но каждый артист, если вы ему сделаете замечание, сейчас же скажет, что он идеально чисто произносит, занимался с тем-то и тем-то… Получается чушь, абракадабра, когда на разных языках поют. Я глубоко убежден (Фельзенштейн и Покровский тоже), что оперу надо давать на языке аудитории… плохо поют – делать лучше.