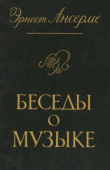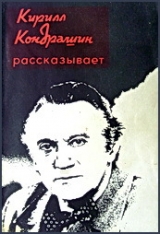
Текст книги "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"
Автор книги: Ражников Григорьевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
В. Р. Почему бессмысленно?
К. К. В коневодстве есть такое понятие «пробники». Чтобы кобылу подготовить, к ней пускают другого жеребца, не породистого, ибо она может лягнуть. А когда она уже готова, то пускают другого, которого нужно. Так и у нас в театре, было два вида певцов – «пробников». Скажем, на афише стоит Огнивцев, он спектакль согласен петь, но спевку не поет – он берет или грозится взять бюллетень, приходит, поет вполголоса. А когда Огнивцев на афише, то Петров его заменять не будет, он уже имеет бюллетень в кармане. Значит, наверняка, или будет петь Огнивцев, или Евгений Иванов, а иногда, если Евгений Иванов болен, тогда и спектакль отменяют.
Так вот, Огнивцев на спевки приходил и все время мурлыкал вполголоса.
– Александр Павлович, почему Вы поете вполголоса?
– Я плохо себя чувствую…
– Пропустим Ваши места…
Как только доходит хотя бы до одной его фразы, я говорю «стоп» и идем дальше. Спектакль поется. Проходит месяц, он снова на афише – опять спевка.
– Я нездоров.
Через два месяца снова такая же история. Чувствую, назревает скандал.
– Нездоровы – берите бюллетень. Почему Вы не поете в полный голос? Вы что думаете, что Вы идеально поете эту партию? Вы давитесь на верхах и на низах, Вам нужно тренировать эту партию, спевать ее.
Испугался. В зале сидят певцы, которые ждут своего вызова, – газеты зашуршали. Стал петь в полный голос. На следующий день он вспомнил, обиделся и притащил бюллетень. У Петрова уже давно есть бюллетень, Евгений Иванов тоже болен – значит, спектакль летит.
И был тогда Никандр Ханаев, милейший человек, он был заместителем директора по творческой линии. (По художественной линии в основном в заместители директора шли как-то все тенора. Кильчевский – был такой тенор, вот Ханаев, заведующий оперной труппой. Во всяком случае, по художественно-административной линии тенора котировались довольно высоко.) Он вызвал Огнивцева. А тот:
– Я говорил Кириллу Петровичу, что нездоров, а он меня заставил петь, и я накричался – теперь у меня несмыкание.
Ханаев стал его упрашивать:
– Мы с Кириллом Петровичем поговорим, он не будет так крут, мы понимаем и все…
Присутствуя при этом, я сгорал от стыда, и получалось, что меня еще и высекли – он сделал одолжение, плохо пел спектакль, но получил благодарность – запись в книгу. (Тогда были записи, как прошел спектакль. Режиссер и дирижер писали свои замечания, и я иногда позволял себе: «такая-то певица спела нечисто там-то и разошлась с оркестром, в ансамбле неверно пели и т. д.»)
Я был требовательным дирижером… Например, в «Проданной невесте», в третьем акте, – знаменитый секстет a cappella. Каждый раз помимо спевки мы в антракте третьего акта его проходили. Думаю, что певцы поэтому не так охотно со мной пели, что я не терпел расхлябанности и халтуры. И все эти конфликтные состояния привели меня к мысли о том, что мне пора развивать и усиливать симфоническую деятельность.
В. Р. Ваше отношение к Сталину в то время?
К. К. Конечно, я был убежденным и идейным сталинистом.
В партии с 1939 года. Год тяжелый, но как-то так получалось, что все прошло мимо меня, никто из моих родственников и даже близких друзей не были репрессированы. Какие-то звучали фамилии, но я близко их не знал. Я все принимал за чистую монету. Когда началась война, патриотический подъем у всех был связан с именем Сталина. Затем работа в Большом театре, частые его посещения и какая-то его благосклонность, которая мне была по молодости приятна… льстила. Я считал, что вообще каждый человек должен свою жизнь отдать за благосклонный взгляд этого человека. А впервые у меня лично зародилось сомнение в 1952 году, когда возникло это дело о врачах. Тут я подумал, что нельзя поверить в эту чушь.
В. Р. А все процессы, которые прошли тогда, в 30-х годах?
К. К. Я тогда не очень разбирался в этом. А эпоха космополитизма меня только насторожила, потому что мне казалось, как и всем, конечно, что из правильных положений делаются неверные выводы, перегибают палку. Надо сказать, что Сталина боготворили, как мне тогда казалось, 99 процентов нашего населения, и было очень мало людей, предполагающих, что он знает о репрессиях, которые совершаются. Так или иначе, просачивались какие-то разговоры, потому что одиночки возвращались. Кроме того, поголовные аресты после войны всех, бывших в плену, – это тоже, конечно, заставляло предполагать, что здесь какие-то злоупотребления. Но, естественно, тогда все это в основном адресовалось Берии, который на Сталина, по нашему мнению, имел большое влияние как его соотечественник. К тому же Сталин в последние годы жизни очень обособился (уже я рассказывал о каких-то приступах его ипохондрии). В театре он появлялся только один, никого не принимал и, как мне говорили, с секретарями ЦК разговаривал только по телефону; вход к нему имел только Берия. Якобы – это только слухи, – когда с ним случился инсульт, то целый день боялись войти в кабинет, потому что раньше были случаи, когда он стрелял в человека, который к нему входил, – ему казалось, что пришли покушаться на его жизнь.
В. Р. А степень его компетенции, ну скажем, в искусстве?
К. К. Конечно, у него были только семинаристские, старомодные взгляды. Он признавал только искусство понятное, доступное и мелодичное. Понятно, что ни Шостакович, ни Прокофьев не могли ему понравиться. Даже Мурадели он счел каким-то страшным леваком и формалистом. Хотя нельзя отказать ему в каком-то чутье. Случай с «Вражьей силой» достаточно показателен. Такое впечатление, что он читал протокол заседания – не было такого места, куда бы он не ткнул пальцем, а это именно то, что нас заставили изменить. Где-то, значит, какое-то ощущение сценической своеобразной правды (сценическая правда другая) в нем было. Но, с другой стороны, он следил, чтобы театру легко жилось – квартирные вопросы…
ЯР. Не было ли репрессий в Большом театре?
К. К. Таких мощных? Пропадали люди, люди первого положения. Известна, правда, в послевоенное время история с Жаданом, который пел у немцев, потом был привезен и осужден за измену. Головин, например… Какая-то темная история с убийством жены Мейерхольда, в которой то ли он, то ли сын его были замешаны. Дмитрий Головин – знаменитый баритон потрясающей красоты. Вероятно, у Титто Руффо был такой голос, потому что, когда он пел Мазепу и брал верхнее ля-бемоль, – звенели люстры, резонанс был потрясающий. Красивейшего тембра голос был… С металлом, не металлический. Вот он был репрессирован. Перед войной два или три человека – не больше. Вот Коровина была репрессирована. Она была артисткой Большого театра, не очень знаменитая. Ходят слухи и разговоры, за которые я поручиться не могу.
В. Р. Как Вам вручали Сталинские премии? Как это было? Как Вы приезжали туда? Происходило ли это с помпой?
К. К. …После того как прочтешь в газете, получаешь открытку с просьбой прислать номер вашего счета. Пересылают премии или причитающуюся часть. За спектакль там шесть или семь фамилий. Указанный первым получает треть, остальное делится поровну между остальными участниками. У нас первым был Покровский, я думаю, что в то время, особенно по «Вражьей силе», это было справедливо. «Проданная невеста», вероятно, тоже. Я думаю, что я не был достаточно зрел, чтобы быть выше его. Потом, через какое-то время, через месяц или недели через три, вас приглашают в Кремль и там в торжественной обстановке… Сейчас не могу вспомнить, кто мне вручал оба раза премию… кто был тогда председателем, по-моему, тот же Тихонов… Я не помню, кто мне тогда вручал, но очень хорошо помню, кто мне заменил.
В. Р. Заменил?..
К. К. После развенчания культа Сталина эти премии перестали быть Сталинскими и стали Государственными – выпустили новые знаки. Нужно было принести старые и получить новые удостоверения. Я пришел в музыкальный отдел по делам искусств, там помещался секретариат, управляющий делами Сталинского комитета. Сидит дама какая-то. Она посмотрела списочек, взяла мою медаль, медаль была дай бог – настоящего червонного золота: первой степени за «Вражью силу», второй – за «Проданную невесту» – и дала мне другие, раза в два легче и даже не поздравила, – ничего, просто сказала «следующий». Теперь у меня уцененные медали!
В. Р. Вы могли не являться?
К. К. Может быть, и мог… но они же мне прислали извещение, что вам надлежит заменить, но, в общем, тогда не очень хотелось эти знаки носить.
В. Р. Вы говорили, как одаривали певцов премиями и орденами. Соответствовало ли это их действительному значению? Были ли они известны, например, на Западе? Или только у нас?
К. К. В то время вообще заграница была полностью отрезана. Но вся страна их знала и соответственно преподносилось творчество народных артистов СССР. Были специальные передачи, и сам Самосуд много раздувал вокруг этого кадила, для того чтобы привлечь внимание к Большому театру.
В какой степени справедливо это было? Конечно, все носило произвольный характер. Например, Лемешев, который совершенно наравне был с Козловским, в сороковых годах имел лишь звание заслуженного артиста, а Козловский – народного СССР. Тогда звания были крайне редки. Звание «Народный артист СССР» до 1940 года имели только Нежданова, Станиславский и Немирович-Данченко. Потом навалились и МХАТ и Большой театр, и все стало девальвироваться. В ту буйную раздачу орденов и званий, о которой я говорил, Лемешев получил только орден «Знак Почета» – что-то против него имели; непонятно, кто и почему. Козловский отлынивал от работы, а Лемешев пел подряд многие спектакли…
В. Р. Как бы Вы предложили поступить в этой ситуации?
К. К. Эти вопросы не взвешиваемы, и поэтому самым лучшим путем было бы отменить все награды и звания. Звание заслуженного артиста давать престарелым артистам, уходящим на пенсию, на покой, чтобы человек мог получить более высокую пенсию и пользоваться уважением в домоуправлении, где он будет играть в домино…
В. Р. Относительно критики Шостаковича в 1936 году. Этот вопрос малоизвестен. Может быть, Вы прольете дополнительный свет?
К. К. Я, как и все, читал постановление. Спектакль «Леди Макбет» шел в Москве тогда уже в двух театрах. В Большой театр он был перенесен из Малого оперного театра. Дирижировал тогда Мелик-Пашаев – это было еще до Самосуда, в 1936 году. Но художник Дмитриев и режиссер Смолич сделали точную копию этого спектакля, я могу судить об этом, поскольку такой же спектакль шел в Ленинграде. Балетов Шостаковича я тогда не видел. Когда приехал в Ленинград, всё уже исчезло. Музыку я знаю и нахожу, что тогда Шостакович был… Это особое направление в его музыке, которое в общем потом развития не получило, но иногда проскальзывало.
Это так называемая «нарочитая банальность», роднящая его с Маяковским – высмеивание мещанства, оглупление его интонаций.
ДР. Это от Малера?..
К. К. Да, конечно, это прямая линия от Малера. Но здесь он питался нэпом, всей советской действительностью 20-х годов. Шостакович по психологии – комсомолец 20-х годов. Все противоречия его деятельности объясняются тем, что он формировался в те годы.
В. Р. Но критика обрушилась на него хамская?
К. К. Да, и спектакли сейчас же сняли. Я тогда был всего лишь студентом консерватории и ничего не могу припомнить. Помню только высказывания в прессе типа, что знатный токарь завода из Ростова-на-Дону говорит: «Я этой музыки не слыхал, но скажу…» Потом помню премьеру Пятой симфонии. Это было возрождение Шостаковича, до этого он только снял исполнение своей Четвертой симфонии, которая была потом восстановлена, а Пятая симфония как бы реабилитировала его…
Я хочу твердо сказать: мнения о том, что постановления испортили Шостаковича, не разделяю. Шостакович шел своим собственным путем и ничего не упрощал, кроме, может быть, специальных заданий – оперетта, «Песнь о лесах», которые были написаны специально более примитивным языком, и это не вершина его творчества. Другого я, пожалуй, ничего вспомнить не могу. Помню только, как все радовались, когда исполнялась Пятая симфония, что она получила всеобщее признание и понравилась самому высокому начальству. Шостаковича снова стали славить… После этого появилась Шестая симфония, о Седьмой нечего говорить… Хотя Шестая симфония со стороны критиков вызывала кое-какие нападки: необычная форма и очень много диссонансов. Но Седьмая симфония закрепила за ним славу Первого композитора Советского Союза (наряду с Прокофьевым, конечно).
В. Р. А вот капризы первачей и развращение молодежи, верноподанность музыкантов и артистов?.. Как Вы думаете – это вообще в природе музыкантов или была какая-то особая система оболванивания и подготовки?
К. К. После войны началось поголовное обучение всех артистов театра марксизму-ленинизму, причем на самом высоком уровне. При ЦДРИ (Центральный дом работников искусств) организовали университет, куда обязаны были ходить все. Народные артисты, облеченные самыми высокими титулами, превратились в школяров, сидели там, хлопали глазами. Ничего, конечно, не понимали, но надеялись на то, что им зачет все-таки поставят, учитывая их весомость в искусстве, – и не без оснований. Там бывали довольно забавные эпизоды. Скажем, проходит зачет. Выбирается вопросик какой-нибудь там попроще.
– Марк Осипович Рейзен, скажите, пожалуйста, в чем разница между буржуазной и социалистической революцией?
– …Буржуазная… социалистическая… Знаю. Спрашивайте дальше…
Особенно меня восхищал Василий Васильевич Небольсин, которому до марксизма было очень далеко. Он был фанатически набожным человеком, причем настолько набожным, что было даже смешно. Например, входя в оркестр (там у него имелся тамбур перед входом), ему отворял дверь служитель – впускал его и по требованию закрывал за ним дверь. Небольсин минуту не входил в оркестр, потому что там он перед каждым актом крестился. Мы с ним жили в одном доме, на разных этажах. Выходил он на третьем, если не ошибаюсь. Я всегда обращал внимание на то, что его квартира налево от лифта, а он идет направо и поднимается по лестнице, что совершенно было необъяснимо. И, наконец, я не утерпел и подглядел. Оказалось, что там он тоже крестится – благодарение, что он благополучно проехал на лифте три этажа. А когда мы ехали на спектакль (у меня спектакль в филиале, у него – в Большом театре), нам подают одну машину. И вот мы едем по Пушкинской площади, мимо памятника Пушкину. Он делает какое-то непонятное движение по голове, снимая шапку, как бы причесываясь, и в это время незаметно крестится.
Б. Р. Потому что на этом месте стоял когда-то Страстной монастырь?..
К. К. Да, очевидно… И вот Небольсин проявлял страшную активность в занятиях марксизмом-ленинизмом. Занятия вел у нас Скатерщиков, лекции у него были интересными, но на семинары все ходили крайне неохотно, потому что нужно было не слушать, а отвечать. Это происходило в парткоме, комната небольшая. Скатерщиков садился за стол секретаря, а все рассаживались подальше по стеночкам, и один Василий Васильевич Небольсин с большим портфелем придвигался поближе к столу, сидел напротив Скатерщикова и тщательно все записывал, что тот говорит. О, какие жанровые сценки! Скатерщикова кто-то о чем-то спросил, он ответил и добавил:
– Вот это имейте в виду, что подлинный марксист – это тот, кто доводит признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата.
– Позвольте это положение записать, – говорит Небольсин.
– Пишите. Подлинный марксист… диктатуры пролетариата.
– Диктатуры, пардон, чего?
Скатерщиков говорит, что в «Кратком курсе» об этом хорошо сказано. Спрашивает:
– У кого-нибудь есть «Краткий курс»?
– Да, у меня есть «Краткий курс», – и сразу достает. У всех усмешечка, а Скатерщиков ядовито говорит:
– У вас всегда есть «Краткий курс»?
– Да, вы знаете, обожаю «Краткий курс»!
И последний штрих. Я помню, когда он сдавал зачет, то Скатерщиков, наверное, думал – что бы попроще у него спросить, и спросил: «Как вы считаете, какова основная философская идея гетевского Фауста?» На что Небольсин немедленно ответил: «Расплата за продажу души!» Два года это продолжалось, потом все получили книжечки, что сдали зачеты.
Надо сказать, что Небольсин – фигура противоречивая. Сейчас его очень не хватает в Большом театре. Но это был высочайший профессионал. Он все знал. Имел очень хорошие, четкие руки, у него было ощущение ансамбля, и он хорошо аккомпанировал. Сейчас такого дирижера, который дирижировал бы все абсолютно и мог бы выручить любой спектакль без репетиции, нет. Приходится, конечно, это делать, но профессиональный уровень не тот. У Небольсина с этим было все в порядке. Но творческой инициативы он не имел. И он всегда гордился, что «Салтана» дирижирует, как Пазовский, а «Снегурочку» и «Хованщину», как Голованов. Конечно, вся «соль» растекалась, потому что это было подражательство. Он был еще композитором, сочинил несколько вещей и в каждом своем концерте играл свою симфоническую поэму, которая была написана в Куйбышеве во время эвакуации. Она называлась «От мрака к свету» (и музыканты сейчас же ее окрестили на свой манер, довольно хулиганский…).
В. Р. Кирилл Петрович, а как Вы отвечали по эстетике?
К. К. Я что-то учил, грыз гранит науки. Ко мне, как к молодому, относились строго, потому что я был, практически, единственным членом партии в этом семинаре…
Однако вернемся к моей деятельности в Большом театре.
В результате всех этих кризисных событий у меня стало зреть желание что-то менять в этой жизни. Техника у меня была уже наработана…
В. Р. В основном тогда Вы и начали славиться как аккомпаниатор…
К. К. Да, аккомпанировал я хорошо. Меня стали приглашать на концерты кому-то аккомпанировать, когда, скажем, Исаак Стерн приезжал. И Давид Федорович Ойстрах со мной делал концерты, и Святослав Рихтер – все они хотели играть со мной. Но это имело и оборотную сторону, потому что я в этих сольных концертах свою индивидуальность проявить не мог, а обязан был следовать чужой трактовке. В опере то же самое (но с другой стороны) – певцы настолько непрофессиональны, что сколько с ними ни занимайся на репетиции, на спектакле нужно за ними бегать. И получилось, что я начинал превращаться в какую-то аккомпанирующую машину. Я почувствовал, что реализовать свои оформившиеся к тому времени принципы в Большом театре не смогу – текучка оркестра бесконечная, постоянный нестандартный состав певцов, активная работа с плохими певцами по их инициативе и полное отсутствие желания работать с хорошими, постоянное мурлыканье спевок вполголоса, что приводило к конфликтам, когда я требовал, чтобы они пели в полный голос, – все это стало меня тяготить. Я стал подумывать об уходе из Большого театра. В то время это было неслыханно по безрассудству.
Когда я все же решился уйти и подал заявление (оно очень долго мариновалось в верхах, хотя со мной верхи не разговаривали), в театре все так растерялись, думали, что это несерьезно, что я чем-то обижен – может быть, мне подкинут тысчёнку, и все будет в порядке. Я встретил Самосуда, который уже давно был не при делах, не работал в театре:
– Я слышал, дорогой, что Вы уходите из Большого театра? Вы что, с ума сошли? Из Большого театра не уходят. В Большом театре или умирают или арестовывают…
– Я, наконец, все-таки решился.
В. Р. Был ли какой-нибудь толчок?
К. К. Толчка никакого не было. Ну, был косвенный штрих один… Он ничего не решил принципиально, просто мне было слегка обидно. Мелик-Пашаев – главный дирижер – спросил: что бы я хотел иметь из спектаклей еще? Я сказал, что мечтал подирижировать «Садко», что помню, как это делал Голованов и что Небольсин это делает не так, как должно! Ничего менять я не хочу, но мне бы хотелось вдохнуть новую жизнь в головановские традиции. Он сказал: «Ну хорошо, с Нового года вы будете дирижировать!» Это было объявлено всему театру. Но как только начался новый сезон, Небольсин сбегал куда-то (это его спектакль!) в ЦК, в высокие инстанции позвонил: «Что же вы обижаете!» – и все осталось за ним. Меня умыли. Тут я и решил – пора с этим делом кончать.
Отправился я в филармонию, к директору Белоцерковскому, проситься в Госоркестр. Правда, там атмосфера была накалена: не проходило ни одного производственного совещания Госоркестра, на котором бы Константина Иванова не стирали в порошок, говоря ему буквально в лицо, что он непрофессионален, что разваливает оркестр, что репертуар не растет, и он репетирует только для того, чтобы самому освоиться! Он отвечал, что это все происки, сейчас же бежал в высокие инстанции, и его там, как национального героя, великого русского народного артиста СССР, который дирижирует русский репертуар, сейчас же поддерживали. Хотя должен сказать, что потом, когда мы с ним вместе работали (я в своем оркестре, он – в своем), он вел себя весьма лояльно. Он вообще ни во что не вмешивался. И когда делили почести между оркестрами и что-то попадало оркестру Кондрашина в этом году, а в следующем году ему, он никаких скандалов не устраивал, в отличие от его последователя…
Тогда в Госоркестре была вакансия второго дирижера. Я пришел к Белоцерковскому:
– Вот, хочу уходить из Большого, не можете ли Вы меня взять на вакансию второго дирижера?
– Пришел бы ты ко мне на три дня раньше, это было бы решено. Только позавчера мы договорились с Аносовым, что будет он.
Это отец Геннадия Николаевича Рождественского, очень уважаемый музыкант, очень интересный. Он коренной москвич. Был редактором Радиокомитета, начал дирижировать еще в довоенные годы. Дирижер он был не очень сильный, но очень хороший педагог и музыкант. Он был мною уважаем, и я сказал, что этот вопрос снимается.
Но для меня не снимался, таким образом, вопрос: уходить или не уходить? И куда уходить? Я все-таки решил уйти из театра в Гастрольбюро. В то время Гастрольбюро заменяло все четыре сегодняшние организации – Госконцерт, Союзконцерт, Росконцерт и Москонцерт.
В. Р. И каждая такая контора имеет сотню сотрудников…
К. К. Не менее двухсот. А тогда там работало всего семь человек, и они же организовывали заграничные гастроли. Руководил этим Кисилевский, который имел громадный административный опыт. Конечно, заграничных гастролей не было таких обширных, как сейчас, тем не менее все было спокойно и легко. Все дела решались там на месте, в отличие от сегодняшнего дня, когда нужно пройти семь ступеней, пока кто-то скажет «да» или «нет», то есть передаст Вам «да» или «нет» тех, кто наверху.
Я пришел к Кисилевскому, сказал:
– Можете ли Вы мне гарантировать три концерта в месяц?
– Я могу гарантировать больше.
Три концерта в месяц мне давали то, что я получал в Большом театре. К тому же на периферии были тогда гастрольные надбавки.
Я пошел в Большой театр. Подтвердил свое заявление. Долго вопрос не решался. Директором был Чулаки. Я сказал ему:
– Михаил Иванович, я Вам подал три месяца назад заявление и до сих пор нет ответа. Кончается сезон…
– Очевидно, Вам нужно говорить с Михайловым, с министром. Я этот вопрос решить не могу.
– Я должен ему позвонить?
– Да.
Министр, Михаил Александрович Михайлов, старый комсомольский работник, с которым мы вместе организовывали фестивали в Будапеште и Праге. Тогда он работал в каком-то комитете. По молодости мы хорошо контактировали. Когда он вырос из комсомольского возраста, его назначили министром культуры. И тут проявилась его абсолютно демократическая сущность. Он не вмешивался ни в какие дела. Сейчас все вмешиваются.
Когда я ему позвонил, он спросил: «Вы действительно хотите уйти? Вы все обдумали?» – «Да». – «Ну, что же, я возражать не буду!»
И вскоре был издан приказ: «К. П. Кондрашина уволить согласно его собственному желанию». У меня была договоренность с Гастрольбюро, а при такой формулировке стаж прерывался. Я пришел к Целиковскому, управляющему учреждениями культуры Советского Союза. Он встретил меня с распростертыми объятиями, но сказал:
– Дорогой мой, подумайте, что Вы делаете? Вы же сошли с ума! Вы понимаете, в Большом театре правительственные концерты, а Вы оттуда уходите!
Я сказал, что у меня это решение неизменно, но я прошу изменить формулировку, перевести меня в Гастрольбюро.
– Хорошо, будет перевод. И я начал работать в Гастрольбюро.