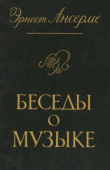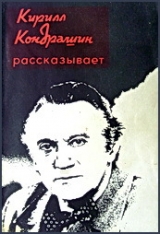
Текст книги "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"
Автор книги: Ражников Григорьевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Я беру переводчика, который с нами ездит: «Кирилл Петрович, я вас научу, что сказать, чтобы эти деньги выручить». И научил. Мы приходим и через переводчика начинаем разговор. Тот начинает крутить и вертеть: частями, мол, переведем в Советский Союз, то да се… «Одну минуточку. Я здесь не в первый раз, а в третий. И моя фамилия известна. Я каждый день даю пресс-конференции. И стандартный вопрос всегда: что мне нравится и что не нравится в Америке? Так вот теперь я знаю, что мне не нравится в Америке», – не вытерпев, сказал я. «Одну минуточку, я все-таки попробую что-нибудь сделать». Через пять минут чек лежал на столе. Как же они боятся такого паблисити! Конечно, сейчас же пресса организовала бы какую-нибудь сенсацию. Тоже любопытный штрих. Это уже другая, оборотная сторона капиталистического мира…
Главный дирижер оркестра Московской филармонии
В. Р. Как дальше обогащался Ваш симфонический опыт?
К. К. Я много работал с оркестрами на периферии до 1956 года. Выезжал в Ленинград, был в Киеве. Ни один оркестр не вызывал у меня раздражения. Мне было интересно работать и со слабыми оркестрами. Нужно было только почувствовать, что они способны на большее, вытащить что-то, взаимно самому приобрести навык – как за короткое время можно достичь максимального. Я научился ставить себе посильные задачи и планировать время: четырех репетиций обычно было достаточно для такого оркестра, но чтобы добиться максимального эффекта, надо восемь репетиций… Значит, я должен добиться главного и не обращать внимания на второстепенное. Какая-то тактическая манера репетирования приобреталась мною в процессе этих поездок.
Во многом я переоценил свое отношение к своим старшим предшественникам. Вот отношения с Головановым… Я напомню. После его смерти, когда я стал ставить «Садко», мне вдруг стали открываться совершенно новые стороны его таланта, которые могу взять на вооружение без его утрирования. И я начал понимать, что его подход к драматургии очень трезвый и здравый.
Пазовский, который вызывал у меня ироническое отношение, капризность и все такое, что закрывало главное. На сегодняшний день я вижу, что это мудрейший дирижер, и сейчас в чем-то хочу походить на него. Для меня это эталон. Он достигал всего очень большой кровью, на которую мы не имеем права. Но задачи, которые он поставил, и то, чего он добивался, – это высшая точка мастерства, которую мне приходилось наблюдать. Это близко к Тосканини по степени реализации оркестром его намерений. По пластинке Тосканини вы можете расставить нюансы в «слепой» партитуре, вроде как раскрашивают картинку дети. У Пазовского была такая же точность. Он никогда не вмешивался в текст, всегда корректировал только балансом звучности и достигал совершенно блестящих результатов.
В. Р. А раньше на эти аспекты Вы внимания не обращали?
К. К. У меня был еще один период, когда я попробовал свои силы в педагогике. В консерватории, в порядке совмещения, я вел трех студентов: Проваторова, Перцева, Катаева. Перцев сошел, не стал дирижером, а Проваторов и Катаев стали. Я прозанимался с ними только три года, ибо в то время меня педагогика не интересовала.
В. Р. Почему? Вы же прирожденный педагог!
К. К. У меня не было наработано собственных ощущений, которые можно было бы передать ученикам. Кроме того, трудности совмещения со службой в Большом театре, нерегулярность репетиций и спектаклей, гастрольные поездки во многом мне мешали. Я почувствовал, что не могу дать студентам того, что нужно дать.
В. Р. А как развивалось руководство оркестрами, там ведь тоже просматривается большой педагогический уклон?
К. К. Второй этап руководства оркестрами я связываю с приглашением в Горький. Там долгое время не было главного дирижера, но был энтузиаст – директор филармонии Гельфонт Лазарь Михайлович. Это старый комсомольский работник, такого же типа как Моисей Абрамович Гринберг – комсомолец 20-х годов, прошедший через все перипетии и дошедший до высоких постов. Гринберг был фактически замминистра – начальником музыкального управления Всесоюзного радиокомитета. А Гельфонт, в Горьковском масштабе, был секретарем райкома. Потом, во время кампании по борьбе с космополитизмом, они оба пошли на понижение. Гринберг оказался в филармонии. Честь и хвала Белоцерковскому, который в период довольно разнузданной антисемитской кампании приютил в филармонии всех талантливых евреев. Тогда Гринберг был на грани исключения из партии, снят со всех постов в Радиокомитете – ему инкриминировалось бог знает что. Белоцерковский взял его художественным руководителем, несмотря на все протесты вышестоящих организаций, и сделал своим заместителем. И конечно на этом очень выиграл.
В Большом театре началась чистка… Вот Исаак Абрамович Жук, 20 лет проработал в Большом театре. Первый концертмейстер, класснейший скрипач и солист. Вызвали его и предложили перейти на пенсию. Так же поступили с Матковским… Уже были творческие пенсии. А эти музыканты были в полном расцвете сил – 50 лет еще не было. А Вурдич? Три такие талантливые фигуры.
В. Р. Были ли в этих преследованиях критерии, которыми руководствовались гонители из партбюро?
К. К. Я до сих пор не могу понять, каков их принцип выискивания фигур. Кого-то хвалили, кто-то исчезал, кто-то бывал под следствием… Это не так, как в те тяжелые годы, но подобная чистка шла всегда. У меня впечатление, что это делается совершенно произвольно: для того, чтобы каждый боялся. Невзирая ни на какие личности и талант, оголяли группу полностью. Белоцерковский взял в Госоркестр первым концертмейстером Жука и первым концертмейстером Гурвича. Я просто преклоняюсь перед ним. В то время это были смелые шаги, я уже не говорю о том, насколько это было сделано совершенно правильно для становления коллектива…
Вернемся, однако, в Горький. Гельфонт оказался настоящим энтузиастом… Он любил дело и решил вытащить оркестр. Для этого организовал поездку по Волге. Нанял пароход, что было очень нелегко. Этот пароход передали оркестру, пригласили Кондрашина и Гилельса. Причем за полгода до поездки Гельфонт предложил мне приезжать в Горький каждый месяц на две недели главным дирижером и подготовить оркестр к этой поездке. Я согласился и приехал. Репетировал с группами, пересаживал музыкантов. Столичный авторитет; может делать то, что боялись делать когда-то другие дирижеры. Принял молодежь, и оркестр очень сильно вырос. Приехал Гилельс, и это тоже подстегнуло развитие и престиж.
Мы поплыли. Эмиль Гилельс взял с собой настройщика – Георгия Алексеевича Богино, человека, одержимого всякими идеями по линии звучания инструментов. Он впрыскивал коллодий, иголками накалывал и добивался того, что самый простой инструмент начинал хорошо звучать. Иногда только на один вечер, но больше и не нужно.
В. Р. Он ведь учился в консерватории?
К. К. Он окончил консерваторию как пианист, но, к сожалению, вышел из строя по болезни. Жаль, что он не передал своего мастерства. И вот Богино, который ехал с нами на пароходе, предложил любопытный эксперимент:
– Кирилл Петрович, вот в буфете стоит паршивенькое пианино. Я его настрою и буду проверять каждого музыканта-духовика, весь его диапазон по полутонам, и он будет знать, какая его нота ниже, какая выше.
И мы с ним в течение недели пропустили по нескольку раз весь оркестр. Я не ожидал такого эффекта. На первом же концерте оркестр стал играть стройно. Просто удивительная метаморфоза случилась.
В. Р. В смысле темперации?
К. К. Надо сказать, что сегодня меня такой строй не устраивает. Я считаю, что оркестр должен звучать не темперированно, а с тенденцией тонального тяготения. Но тогда порой была просто дикая фальшь и было не до жиру… А когда они стали темперированно чисто играть, это уже был значительный шаг, а инициатива принадлежала Богино. И я ему отдаю должное.
Оркестр резко рванулся после этой поездки, которая продолжалась больше месяца. По всей Волге прошли очень хорошие концерты, с большим успехом и резонансом. Я почувствовал, что уже созрел для руководства оркестрами.
В. Р. Это было после Кореи?
К. К. Да, в 1957 году. Был корейский опыт, хоть и короткий, потом в течение полугода горьковский оркестр. А когда впервые, в 1958 году я дирижировал на конкурсе Чайковского, то ко мне уже явилась делегация из оркестра Московской филармонии и предложила их возглавить. Но тогда я не чувствовал себя достаточно готовым, чтобы принять столичный коллектив. Такие конкуренты, как Государственный симфонический оркестр, который получал более 20 лет высочайшие ставки, уже сняли все сливки. А здесь нужно чистить, избавляться от пьяниц, от всяких босяков. Я тогда отказался и продолжал ездить по периферии. Очень расширились мои поездки за рубеж. В 1960 году я с Госоркестром поехал в Америку на гастроли вторым дирижером. В этой поездке получилось так, что от Иванова стали скрывать рецензии, которые я получал, и те, которые он получал. Это было не очень приятно.
В. Р. В том же репертуаре, с Чайковским?
К. К. Ну, да. Он Третью сюиту Чайковского дирижировал. Все было не так. Сам его вид: неправдоподобные какие-то волосы, которые каждый раз фигурировали в рецензиях, и такой, немного смешной внешний вид. Все это моментально работало против. Но главное – интерпретации…
Причем, как он руководил оркестром? Никак! Вот повезли Второй концерт Чайковского, где во второй части большое соло. Сидит Жук, великолепнейший музыкант, играющий скрипку соло… А на виолончели сидит музыкант, уже старик. Он опытный оркестрант, но для соло не годится. Это позор для оркестра. На любой эстраде, а за границей тем более. Я еще в Москве сказал, что вместо этого товарища я прошу другого. «Ну, хорошо, – говорят, – мы его освободим от этой программы». «Ну, пожалуйста, – говорю, – это, конечно, не обязательно, но только соло будет играть другой».
Пригласили Гранита из оркестра Московской филармонии. Он репетировал, но за три дня до поездки его не оформили. Поехали без Гранита, но кто-то должен играть? Все-таки тот! Подходит момент этого концерта – моя очередь. В оркестре есть Иванов-виолончелист, который сейчас сидит вторым концертмейстером. Тогда он сидел на последнем пульте. Я попросил его мне поиграть. Он сыграл – хорошо! Я вызвал директора оркестра и сказал, что будет играть Иванов.
– Как, Иванов? С последнего пульта?
– Да, вот так!
Если бы Вы знали, сколько они мне издергали нервов. Этот вопрос решился окончательно за час до начала концерта. Я просто сказал, что не пойду дирижировать.
В. Р. И начал «работать» внутриоркестровый защитный механизм?
К. К. Еще как!
Этот старик уже начал нажимать в отношении меня. Мол, дискриминация. Один раз ударили – мало? Теперь второй. Ну, хотя бы пригласили другого концертмейстера (как будто не знает, что приглашали), а тут вообще с последнего пульта. Дирижер Константин Иванов терпел, а директор, конечно, не хочет ссориться с музыкантами – неудобно, да и музыка страдает.
Я на своем настоял: играл Иванов, и счастлив. Отлично сыграл! Он же великолепный музыкант. Все это стоило нервов и мне, и Иванову, и другим.
В этих переживаниях я понимал, что надо самому распоряжаться – все равно на меня приходятся удары. И когда я вернулся, мне опять предложили оркестр. Вызывает Митрофан Белоцерковский:
– Кирилл, хватит кататься, бери оркестр.
И тогда я согласился взять оркестр Московской филармонии.
Было лето 1960 года. Первая моя встреча с оркестром в качестве худрука произошла в Сочи, в начале сезона.
В. Р. Изложили ли Вы им сразу свой меморандум?
К. К. Перед первой же репетицией я организовал собрание и сказал, что, друзья, у меня есть такие-то и такие-то принципы. Среди них звукоизвлечение (то, что я писал в своих статьях, уже к тому времени опубликованных), валторны без качания, вибрация у струнных не жирная, нюансировка в сторону диминуэндо и пианиссимо больше, чем в сторону крещендо, и должна появиться разница между форте и фортиссимо; форсировка ударных должна исчезнуть. Вы должны знать, почему это происходит. Я не собираюсь сейчас предпринимать никаких хирургических операций. Я сейчас прошу каждого дать лучшее, на что он способен, а через какое-то время посмотрим, кто отвечает этому, а кто – нет. Для того чтобы нам это контролировать, я предлагаю после каждого концерта собирать художественный совет и обсуждать прошедший цикл репетиций и концерт, а протокол этого заседания вывешивать для всеобщего обозрения.
Вы знаете, эффект был тоже совершенно поразительный – вдруг оркестр стал настоящим, прежде всего дисциплинированным в смысле поведения и в смысле ансамблевой игры и нюансировки. Потому что каждый боялся попасть «на стенку», а если уж случалась недисциплинированность, опоздание или дерзкий разговор с дирижером, то это было предметом очень резких записей в протоколе. В течение года мы это практиковали. Потом отказались, потому что оркестр подтянулся. Но первые голоса, лучшие музыканты, больше стали получать замечаний, так как они играют соло. Сзади сидят люди, которые прячутся друг за друга, и не каждого вытащишь на поверхность. Потом появилась необходимость чистить состав. Это делалось в основном без кровопролития. Некоторые люди сами ко мне подходили. Не могу не отдать должное Мадатову – первому концертмейстеру. Он меня не устраивал с точки зрения отношения к музыке, чистоты игры, тщательности. Он недостаточно занимался, и я несколько раз делал ему замечания.
– Я чувствую, Кирилл, тебе со мной трудно работать, и я не хочу тебя ставить в неловкое положение, я уйду сам, по-хорошему, – сказал он.
В. Р. Куда он ушел? Какова его судьба?
К. К. Он уехал в Горький преподавать. Потом был в оркестре Дударовой, но там он тоже не ужился… К сожалению, это очень яркое дарование себя не оправдало. Он очень талантливый человек и к тому же он обладает блестящим чувством юмора и в общем личность приятная, безусловно, хотя не без хамоватости, попросту говоря.
Некоторым мы дали доработать до пенсионного возраста и проводили на пенсию. Хотя тогда в оркестре творческих пенсий не было, и они получали относительно маленькие деньги, да и оклады в оркестре были тогда максимум 150 рублей (сравните с Большим театром, где 500). И тем не менее целый ряд великолепнейших музыкантов нашего оркестра, которых звали во все эти коллективы, не уходил. Например, флейтист Альберт Леонидович Гофман – человек одинокий, который ночевал у приятелей. У него не было даже прописки и комнаты в Москве. Его звал Мравинский на первую флейту с предоставлением ему казенной жилплощади и оклада 460 рублей. Он мне об этом сам рассказал.
– Я, Алик, могу только обещать, что филармония должна получить квартиры, – ответил я.
Я обещал выхлопотать ему комнату. А насчет денег я ничего не мог пообещать. Он остался.
Или Крючков – первокласснейший тромбонист, большой музыкант. Его звали во все оркестры, а он сидел на 150 рублях, сидел честно.
Или Галаян – блестящий литаврист…
Да. Оркестр поднимался как на дрожжах. Причем в Госоркестре началось страшное волнение, потому что, прежде всего, оркестр блистал репертуаром. Мы играли премьеры Шостаковича, играли Малера, играли современную музыку. Многие композиторы, и среди них Свиридов, Борис Чайковский, понесли к нам свои сочинения.
Наш оркестр стал центром музыкальной жизни. А Константин Иванов не тянул. Госоркестр сидел на старом репертуаре, вводил одну новинку в году, и то с большим трудом. И тогда там началась волна – Иванова надо сменить! Но это вызвало очень сильное сопротивление со стороны начальства, пока не появилась кандидатура Светланова (он ушел из Большого театра в 1965 году). Ничего нельзя было сделать. Когда Светланов возглавил Госоркестр, оркестр пошел вверх. И наши два коллектива какое-то время были равноценны. Но Госоркестр благодаря сильному составу музыкантов нас быстро перегнал. А сейчас он, конечно, сильнее – куда денешься, когда снимают все сливки…
Ставился без конца вопрос об увеличении окладов нашему оркестру Московской филармонии. Мы уже вышли на международную арену (первые поездки начались в 1963 году) и получили признание наравне с теми коллективами, у которых высокие оклады. Без конца атаковывались письмами правительство, Хрущев и Косыгин. Шостакович лично писал, ездил к Косыгину. Писал Хренников. Никак это пробить нельзя было. Каждый раз: «Вот будет упорядочивание зарплаты (которое намечалось на 1962 год и до сих пор не произведено), там снизят, здесь прибавят. Если одному оркестру дать, то другие тоже потянутся». Короче говоря, ни в какую. Когда в 1962 году снова приезжал Клайберн, Хрущев был на концерте и устроил прием. В правительственную ложу Большого зала пригласили Клайберна, переводчицу и меня. Там были Хрущев, Кириленко, Микоян, Фурцева, Косыгин и, значит, мы трое.
Хрущев был в настроении, рассказывал, как он учился играть на гармошке.
В. Р. Как же?
К. К. В подвал, говорит, уходил, чтоб отец не слышал. Но, честно говоря, мне его стиль общения тогда не очень понравился. Он в то время был в полном соку и стал уже даже заноситься. Скажем, его тон, которым он разговаривал с Микояном, меня коробил. Ленинец, коммунист, Микоян, который делал революцию, а Хрущев ему: «Ну, давай, Анастас, ты у нас мастер тосты всякие говорить. Потешь нас, скажи что-нибудь». Потом, когда Хрущев получил к 70-летию орден, то Микоян рвал трубку, чтобы поговорить с ним. Паноптикум… (Потом, через месяц его скинули, я припомнил все это и подумал, что не последнюю роль сыграл Анастас Иванович.)
Разговор вел Хрущев тогда хамский. Фурцевой – «Вы просто молчите!» – и в том же духе дальше. Я сидел рядом с Косыгиным. Говорю:
– Алексей Николаевич, Вам писал Шостакович и я писал насчет оркестра. Вот Вы видели сегодня, в какой форме надо держать коллектив.
– Ну, я-то «за». Нужно поговорить с Хрущевым, ведь он решает, мы ничего сделать не можем.
Свалили Хрущева. Ну, наконец-то! Через два года Шостакович уже не писал, а поехал прямо к Косыгину, а тот:
– Не могу, денег нет. А главное, что это прецедент для других оркестров.
– Нет таких оркестров!
– Ну, есть немного хуже, все примерно равные. Ставили вопрос о трех оркестрах одновременно: второй Ленинградский, филармонический Киевский. Вы получите, сейчас же два других начнут требовать.
Целые тома уже были заготовлены по этому вопросу. Причем в заключение Фурцева приложила очень много усилий к тому, чтобы это дело пробить. Косыгин от нее на приемах бегал, потому что она при каждом удобном случае говорила: «Как насчет кондрашинского оркестра? Когда Вы, наконец, это все сделаете?!»
В. Р. Как она к Вам относилась?
К. К. Она ко мне и к нашему коллективу относилась хорошо. А Шостаковичу Косыгин отказал, и это было для меня большим ударом. Я уже махнул рукой на это и жалел, что не принял приглашение в свое время в Госоркестр, потому что в то время, когда я принял оркестр, и он стал расти как на дрожжах, ко мне прислали делегацию и сказали: «Возьмите Госоркестр вместо Иванова». Я отказался, сказав, что до тех пор, пока оркестр не получит ставок, их не оставлю.
В. Р. И все-таки Вы «пробили» ставки в этом мраке произвола?
К. К. Все сыграл случай. У нас, к сожалению, только так и бывает. Прошло еще четыре года. Мы объездили чуть ли не пятьдесят стран. Была поездка по Скандинавии, очень короткая и очень утомительная. Из Финляндии, ночью на пароме, мы переехали в Стокгольм. Был у нас вечером концерт, на следующий день, той же ночью мы едем в Мально ночным поездом. А импресарио в Стокгольме страшный скупердяй. Он не снял гостиницу. Все равно – приезжают днем, ночью уезжают. Нечего тратиться на гостиницу, погуляют.
Выяснилось, что номеров нет. Я устроил ему дикий скандал. Музыканты должны иметь возможность отдохнуть где-то. С большим трудом нашли шесть или семь номеров, чтобы люди могли сложить свои вещи. Тогда я выставил его на обед и заставил сделать это очень хорошо. Практически это обошлось ему дороже, чем если бы он сделал гостиницу. В общем, к вечеру оркестр был уже измотан, но играли хорошо. А через месяц туда с визитом приехал Косыгин, и Премьер-министр, посещавший концерты, в отличие от наших, сказал: «Алексей Николаевич, Вы прислали такой замечательный коллектив. Большое Вам спасибо. Это гордость Советского Союза».
И вдруг это сработало. Косыгин, вернувшись, немедленно затребовал все документы, по которым было три заключения: Фурцева – за, Комитет по труду и заработной плате – за.
Была разработана сетка, которая сейчас принята, – от 150 до 300 рублей в месяц. В оркестрах первого положения было от 200 до 500 рублей – значит у нас, примерно, на 30 процентов ниже. А Гарбузов, министр финансов, категорически против. Косыгин на резолюции Гарбузова пишет: «Прошу пересмотреть решение в свете мнений Министерства культуры и Комитета по труду и заработной плате». Это уже приказ: и некуда было деться, поэтому все было сделано. И сделано буквально в несколько дней.
Вот так оркестр получил те ставки, которые на тот момент оказались счастьем, потому что каждый практически удвоил свою зарплату. Но было уже достаточно пенсионеров. Творческих пенсий не дали и до сих пор их нет. Мы струнникам натягивали 240 рублей в месяц, чтобы они могли получить полную 120-рублевую пенсию. За последний год такой музыкант зарабатывал немного больше. Оформляли «сверхурочные», давали еще что-то.
В. Р. Какая все-таки нищенская возня!
К. К. Где вы живете? И то хорошо. В общем, оркестр снова расцвел. Ну и этого расцвета хватило ненадолго. Я оказался, однако, плохим пророком, сказав, что мне бы хотелось, чтобы вы, став более сытыми, играли не хуже, чем играли голодными. И я боюсь, что наступит время, когда этого будет мало. Увы! Это время наступило через два года. Музыканты обросли семьями. Вот Галоян ушел. Получил на 160 рублей зарплаты больше и еще работает в номенклатурном оркестре. В Большом театре, Госоркестре, Ленинградской филармонии в общем работать намного выгоднее. И оркестр наш, к сожалению, пошел вниз. А я обречен быть кузнецом кадров. Чуть возьмешь молодого музыканта, он поработает год-два, научится чему-нибудь и идет на конкурс, и его моментально принимают.
В. Р. Вините ли Вы дирижеров в том, что они объявляют конкурс?
К. К. Должен сказать, что политика Светланова в этом отношении резко отличается от политики Иванова, который был очень лоялен и никого из моего оркестра в свой не брал! А Евгений Федорович принципиально переманивает хороших музыкантов, и мне приходится проявлять очень много энергии, чтобы удержать кого-то. И Фурцева в свое время вмешивалась (фактически, противозаконно). Сейчас пытается и министр культуры РСФСР помочь. Но все равно каждый раз, когда объявляется конкурс в Госоркестре, несколько человек из моего оркестра туда уходят. Поэтому-то я уже начинаю чувствовать, что я оркестру в этой ситуации ничего дать не могу.
В. Р. То есть свой творческий рост Вы не обеспечиваете ростом коллектива по материальным причинам. И конъюнктурная ситуация не в Вашу пользу. Вас больше используют как «формирователя» музыкантов высокого класса за счет Вашего художественного роста…
К. К. Да! Я обречен все время учить. Или уезжают в Израиль, или переходят в другие коллективы. За последнее время человек 15 хороших музыкантов по тем или иным причинам я потерял. И это меня заставляет принять решение от оркестра отказаться вовсе, если оркестр не будет приравнен к первому эшелону во всех отношениях. Только тогда можно разговаривать, потому что тогда ко мне пойдут люди, которые хотят со мной работать и при этом ничего не потеряют материально против своих коллег в других оркестрах.
Я такое решение принял и получил ответ от министра. Но, честно говоря, я ему не верю, потому что не такая сейчас ситуация, чтобы оркестру стали повышать ставки.
В. Р. На Ваше заявление ответили?
К. К. Меня попросили подождать до нового года. Я ответил, что подожду, но беру отпуск без сохранения содержания, ибо сейчас ничем заниматься не могу. У меня нет ни здоровья, ни сил для этого. Если к первому января сделаете что обещаете, тогда – пожалуйста. Он обещал послать все в правительство. В случае положительного решения я остаюсь.