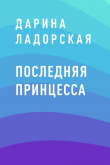Текст книги "Провидица поневоле"
Автор книги: Полина Федорова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Полина Федорова
Провидица поневоле
1
Август, 1817 год.
Скучны российские дороги. Особливо в срединной России. Сколь ни едешь – все одно: необъятные поля, пролески, одинаковые деревеньки с похожими друг на друга избами, почтовые станции да постоялые дворы. А тракт, даже и Московский, суть одно название, а на деле – тот же проселок, разнящийся от прочих разве что шириной да наличием верстовых столбов с государственной трехцветкой. Не от того ль и лица путешествующих по большей части задумчивы и смурны, и главным желанием их является одно: поскорее доехать до места назначения. На перекладных это получается скорее: доехал до станции, сменил лошадей, перекусил наскоро – и в путь. На долгих же лошадях, то бишь домашних, путь по времени ежели не в два, то уж, верно, раза в полтора точно длиннее: и кормить лошадок надобно, и поить, и роздыху давать в достаточную меру.
Однако отставного поручика Нафанаила Филипповича Кекина дорога заботила мало. Равно как и неудобство постоялых дворов с их скверной кухней и продавленными диванами. Невидящим взором смотрел он на унылые пейзажи, проплывающие мимо его дорожной коляски, а перед глазами стоял дубовый крест на свежей могиле и медно светилась на нем квадратная табличка:
Девица Елизавета Васильева
дочь Романовская
Родилась в 1797 году августа 26 дня.
Скончалась в 1817 году августа 23 дна.
Не дожив до совершеннолетия
Один год и три дни.
Прими, Господь, душу ся
И не оставь своим прощением.
История, собственно, была стара как мир. Кекин был влюблен в Елизавету Романовскую, Лизанька любила князя Болховского, а тот предпочел отдать руку и сердце Аннет Косливцевой. Необычным было то, что Лизанька стала убийцей. Мучимая неразделенной страстью и ревностью, она одну за другой устраняла со своей дороги возможных соперниц, но на Анне Косливцевой споткнулась и погибла сама [1]1
См. роман Полины Федоровой «Суженая» («Подарок судьбы»).
[Закрыть].
Как мог ангел обернуться демоном? Что есть любовь, коль она толкает человека на преступление? Чем ей унять тупую, ноющую боль, поселившуюся в сердце? Все три ночи, проведенные на постоялых дворах, Нафанаил спал плохо, ворочался, а когда забывался в вязкой дреме, не похожей ни на явь, ни на сон, стонал и скрежетал зубами, вновь и вновь переживая страшные мгновения смерти Лизы. Наутро, поднявшись одним из первых, шел на конюшню и требовал немедля запрягать, чтобы как можно скорее отправиться в путь, погрузившись в свои невеселые думы.
Однажды, уже на перевозе через Суру, его нагнал верховой на взмыленном коне. Он осмотрел лошадь, коляску, седока и, кивнув самому себе, спросил, впрочем, почему-то нимало не сомневаясь в ожидаемом ответе:
– Прошу прощения, сударь, вы отставной поручик Нафанаил Филиппович Кекин?
– Я, – мельком взглянул на верхового Кекин. – Мы с вами знакомы?
– Нет, – спешился тот. – Разрешите представиться: личный секретарь графа Волоцкого Эмилий Федорович Блосфельд.
– Чем могу? – бросил Кекин, безразлично следя взглядом за медленно приближающимся паромом.
– Граф Платон Васильевич просит вас не ехать так быстро.
– Что? – поднял брови Нафанаил.
– Его сиятельство граф Платон Васильевич Волоцкий покорнейшепросит вас не ехать так скоро, – терпеливо поправился секретарь.
Кекин, наконец, посмотрел на Блосфельда. Стройный, щеголеватый, миниатюрный, что больше пошло бы девице, нежели мужчине. Гладко выбрит, пахнет французским о-де-колоном. Верно, он и вправду личный секретарь графа Волоцкого, а не какой-то там авантюрист, коих сверх меры расплодилось в империи после победоносного завершения заграничной кампании. Но что делает в этих краях Платон Волоцкий, фигура, известная всей России, сенатор и бывший вице-президент коммерц-коллегии при государе Павле Петровиче, верный помощник действительного тайного советника и президента коллегии Гавриилы Романовича Державина?
Три года назад Волоцкому, только-только получившему высочайшим соизволением титул графа и бывшему к тому времени уже в звании статс-секретаря и в чине тайного советника, прочили пост Председателя Государственного Совета; но он вдруг оставил службу и вышел в отставку, чем крепко раздосадовал императора Александра. Поговаривали, что сие решение Платона Васильевича было вызвано болезнью его единственной дочери, коей он всецело посвятил себя после смерти супруги. И все же выйти в отставку, когда оставалось лишь протянуть руку, дабы сделаться одним из первых лиц в империи сразу после государя, стоило большого мужества и воли.
– А какое дело его сиятельству господину Волоцкому, скоро я еду или медленно? – не очень вежливо произнес Кекин, закончив лицезреть секретаря и снова отвернувшись к реке. – Я сам волен выбирать скорость своего продвижения.
– Все это так, – вынужденно согласился секретарь. – Однако граф просит вас ехать медленнее.
– Да отчего же? – саркастически поинтересовался Нафанаил. – И с какой стати я должен исполнять капризы совершенно не знакомого мне человека?
Кекин отвернулся от реки и в упор уставился на секретаря.
– Это не капризы, – выдержал взгляд Блосфельд. – Обстоятельства складываются так, что он вынужден вас просить об этом.
– Какие такие обстоятельства? – резко спросил Кекин.
– Извините, но я не уполномочен…
– В таком случае, – перебил его Нафанаил Филиппович, – я оставляю за собой право ехать как хочу и куда хочу. И полагаю наш с вами разговор законченным.
Подошел, наконец, паром – дощаник с настилом и двумя столбами, через которые тянулся к обоим берегам реки веревочный канат. Кекин с коляской и еще несколько крестьян погрузились на него. Для секретаря места недостало.
– Полно! – крикнул паромщик и, упершись ногами в настил, стал тянуть канат на себя.
Паром отошел от берега на половину сажени, потом на сажень, две… На дощатом настиле, прямо возле ног отставного поручика, стайка нахальных воробьев бесшабашно клевала просыпанное кем-то пшено. Среди них выделялся один, тощий, задиристый, то и дело затевающий драку, оканчивающуюся всегда не в его пользу. Кажется, и клюнуть ему удалось всего-то раза два, но зато он был явно горд своей заносчивой независимостью, чем напомнил Нафанаилу корнета Аристова, казанского знакомца, такого же гордого забияку, получающего от всех и каждого одни шишки.
Когда паром миновал середину реки, Кекин оглянулся и увидел секретаря, сидевшего верхом на лошади. А вдалеке, оставляя за собой шлейф пыли, подъезжали к речному крутику две кареты, каждая запряженная шестериком: черный лаковый берлин, еще екатерининских времен, с родовым гербом на дверце, и громоздкий дормез, в коем можно было путешествовать лежа, как в постели.
2
На пути в свое имение, благоприобретенное еще дедом Нафанаила Филипповича нижегородским негоциантом Леонтием Кекиным, постоялый двор в Ямской слободе под сельцом Воротынец был последним. Какое-то время на пути к нему, сразу после переправы, Кекина еще занимали мысли о неожиданной просьбе графа Волоцкого, но, проехав несколько верст, он вновь впал в свое обычное состояние меланхолии, и его взгляд, обращенный внутрь себя, снова не замечал ни полей, ни перелесков, ни деревень, попадавшихся на пути. Подъехав к постоялому двору, он спросил себе комнату, и ему отвели небольшую каморку подле общей залы с одним крохотным оконцем под самым потолком. Спорить он не стал и, не переодеваясь, бросился на диван, поставив на диванный столик дорожный саквояж с провизией. Но и есть тоже не хотелось.
Часа через два он задремал, но тотчас был разбужен суматохой, поднявшейся вдруг на постоялом дворе: люди забегали, захлопали двери, и поднялся шум, каковой случается всегда, когда приезжает какая-либо знатная персона.
– Граф… тайный советник… граф Волоцкий… – слышал отставной поручик в своей каморке возбужденные голоса, доносящиеся из залы.
Приезжие разных чинов и званий, а равно дамы, коим был бы для сего предприятия лишь повод, бросились по своим нумерам переодеваться, дабы к ужину, ежели таковой случится и его сиятельство господин Волоцкий, кавалер множества орденов, соблаговолит посетить, предстать во всем блеске. Мужчины одевались в парадные вицмундиры и нанковые панталоны, статские либо отставные – в короткие фраки или рединготы из персидского шелка и пикейные жилеты и панталоны с узенькими лиловыми полосками. Дамы же – о, здесь все было много сложнее и требовало большего вкуса и изысканности – доставали из пропахших ромашкой сундуков пудренники из кисеи, подбитые тафтою и обшитые узкой блондою в складках, платья из китайского крепа цвета фиолет с рукавами из вышитого тюля, токи, украшенные перьями марабу [2]2
Большая птица семейства аистов.
[Закрыть]и розами. Дамы помоложе и девицы облачались в рединготы-блуз из гродете цвета резеды, самого модного в этом сезоне, с вырезами на плечах, шестью большими пуговицами впереди и рукавами, широкими сверху и крайне узкими в запястьях. Широкий пояс, начинавшийся прямо из-под грудей, у кого они были, обозначал талию. Не были, конечно, забыты шляпки из итальянской соломки с длинными перьями, покрывающими верх тульи и ниспадающими на поля. Отставной же поручик Кекин только и содеял всего, что повернулся на другой бок.
– А что господин Кекин, он здесь? – услышал Нафанаил голос из залы.
– Точно так, ваше благородие, – послышался вслед за этим голос хозяина постоялого двора. – Вот-с, в этом нумере-с.
– И саквояж с ним? Такой, из свинячьей кожи?
– Точно так, господин доктор, – послышался ответ хозяина.
Вслед за этим в дверь каморки негромко постучали. Кекин молчал. Но, черт побери, откуда какому-то доктору известно про его кожаный саквояж с провизией?
– Верно, уже спят-с, – послышался голос хозяина.
– Разбудите. Мне необходимо переговорить с ним.
После робкого стука, на который Кекин никак не среагировал, дверь каморки приоткрылась.
– Господин Кекин? – несмело спросил хозяин, просунувший голову в дверной проем. – Ваше благородие, вы спите?
– Сплю! – буркнул Кекин, и дверь затворилась.
– Оне спят, – доложил за дверью хозяин.
– Так разбудите! – продолжал настаивать доктор. – Это очень важно.
– Уж не обессудьте, господин доктор, но вы уж как-нибудь сами…
– Mistkerl [3]3
Скотина ( нем.).
[Закрыть], – выругался доктор и решительно открыл дверь.
– Что вам угодно? – повернулся к нему Кекин.
– Мне необходимо поговорить с вами, – ответил доктор и шагнул в комнату, щурясь от неясного света допотопного лампиона. – Подкрутите, пожалуйста, фитилек поярче.
– В этом нет никакой надобности, – ответил отставной поручик и добавил: – Как, впрочем, и в нашем с вами разговоре. Я отдыхаю и прошу оставить меня в покое.
– Я полагаю, с вашей стороны крайне невежливо…
– А я полагаю, что крайне невежливо с вашейстороны врываться в мою комнату и требовать от меня какого-то разговора, к чему у меня нет совершенно никакого расположения и надобности, – не дал договорить вошедшему Кекин. – Я вообще не желаю с кем бы то ни было разговаривать, будь то обер-камергер, генерал-фельдмаршал или даже Папа Римский. Потрудитесь покинуть мою комнату.
– И все же я прошу вас выслушать меня, – произнес доктор с какими-то неожиданными интонациями в голосе, заставившими Нафанаила вначале повернуться к нему, а затем и сесть на диване. – Иначе смерть графини Волоцкой будет целиком на вашей совести.
– Даже так? – не без сарказма произнес Кекин, впрочем уже готовый выслушать странного посетителя.
Что доктор имеет отношение к графу Волоцкому, Нафанаил Филиппович понял еще перед тем, как тот сказал про графиню: его посещение и просьбы секретаря графа Блосфельда не ехать быстро были звеньями одной цепи событий, почему-то имевших отношение к нему, Нафанаилу Кекину и сие надлежало, наконец, прояснить. Посему, подкрутив фитилек лампиона, после чего в каморке стало несколько светлее, отставной поручик неохотно произнес:
– Хорошо. Я слушаю вас.
– Позвольте представиться: Фердинанд Яковлевич Гуфеланд. Я – врач семьи его сиятельства графа Волоцкого. Видите ли, мы едем за вами из самой Венеции.
– Зачем?!
– Это очень долгая история, и, если вы позволите, я начну с самого начала.
Кекин согласно кивнул.
– Я был приглашен в семью графа, когда тяжело заболела его супруга. Она всегда была склонна к меланхолии, а чуть более четырех лет назад у нее начались частые головные боли и приступы беспричинной тоски. Сия болезнь развилась в самую настоящую ипохондрию, которая терзала графиню целыми днями. Граф возил ее в Италию, Францию, Пруссию, но тамошние доктора только разводили руками: тоску и печаль, как и иные человеческие чувства, говорили они, вылечить практически невозможно. Как, к примеру, излечить несчастную любовь? – воскликнул доктор и посмотрел на Кекина, почему-то смутившегося от этого взгляда. – Да никак! Только новой любовию, или, следуя поговорке, клин выбить клином. Вы согласны?
Получив в ответ скорее какое-то мычание, доктор продолжал:
– Однако новая любовь также явится болезнью, ибо сие чувство суть химические процессы явно нездорового характера, происходящие в организме человека. Чувства неизлечимы, что не хорошо и не плохо. Сие есть то, с чем надо просто смириться, ибо исправить это у нас не имеется никаких возможностей. Это такая же данность, как, к примеру то, что небо – голубое, трава – зеленая, а день сменяет дочь. Возможно с этим бороться? Нет. Да и незачем. Так я и сказал графу, когда он, будучи в Бранденбурге, привел на прием ко мне свою жену. Правда, мне удалось несколько ее успокоить, и какое-то время она чувствовала себя, как у вас говорят, вполне сносно. Граф, счастливый уже оттого, что его супруге после визита ко мне стало легче, предложил мне место семейного доктора. Я считаю своей заслугой, да и граф тоже, что графиня прожила еще почти год.
Не могу вам точно сказать, чем была вызвана болезнь дочери графа, смертью матери или это было недугом врожденным, однако скоро после кончины графини похожие симптомы стали проявляться и у дочери. Все происходило, как и в прежнем случае: меланхолия, головные боли, боязнь скорой смерти от несуществующих заболеваний, наконец, ипохондрия. Его сиятельство, крайне обеспокоенный ухудшающимся состоянием своей дочери, был вынужден подать в отставку в самый пик своей карьеры и бросить все силы и время на ее излечение. Но ничего не помогало. Будучи в Париже, граф свел знакомство с доктором Леру, известным спиритуалистом, который и посоветовал ему обратиться за помощью к маркизу Максимилиану де Пюйзегюру, знаменитому магнетическому оператору и ученику самого Фридриха Месмера…
– По-моему, я что-то слышал о Месмере, – в раздумье произнес Кекин из своего угла. – Кажется, это тот человек, что открыл магнетизм?
– Ну, положим, не открыл, – поправил его Гуфеланд, – а возвел исследования древних мистиков, египетских мудрецов и лекарей шестнадцатого и семнадцатого столетий в область науки. Ведь то, что небесные тела влияют на тела человеческие было известно и в языческие времена. Но вот понятие животного магнетизма и учение о нем ввел в науку именно Месмер.
– И что это за учение? – спросил отставной поручик.
– Ну-у… – протянул доктор, выказав, как показалось Нафанаилу, некоторое недоверие к будущим своим словам, – учение Месмера, собственно, состоит в том, что во всяком животном теле имеется изначальный магнетизм. Его сила наполняет всю природу и составляет материальную и в то же время магическую связь, которая соединяет все земные тела, а наипаче человеческие, с бесконечными материальными массами, движущимися в неизмеримом небесном пространстве.
– То есть в космосе? – спросил Кекин.
– Именно, – посмотрел на собеседника Гуфеланд, и в его взоре промелькнули искорки уважения. – По мнению доктора Месмера, между небесными телами, Землей и живыми существами находится взаимное влияние, и здесь он, несомненно, прав. Сие влияние совершается посредством тончайшей, всюду находящейся жидкости, называемой Ньютоновым эфиром, который все проницает, находится в постоянном и хаотичном движении, а также проводит и сообщает оное. Действие это происходит по каким-то механическим законам, доселе неведомым, что вовсе не означает, что таковых нет. К примеру, приливы и отливы суть их следствия.
Сия жидкость, или тонкое вещество, действует непосредственно на нервы человека, соединяется с оными и производит в теле явления, подобные магнитным, а именно полярность и уклонение. По сему свойству животного тела так реагировать на действие всеобщего тонкого вещества и оказываться подобным магниту явления эти и получили название животного магнетизма. Он имеет способность стремиться в другие одушевленные и бездушные тела с величайшей скоростью и может действовать на оные на расстоянии без посредствующей материи. Используя сию магнетическую энергию по методе Месмера, можно излечить человека от любых болезней.
– И тому есть примеры? – спросил Кекин.
– Есть, – без особого энтузиазма ответил доктор.
– Прошу прощения, я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста.
– Благодарю, – кивнул Фердинанд Яковлевич. – Граф, конечно, воспользовался советом, но старый маркиз был болен и отказал осмотреть молодую графиню. Из Парижа Волоцкие уехали ни с чем. А между тем состояние дочери графа продолжало ухудшаться. Сделав все, что было в человеческих силах, его сиятельство написал письмо господину маркизу, умоляя его приехать в Москву, где они тогда жили, и обещая за исцеление дочери едва ли не все свое состояние. Максимилиан де Пюйзегюр не смог устоять перед означенной в письме суммой и приехал.
Доктор вздохнул и замолчал, уставившись в посыпанный опилками пол.
– Маркиз провел свой магнетический сеанс? – догадался Нафанаил Филиппович.
– Да, – снова вздохнул доктор. – От моих советов быть осторожнее с вторжением в область психики, ибо сия человеческая материя изучена еще крайне слабо и последствия манипуляции ею совершенно непредсказуемы, граф попросту отмахнулся, ведь старый маркиз обещал ему полное исцеление дочери. Правда, молодой графине с каждым днем становилось все хуже, и граф хватался за любую, пусть и призрачную, возможность помочь ей.
Словом, сеанс состоялся. Маркиз ввел ее в самую сильную, шестую степень магнетического состояния и… умер. Подобного рода сеансы, насколько мне известно, крайне изнурительны, так как требуют максимального напряжения всех сил организма, вот сердце старика и не выдержало. Ведь ему было уже под семьдесят. Через несколько часов после его смерти, графиня пришла в себя, но с тех пор каждый день, в утренние часы, она впадает в возведенное маркизом состояние. И это не сомнабулический сон. Это вообще, не сон и не явь. И это и сон, и явь одновременно. Я, видимо, не совсем понятно выражаюсь? – посмотрел Фердинанд Яковлевич на Кекина.
– Вполне понятно, – заверил его Нафанаил Филиппович. – А что ипохондрия?
– Исчезла, – ответил доктор.
– Выходит, этот маркиз-магнетизер все же излечил графиню от ее болезни?
– От ипохондрии-то излечил, – нехотя согласился доктор, – но поскольку не довел свой сеанс до конца и не размагнитизировал графиню, то привил ей своей не вовремя случившейся смертью новую болезнь, так же не поддающуюся излечению. Все это случилось год назад, и тогда время ее нахождения в состоянии сна-яви составляло примерно один час, а теперь оно достигло уже почти пяти часов. Иногда переход из одного состояния в другое сопровождается страшными болями и судорогой. И она абсолютно не помнит, что делала и что говорила в эти часы. Мне кажется, что она уже близка к сумасшествию, ибо частое пребывание в шестой степени магнетического состояния ведет к полной потере чувств и в конечном итоге – к растительной жизни и полному умопомешательству.
– А граф не пробовал ее снова вылечить? – спросил отставной поручик.
– Как не пробовал, конечно, пробовал, – невесело отозвался доктор Гуфеланд. – Он снова возил ее к самым лучшим докторам Европы, в том числе и знаменитым магнетическим операторам. Но ни доктор Деслон, ни профессор Мульезо из Венеции не смогли ничего сделать. Маркиз де Пюйзегюр был слишком сильным магнетизером. Вывести из состояния шестой степени магнетического исступления, в которое он ввел несчастную графиню, мог только один человек: сам Фридрих Месмер. Но он давно уже был мертв…
– Да-а, – протянул Нафанаил после недолгого молчания. – Интересные вещи вы мне рассказали. Только вот одного не пойму: при чем тут я?
– Месяц назад, когда попытки профессора Мульезо вывести графиню из состояния магнетического сна-яви, или, как это называется, исступления, потерпели фиаско, графиня сказала, что спасти ее от умопомешательства и смерти может только один человек. И назвала его имя… – Доктор замолчал и пристально посмотрел на отставного поручика. – Нафанаил Филиппович Кекин.
– И вы ей поверили! – воскликнул Нафанаил. – Человеку, находящемуся в состоянии душевного исступления?!
– Именно потому, что она находилась в этом состоянии, мы и поверили, – промолвил доктор. – И к тому у нас были весьма веские основания.
– Чушь, – заявил Гуфеланду Нафанаил Филиппович.
– До определенного момента я тоже так думал, – невесело усмехнулся доктор. – Пока графиня как-то утром, находясь, как обычно в эти часы, в состоянии магнетического сна-яви, вдруг не пригласила меня к себе и не выразила соболезнования по поводу кончины моей старшей сестры.
«Она жива, – возразил я ей. – Месяц назад я получил от нее письмо».
«Мне прискорбно говорить вам это, – заявила она, – но не далее, как сегодня, в десятом часу утра ваша сестра, подавившись вишневой косточкой, задохнулась и умерла. Примите, господин доктор, мои искренние соболезнования».
Я, конечно, не придал ее словам значения, но через две недели получил из дому письмо, в котором сообщалось, что моя старшая сестра умерла, подавившись вишневой косточкой. И день, и час ее смерти полностью совпали с предсказанными…
– Это случайность, – не очень твердо произнес Кекин, хотя было похоже, что рассказ доктора все же произвел на него впечатление.
– Возможно, – не стал спорить Фердинанд Яковлевич. – Но как вы объясните то, что вот в этом вашем дорожном саквояже, – тронул доктор один из кожаных ремней, – лежит любимый вами паштет из гусиной печенки, кусок ситного хлеба и початая бутылка шато-лафита, которое вы более всего предпочитаете в отсутствие бургундского и тонкого шабли?
– Да никак, – довольно резко ответил Нафанаил. – У каждого второго путника, не считая каждого первого, в его дорожном саквояже лежит печеночный паштет и бутылка вина. А бургундское и шабли много лучше столового лафита.
– Хорошо, – легко согласился доктор. – Тогда, уж простите меня, я вынужден предъявить вам свой главный козырь.
– Я весь внимание, – с нотками раздражения произнес Кекин.
– Еще раз прошу прощения…
– Не стоит извиняться, слушаю вас.
– Девица Елизавета Васильева дочь Романовская родилась в 1797 году августа 26 дня. Скончалась в 1817 году августа 23 дня, не дожив до совершеннолетия один год и три дни. Прими, Господь, душу ея…
– Довольно! – оборвал доктора Нафанаил. – Вы что, следили за мной?
– Мы приехали в Казань, когда вы уже выехали из города и тряслись в своей коляске по Московскому тракту.
– Тогда откуда вы это знаете?
– От графини.
– А она откуда… Она что, ясновидящая? Провидица?
– Я не уполномочен отвечать на эти вопросы, – потупил взор доктор. – Я лишь должен был подготовить вас для беседы с графом.
– Как, еще одна беседа?! – уже вскричал отставной поручик. – Нет, с меня достаточно. Немедля велю закладывать, и прочь отсюда!
– Господин Кекин, я просил бы вас не совершать опрометчивых поступков, – медленно произнес доктор.
– Что-о? – угрожающе произнес Нафанаил, и тут взгляд его упал на диванный столик, вернее, на руку доктора, лежащую на столе. В неясном свете лампиона он увидел тускло поблескивающий ствол армейского нарезного «кухенрейтера», смотрящего черным зрачком прямо ему в живот. Кекин медленно поднялся и перевел потемневший взгляд прямо в глаза Гуфеланда.
– Превосходное сочетание: доктор и душегуб в одном лице, – насмешливо произнес Кекин. – Зато не надо после анатомировать труп, ведь причину смерти доктору назовет убийца, который сидит у него внутри.
– Убивать вас никто не собирается, – устало произнес Фердинанд Яковлевич, снимая палец со спускового крючка. – Это было бы крайне нелогично и неприятно.
– Поэтому-то вы и направили пистолет прямо мне в живот? – язвительно заметил ему Кекин. – Кому-кому, а уж вам, доктор, должно быть известно, что ранение в живот из «кухенрейтера» в девяноста случаев из ста смертельно.
– В девяносто пяти, – мрачно поправил его Гуфеланд.
– Вот видите? Не лучше ли направить пистолет мне, скажем, в ногу? Или в руку?
С этими словами отставной поручик вытянул вперед руку, как бы подставляя ее под выстрел, и вдруг молниеносным движением выхватил у доктора пистолет и направил его Гуфеланду прямо в лоб.
– Уж ежели вы столько про меня знаете, то вы, господин доктор, должны были быть предупреждены и о таком исходе вашего визита.
– Такая возможность допускалась, – промолвил доктор, стараясь казаться спокойным. – Я был также предупрежден, что вы окажетесь несговорчивым.
– Это вам опять сказала графиня?
– Да, – просто ответил Гуфеланд.
– Что еще она вам сказала?
– Что вы можете оказать мне сопротивление.
– Но вы все же решились применить силу.
– Да.
– А чья была инициатива прихватить для разговора со мной пистолет, ваша или графини? – быстро спросил Кекин.
– Моя, – не раздумывая, ответил доктор. – Я заинтересован, чтобы вы помогли ей. В противном случае я потеряю место, где мне платят много больше, чем я получал бы в любом университете Германии.
– Вы очень практический человек, господин доктор, – ухмыльнулся Кекин, опустив пистолет.
– Я немец, – вздохнул Гуфеланд. – И дома, в Пруссии, у меня больная мать и шесть младших сестер. Я вынужден быть практическим.
– Вы меня разжалобили, доктор. И я сейчас заплачу. Зарыдаю даже. Вот, видите, у меня уже повлажнели глаза, – наклонился к нему Нафанаил и жестко спросил: – Что нужно от меня графу?
– Я не уполномочен…
– Говорите, – впился в него взглядом Кекин.
– Он хочет сделать вам одно предложение.
– Руки и сердца?
– Нет. Предложить некоторую кондицию.
– Что за кондиция?
– Я не уполномочен.
– Да что вы все заладили: не уполномочен да не уполномочен, – уже примирительным тоном произнес Нафанаил Филиппович. – Об этой кондиции он и хочет со мной говорить?
– Да.
– Ну так передайте графу, что…
Отставному поручику не дал договорить настойчивый стук в дверь.
– Войдите, – громко произнес Кекин, заведя пистолет за спину.
Дверь раскрылась, и через порог ступил высокий худощавый старик в ливрее, расшитой серебром и золотом, поначалу показавшейся Нафанаилу мундиром гофмаршала. Старик кашлянул в белую перчатку и громко произнес с преобладанием официальных ноток в голосе:
– Господин Кекин, его сиятельство граф Платон Васильевич Волоцкий просит пожаловать вас в свои апартаменты для аудиенции. Его комнаты находятся на втором этаже, – добавил он, в упор глядя на отставного поручика.
«А пойду, – вдруг решил про себя Нафанаил, оглядывая старика. – Иначе ведь не отвяжутся. А так хоть узнаю, что этому графу от меня нужно».
– Куда прикажете следовать? – весело спросил он.
– За мной, – бесстрастно ответил камердинер.
– Простите, доктор, но пистолет я вынужден оставить себе, – засовывая «кухенрейтер» под подушку, обернулся к Гуфеланду Кекин. – Сия машинка в неопытных руках может причинить более бед, нежели защитить вас. Не возражаете?
Доктор молчал.
– Вот и славно, – сказал Нафанаил Филиппович, – благодарю вас. А теперь, господин гофмаршал, – обернулся Кекин к камердинеру графа, – ведите меня к его сиятельству.