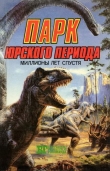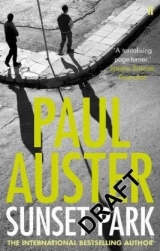
Текст книги "Сансет Парк (ЛП)"
Автор книги: Пол Бенджамин Остер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Это неважно. Это совсем неважно. Анджела чувствует себя обделенной – только и всего. Скоро Рождество, и она хочет, чтобы он опять помог ей. Что это значит? спрашивает он. Разное, говорит она. Например, то, что он принес ей этим летом. Невозможно, отвечает он ей, это противозаконно, и он не хочет терять эту работу.
Ты сделал это для меня однажды, говорит она. Непонятно, почему ты не сможешь сделать это еще раз.
Я не могу, повторяет он. Я не могу рисковать.
Ты порешь чушь, Майлс. Все этим занимаются. Я слышала разные истории, и я знаю, что происходит. Эти чистки как прогулки по магазину. Фортепиано, катера, мотоциклы, драгоценности, все такое дорогое. Работники цепляют все, что им попадает пол руку.
Не я.
Я не прошу катера. И зачем мне фортепиано, если я не умею играть? Но все остальное красивое, ты понимаешь, о чем я? Нужные вещи. Вещи, от которых становится радостно.
Ты стучишься не в ту дверь, Анджела.
Ты что – такой глупый, Майлс?
Ближе к цели разговора. Я полагаю, ты хочешь мне сказать что-то, а все, что я слышу – ерунда.
Ты забыл, сколько лет Пилар?
Ты серьезно…
Не забыл?
Ты не станешь. Она же твоя сестра, помнишь?
Один звонок в полицию – и ты спекся, дружочек.
Прекрати. Пилар плюнет в твое лицо. Она больше никогда не заговорит с тобой.
Подумай о вещах, Майлс. Красивых вещах. О горах красивых вещей. Это лучше, чем думать о тюрьме, да?
По дороге домой, уже в машине, Пилар спрашивает, о чем хотела поговорить с ним Анджела, но он избегает правдивого ответа, всячески стараясь не выказать, как он презирает ее, как глубоко она ему ненавистна. Он бормочет что-то о Рождестве, о секретном намерении их сделать что-то для всех членов семьи, но он не может и вымолвить слова, потому что Анджела заставила его поклясться, что он будет молчать до условленного момента. Это, похоже, успокаивает Пилар – она улыбается в предвкушении чего-то хорошего, ожидающего их; и вскоре они уже не говорят об Анджеле, а обсуждают впечатление, которое оставил после себя Эдди. Пилар говорит, что он милый и совсем неплохо выглядящий, но она не уверена, если он достаточно умен для Марии – на эти слова он не отвечает ей. По его разумению, достаточна ли умна Мария для Эдди, но он не хочет обижать Пилар своими сомнениями. Вместо этого он касается правой рукой ее волос и спрашивает ее, что она думает о книге, которую он дал ей утром – Дублинцы Джеймса Джойса.
На следующий день он идет на работу, совершенно уверенный, что угрозы Анджелы не более, чем слова, неприятная театральная сценка, чтобы он растаял и вновь начал тащить для нее. Он ни за что не станет глупо, бессмысленно рисковать, и никакие силы на свете не заставят его дать ей хоть что-нибудь – хоть зубочистку, хоть использованный носовой платок, хоть один пердеж заики Пако.
В воскресный полдень Пилар идет в дом Санчезов, чтобы провести пару часов со своими сестрами. Вновь, у него нет никакого желания пойти с ней, и потому он остается в квартире – приготовить их ужин, пока ее нет (он отвечает за покупки и еду); Пилар возвращается к шести часам и говорит, что Анджела попросила ее напомнить ему об их совместном деле. Она говорит, что не может ждать вечность, добавляет Пилар, копируя слова сестры тем же неуверенным, вопросительным взглядом. Что это такое может означать? спрашивает она. Ничего, говорит он и резко отрицательно качает головой, упреждая дополнительные вопросы. Абсолютно ничего.
Два дня работы, три дня работы, четыре дня работы, и затем, в пятницу, как раз после последней чистки за эту неделю, когда он выходит из очередного опустевшего дома и идет к своему автомобилю, он замечает двух мужчин, прислонившихся к красной Тойоте, двух крупных мужчин, одного англосаксонца и одного латиноамериканца, двух очень крупных мужчин, выглядящих как защитники в американском футболе или бодибилдеры, или вышибалы в ночном клубе; и если они вышибалы, думает он, возможно, они из того ночного клуба Голубой Дьявол. Самое лучшее было бы для него развернуться и убежать, но уже поздно, мужчины увидели его; и если он побежит сейчас – позже будет только хуже для него, поскольку совершенно ясно, что рано или поздно они его найдут. Он сам – не мал ростом, и не боится драки. Шесть футов и два дюйма, сто восемьдесят семь фунтов веса, и, после стольких лет работы не мозгами, а мускулами, он в прекрасной физической форме – хорошо сложен, мускулист и силен. Но не так силен, как эти двое, поджидающие его; и их – двое, а он – один, так что ему остается надеяться лишь на то, что они здесь – лишь для разговора, а не для демонстрации своих боевых качеств.
Майлс Хеллер? спрашивает англосаксонец.
Чем могу помочь? отвечает он.
У нас сообщение от Анджелы.
Почему бы ей самой не сказать мне об этом?
Потому что ты не слушаешь ее, когда она говорит с тобой. Она решила, что ты будешь более внимательным к ней, если мы передадим это сообщение от нее.
Хорошо, я слушаю.
Анджела рассердилась, и она теряет терпение. Она говорит, у тебя еще одна неделя, и если ты не придешь к ней, то она позвонит. Врубаешься?
Да, врубаюсь.
Точно?
Да, да, точно.
Точно, что ты точно?
Да.
Хорошо. Но чтобы ты не забыл, что ты точно, я тебе дам один подарочек. Вроде тех ниточек на пальчике, когда хочешь что-нибудь не забыть. Ты понимаешь, о чем я?
Полагаю, что да.
Без всякого предупреждения мужчина приближается и бьет его в живот. Пушечный выстрел удара такой силы, что выбивает его на землю; и как только он падает на землю, воздух покидает его легкие; и вместе с воздухом, вылетающим из гортани, вылетает и содержимое желудка, его обед и его завтрак, остатки вчерашнего ужина; и все, что было в нем мгновение тому назад, теперь вне его; и пока он лежит, блюя и хватаясь за воздух, схватившись за агонизирующий живот, двое крупных мужчин идут к своей машине, оставив его лежащим на улице; раненое животное, срубленное одни ударом; как бы он хотел, чтобы он был бы мертв сейчас.
Час спустя Пилар знает все. Пустая угроза не была пустой, поэтому он больше не может оставаться с ней. Внезапно они окружены опасностью, и становится очень важно, чтобы она знала все. Сначала она плачет, совершенно не веря в то, что ее сестра могла так поступить – угрожать ему тюрьмой и не бояться разрушить ее счастье только из-за каких-то вещей – все это не укладывается в ее сознании. Это не вещи, говорит он. Вещи – это только предлог. Анджеле не нравится он, и она с самого начала была против него, а счастье Пилар не значит для нее ничего, если это счастье каким-нибудь образом связано с ним. Он не понимает, почему она так злобно настроена, но факт остается фактом, и у них нет выбора, но лишь принять эту данность. Пилар хочет тут же помчаться к дому и отвесить пощечину Анджеле. Это то, что она заслуживает, говорит он, но ты не можешь сделать этого сейчас. Ты должна подождать, пока я не скроюсь.
Это ужасное решение, неслыханное решение, но единственное, что осталось им в таких обстоятельствах. Он должен уехать. И нет никакой альтернативы этому. Он должен покинуть Флориду раньше, чем Анджела поднимет трубку телефона и позвонит в полицию; и он никак не может вернуться сюда до утра двадцать третьего мая, когда Пилар исполнится восемнадцать лет. Ему очень хочется задать ей вопрос – хочет ли она выйти за него замуж здесь и сейчас – но слишком много разного случилось в одно время; они оба сейчас подавлены и усталы, и он решает не давить на нее или запутывать ее сознание, не усложнять и так все осложненное, особенно, когда не осталось совсем времени.
Он говорит, что у его друга есть комната для него в Бруклине. Он дает ей адрес и обещает звонить каждый день. Поскольку она не может вернуться назад в дом, она останется здесь, в квартире. Он пишет чек, покрывающий всю квартплату за будущие шесть месяцев, переписывает машину на нее, а затем отвозит ее в банк, где показывает, как управляться с его счетом. Там – двенадцать тысяч долларов. Он снимает три тысячи для себя и оставляет девять тысяч для нее. Потом он кладет банковскую карточку в ее руку, и они выходят в ослепительный жар полуденного солнца со сплетенными друг с другом руками. Впервые он открыто касается ее при всех, и делает он это сознательно – будто вызов всему.
Он кладет в небольшую сумку два комплекта одежды и белья, фотокамеру и три-четыре книги. Он оставляет все на прежнем месте – чтобы она знала, что он вернется назад.
Следующим утром он уже сидит в автобусе, направляющимся в Нью-Йорк.
4
Это – длинная, нудная поездка, почти тридцать часов от начала и до конца, с остановками и через десять минут и через два часа; и соседнее сиденье занято попеременно пышной, сопящей чернокожей женщиной, шмыгающим носом пакистанцем или индийцем, костлявой, постоянно прочищающей свое горло белокожей старушкой и кашляющим германским туристом, о котором невозможно определенно сказать – мужчина ли это или женщина. Он не разговаривает с ними, погруженный в книгу или притворяющийся спящим; и каждый раз, когда автобус останавливается, он выбирается наружу и звонит Пилар.
В Джаксонвилле, на самой длительной остановке, он покупает два хэмбургера и большую бутылку воды, поглощая еду с большой осторожностью, поскольку боль в мышцах живота от удара в пятницу еще не прошла. Да, боль так же запоминаема, как и нитка на пальце, и тот человек с каменным кулаком был прав – он не забудет этого. После еды он бесцельно проводит время возле киоска на автобусной станции, где продается все – от сладостей до кондомов. Он покупает несколько газет и журналов, запасаясь дополнительным чтением между книгами, зная, что впереди еще сотни миль дороги. Два с половиной часа спустя автобус въезжает в Саванну, штат Джорджия; он открывает Нью Йорк Таймс и на второй странице раздела искусства в колонке болтовни о предстоящих событиях и известных персоналиях видит небольшую фотографию своей матери. Видеть портрет матери – в этом нет ничего необычного для него. Он встречался с ними всю свою жизнь, потому что она – довольно известная актриса, и ее лицо должно часто видеться в прессе. Короткая заметка в Таймс, все равно, заинтересовывает его. Его мать, проведшая большинство своей жизни на съемках в телевидении и кино, возвращается на театральную сцену Нью Йорка, чтобы появиться после десятилетнего отсутствия здесь в постановке, открывающейся в январе. Другими словами, она, скорее всего, уже там, в Нью Йорке, репетирует свою роль; и это означает, что впервые за столько лет, за столько длинных, мучительных столетий, и мать и отец будут жить в Нью Йорке в то же самое время, в то же самое, что и их сын. Как странно. Как ужасно странно и непостижимо. Без сомнения, это ничего не значит, вообще ничего не значит, но все же почему, спрашивает он себя, почему он решил вернуться сейчас? Потому что решал не он. Потому что решение сделал за него тот кулак, что снес его с ног и скомандовал ему бежать из Флориды в место под названием Сансет Парк. Еще один бросок кубика, еще один номер из лотерейной урны, еще одна несуразица в мире несуразиц и бессмысленных бедствий.
Половину его жизни тому назад, когда ему было четырнадцать лет, он и его отец вышли погулять; только двое их, без Уиллы и Бобби, которые были где-то в другом месте в это время. Это был воскресный полдень поздней осени; и он и его отец шли рядом по Уэст Вилладжу просто так, без никакой цели, вспоминает он, просто так, просто гуляли на свежем воздухе, потому что погода была прекрасная в тот день; и после часа-полтора ходьбы они сели на скамейку в Абингдон Скуэр. По какой-то причине он начал спрашивать отца о своей матери. Как и где они встретились, например, когда они поженились, почему они не смогли оставаться вместе, и тому подобное. Он видел свою мать только два раза в год; и в последний его приезд в Калифорнию он спрашивал те же вопросы у матери об его отце, но мать не захотела говорить об этом – она просто отмахнулась от него одной-двумя фразами. Свадьба была ошибкой с самого начала. Его отец был приличным человеком, но они не подходили друг другу, и зачем вообще надо об этом говорить? Возможно, поэтому он и стал пытать отца своими вопросами тем воскресным полднем в Абингдон Скуэр четырнадцать лет тому назад. Потому что ответов матери было совсем недостаточно, и он надеялся, что отец окажется более восприимчивым и захочет поговорить об этом.
Сначала он увидел ее на сцене, начал его отец ничуть не смущенный вопросом, вспоминая без горечи, совершенно нейтральным тоном от начала и до конца, полностью уверенный в том, что его сын был достаточно взрослым, чтобы знать; и если мальчик задал этот вопрос, то он заслуживает прямой и честный ответ. Волею случая театр был расположен совсем недалеко от того места, где сейчас они находились, сказал его отец, старый добрый Серкл Реп на Седьмой Авеню. Это был октябрь 1978; и она играла Корделию в постановке Короля Лира; двадцатичетырехлетняя актриса с именем Мэри-Ли Суанн, с чудесным, по его мнению, именем для актрисы; и она играла очень неплохо – его взволновали сила и приземленность ее интерпретации; и не было ничего похожего на тех святых, жеманных Корделий, виденных им в прошлом. О чем должна Корделия говорить? Лишь о любви или молчать. Она произнесла эти слова в неторопливых паузах обращения к самой себе, и публике неожиданно открылась душа ее персонажа. Это было удивительное событие, сказал его отец. Трогательное до глубины сердца.
Да, его отец рассказывал охотно, но его рассказ был не совсем ясный, настолько неясный, что было трудно следовать его течению. Там были детали, конечно же, пересказы разных случаев, начиная с той первой ночи, когда его отец с режиссером после спектакля решили вместе выпить – они были старыми друзьями – и вместе с ними пошли новые члены труппы, включая Мэри-Ли. Его отцу в то время было тридцать два, неженатый и свободный, глава издательства Хеллер Букс, существовавшего уже пять лет и начавшего приносить прибыль, в основном, от издания второго романа Рензо Майклсона Дом Слов. Он сказал сыну, что влечение было взаимным. Внезапное совпадение, скорее всего, из-за того, что она была провинциальной девушкой из глубинки штата Мэйн, а он всю свою жизнь был ньюйоркцем, рожденным в обеспеченной семье, а в ее семье никогда не было достатка – дочь менеджера магазина хозяйственных товаров; и все же – вот они смотрят в глаза друг другу, сидя напротив за столом маленького бара на Шеридан Скуэр; у него – два университетских образования, у нее – школьный диплом и пару семестров в Американской академии Драматических Искусств; в промежутках между ролями – официантка; у нее нет совершенно никакого интереса к книгам, а его жизнь занята публикацией книг, но кто бы смог проникнуть в тайны желаний, сказал его отец, кто бы мог разобраться с непрошеными мыслями, врывающимися в сознание человека? Он спрашивает сына, понял ли он. Мальчик кивнул головой, но на самом деле он не понял ничего.
Он был ослеплен ее талантом, продолжил отец. Тот, кто бы смог сыграть так, какой была она в этой непростой, деликатной роли, должен был бы обладать такими глубинами в сердце и таким спектром чувств, с какими он никогда еще не сталкивался в своей жизни. Но представляться личностью и быть личностью – большая разница, неправда ли? Свадьба состоялась 12 марта 1979 года через чуть меньше пяти месяцев после их первого знакомства. Пять месяцев спустя семейная жизнь была уже под угрозой. Его отец не захотел надоедать ему повторением списка их споров и несовпадений, и вот, что было сказано: они любили друг друга, но не смогли быть вместе. Понял ли он хоть что-нибудь из этого?
Нет, совсем ничего. Мальчик совершенно запутался, но он очень боялся признаться в этом отцу, который изо всех сил старался разговаривать с ним, как со взрослым; но в тот день все было понапрасну – мир взрослых в то время был непостижим для него, и он не смог разгадать парадокс любви и непонимания, существующих в одном целом. Должно быть что-то одно – любовь или не-любовь, а не любовь и не-любовь в то же самое время. Он замер на время, собираясь с мыслями, и затем задал только один вопрос с одним точным ответом. Если они не нравились друг другу так сильно, почему у них появился ребенок?
Это было спасением для них, сказал его отец. Такой план на все случаи: завести ребенка вместе, а затем надеяться, что их любовь к сыну или к дочери заставит забыть о разочарованиях, нарастающих между ними. Вначале она была очень рада завести ребенка, сказал его отец, они был оба очень рады, но потом… Его отец внезапно остановился на полуслове, посмотрел куда-то в сторону, собираясь внутренне с силами, и наконец сказал: Она не была готова стать матерью. Она была слишком молода для этого. Я не должен был заставлять ее.
Мальчик понял так, что его отец решил не говорить всю правду. Он не смог все высказать и просто-напросто объявил, что его мать не хотела его? Это было уже слишком – такой удар никто бы не смог вынести; и молчание его отца и уход от жестоких деталей приводили только к неумолимому факту: его мать не хотела его, его рождение было ошибкой, и нет никакого смысла в его существовании.
Когда это началось? пытается он вспомнить. В какой момент ее ранняя счастливость перешла в сомнения, антипатию, тоскливость? Возможно, когда ее тело начало изменяться, думал он, когда его присутствие в ней начало проявляться миру, и стало невозможно не замечать вызревающее нечто, начинающее диктовать ей, не говоря и о тревоге, вызванной утолщением ее лодыжек и расширением ее зада, всем тем дополнительным весом, растянувшим ее когда-то стройное превосходное Я. Что же это было – проявление тщеславия? Или это был страх, что она потеряет опору в жизни, отложив в сторону работу именно тогда, когда ей стали предлагать лучшие, более интересные роли; и что она помешает своей карьере в самое неудобное для нее время и, может, больше никогда не вернется к такой ситуации? Три месяца спустя после того, как она родила его (2 июля 1980 г.), она уже пробовалась на главную роль в фильме Дугласа Флаэрти Невинный Мечтатель. Она ее получила, и через три месяца она уехала в Ванкувер, оставив младенца в Нью Йорке с его отцом и нянечкой Эдной Смайт, сорокашестилетней ямайской женщиной двухсот тридцати фунтов веса, ставшей его няней (а впоследствии и для Бобби) на следующие семь лет. Для ее матери с той роли началась звездная карьера в кино. У нее появились также и новый муж (Флаэрти, режиссер) и новая жизнь в Лос Анджелесе. Нет, сказал его отец, когда мальчик задал свой вопрос, она не хотела при разводе, чтобы он был с ней. Она страдала, как объяснил его отец, цитируя, что она сказала ему тогда, покинуть Майлса было самым сложным, самым жестоким решением для нее, но в подобных обстоятельствах, она ничего не могла поделать. Другими словами, его отец сказал ему тем днем в Абингдон Скуэр, она нас бросила. Тебя и меня, обоих. Она дала нам старый добрый подзадник – только и всего.
Но никаких сожалений, добавил он быстро. Никакой жалости или копания в прошлом. Его семейная жизнь с Мэри-Ли не состоялась, но это не означает, что все было неудачно. Время подтвердило, что настоящей целью тех двух лет, проведших с ней, была не попытка построить крепкую семью; это было – сделать сына, и, поскольку этот сын был единственным самым важным для него созданием на земле, все разочарования от встречи с ней были нужны – и не просто нужны, абсолютно нужны. Это понятно? Да. В то время мальчик не спрашивал отца о том, что тот говорил ему. Его отец улыбнулся, затем обнял его за плечо, прижал его к груди и поцеловал в голову. Ты мое сокровище, сказал он. Никогда не забудь этого.
Это было лишь однажды, когда они так говорили о матери. До того и после того разговора, состоявшегося четырнадцать лет тому назад, были лишь рутинные приготовления – условленные по времени телефонные звонки, покупка авиабилетов до Калифорнии, напоминания послать карточку в честь ее дня рождения, расчеты, чтобы его школьные каникулы не совпали с ее работой. Она могла исчезнуть из жизни его отца, но в его жизни она оставалась. С самого начала, тогда, у него были две матери. Его настоящая мать Уилла, которая его не рожала, и мать-по-рождению Мэри-Ли, которая исполняла роль экзотической незнакомки. Те прошлые года уже не существуют, но, возвращаясь к временам, когда ему была пять-шесть лет, он помнит, как летел через всю страну на встречу с ней – ребенок без сопровождающих под наблюдением стюардесс и летчиков, сидя в пилотной кабине перед взлетом, сладкие напитки, которые почти что не разрешались в их доме, огромный дом на холмах возле Лос Анджелеса с колибри в саду, красные и лиловые цветы, и мимозы, прохладная ночь после теплого, залитого солнцем дня. Его мать была невозможна красива тогда – элегантная очаровательная блондинка, которую сравнивали с Карролл Бэйкер и Тьюсдэй Уэлд, но более талантливее их, более разумная в выборе ролей; и видя, как он растет, для нее становилось явным, что у нее больше не будет детей, и от того она стала называть его маленьким принцем, ее драгоценным ангелом; и тот же мальчик, который был сокровищем для отца, стал и драгоценностью для матери.
Она никогда точно не знала, как вести себя с ним. Она искренне хотела дружеских отношений, полагал он, но не знала, как их наладить, как могла это сделать Уилла, и потому он редко чувствовал себя близким с ней. За один день, за один час она могла превратиться из полной кипучей энергией в погруженную в себя, из приветливой и игривой в отстраненную, полную холодного молчания. Он научился быть настороже с ней, быть готовым к непредсказуемым переменам, чтобы наслаждаться теми хорошими моментами, пока они были, и не надеяться, что они будут долго длиться. Когда он приезжал к ней, она, обычно, находилась между ролями, отчего атмосфера в доме становилась еще более экзальтированной. Телефон начинал звонить рано утром; и она говорила с ее агентом, с продюсером, с режиссером, со знакомыми актерами или принимала или отвергала приглашения на интервью и фотосъемки, появление на телевидении, на презентацию наград, и ко всему прочему – где ужинали прошлой ночью, на какую вечеринку отправиться на следующей неделе, кто-то сказал что-то о ком-то. Было всегда спокойнее, когда Флаэрти был дома. Ее муж помогал смягчать острые углы и контролировал ее ночные возлияния (она часто становилась неуправляемой, когда он работал), и потому что у него тоже был свой ребенок от предыдущего брака, приемный отец лучше понимал ребенка, чем его мать. У приемного отца была дочь Марги, Магги – он точно не помнит сейчас – девочка с веснушками и пухлыми коленками; и они иногда играли вместе в саду, поливая друг друга водой из шланга или представляя воображаемые чайные вечеринки, навроде той с Сумасшедшим Шляпником из Алисы в Стране Чудес. Сколько ему было тогда лет? Шесть? Семь? Когда ему было восемь или девять, Флаэрти, англичанин от костей до мозга, совершенно безразличный к бейсболу, вызвался отвезти их однажды на игру Доджерс с ньюйоркскими Метс. Он был очень дружелюбный, старина Флаэрти, человек многих достоинств, но, когда Майлс вернулся в Калифорнию через шесть месяцев, Флаэрти уже не было в доме, и его мать занималась вторым разводом. Ее нового мужчину звали Саймон Корнголд, продюсер недорогих фильмов, независимых от Голливуда; и, вопреки всем вычислениям, базирующимся на ее семейной жизни с его отцом и Дугласом Флаэрти, Саймон Корнголд остается ее мужем и по сей день после семнадцати лет брака.
Когда ему было двенадцать лет, она зашла в его комнату и попросила его снять одежду. Она хотела видеть, как он развивается, сказала она, и он беспрекословно подчинился ей обнажившись, зная, что отказать ей он не смог бы ни за что. Она был его матерью, и, как бы не было ему страшно или стыдно стоять голым перед ней, она имела право видеть тело сына. Она быстро разглядела его, сказала, чтобы он повернулся кругом, и потом, бросив внимательный взгляд на его гениталии, она добавила: Многообещающе, Майлс, но все еще рано.
Когда ему исполнилось тринадцать лет, в год внезапных изменений его внутреннего и внешнего состояния, она вновь спросила его об этом же. Он сидел у бассейна в этот раз, одетый лишь в купальный костюм, и, хоть в этот раз он был более нервный и напряженный, чем в прошлом году, он встал, скрутил с себя плавки и показал ей то, что она хотела увидеть. Его мать улыбнулась и сказала: Этот малыш уже не малыш, да? Берегитесь, девушки. Майлс Хеллер здесь.
Когда ему стало четырнадцать, он просто отрезал – нет. Она посмотрела на него с каким-то разочарованием, показалось ему, но настаивать не стала. Тебе решать, мальчик, сказала она, и затем вышла из комнаты.
Когда ему исполнилось пятнадцать лет, она и Корнголд решили провести вечеринку в их доме – огромную шумную вечеринку с сотней гостей – и, хоть у большинства приглашенных были знакомые лица актеров и актрис, виденных им в кино и на телевидении, лица известных и неплохих актеров, которые когда-то растрогали или рассмешили его, ему было трудно вынести шум, звучание всех болтающих между собою голосов; и после того, как он провел с ними около часа, он не выдержал и убежал по лестнице наверх в свою комнату и прилег там с книгой, с его книгой в то время, какой бы она и ни оказалась; и он помнит, как он думал тогда, что лучше бы провел весь вечер с писателем этой книги, чем с громогласной толпой внизу. После пятнадцати-двадцати минут его мать ворвалась в его комнату с бокалом в руке – она выглядела и сердитой и немного подавленной. Что ты тут делаешь? Ты разве не знаешь, что происходит внизу, и как ты можешь просто уйти посередине всего? Такой-то и такая-то были внизу, и такой-то и такой-то были внизу, и такая-то и такая-то были внизу, и кто дал ему право оскорблять их уходом наверх, чтобы читать дурацкую книгу? Он пробовал объяснить ей, что чувствовал себя неважно, что у него заболела голова, и какая разница от того, если бы он не был в настроении болтаться внизу и трепать языком с этими взрослыми? Ты совсем как твой отец, сказала она, становишься все более и более раздражительным. Протухшей кислятиной. А когда-то ты был таким забавным малышом, Майлс. А сейчас ты стал какой-то таблеткой. По непонятной причине ему показалось смешным слово таблетка. Или это был вид его матери, стоявшей с бокалом водки и тоника, что развеселил его, и то, что сконфуженная и гневная мать пыталась обидеть его словами кислятина и таблетка; и внезапно он начал смеяться. Что тут смешного? спросила она. Я не знаю, ответил он, я просто не могу остановиться. Вчера я еще был твоей драгоценностью, а сегодня я – таблетка. Сказать тебе по правде, я – ни то и ни другое. В то же самое мгновение, самое лучшее мгновение с его матерью, ее выражение лица сменилось с гневного на мирное, с одного на другое – в одно мгновение, и внезапно она тоже засмеялась. Да чтоб меня, сказала она. Я веду себя как настоящая стерва, правда?
Когда ему стало семнадцать, она пообещала ему, что приедет в Нью Йорк на его школьный выпускной вечер, но так и не приехала. Забавно, но он не рассердился из-за этого на нее. После смерти Бобби вещи, когда-то бывшие важными для него, стали совсем ненужными. Он решил, что она забыла. Забыть – это не грех, это просто человеческая ошибка. В следующий раз, когда она увиделась с ним, она извинилась даже раньше того, как он смог вспомнить об этом сам; о чем он, в общем-то, и не собирался ей говорить в любом случае.
Его поездки в Калифорнию стали гораздо реже. Теперь он был в колледже, и в течение трех лет, проведенных им в Браун, он съездил к ней только два раза. Конечно, были и другие встречи – обеды и ужины в ньюйоркских ресторанах, несколько продолжительных телефонных разговоров (всегда по ее инициативе) и совместно проведенные выходные в Провиденс, где с ними был и Корнголд, чьим десятилетием непоколебимой лояльности ей можно было только восхищаться. По-своему Корнголд напоминал ему отца. Не внешним видом или разговором или походкой, а своей работой – выпускать недорогие, стоящие фильмы в мире производства мега-супер-мусора – точно как и его отец пытался выпускать стоящие книги в мире сиюминутных новинок и невесомых пустышек. Его мать выглядела еще хорошо в свои сорок лет, да и она сама, похоже, была более довольна собой, чем в ее ранние годы – меньше вовлечена в интриги вокруг нее, более открыта окружающим. Во время того же уикэнда в Провиденс она спросила его, что он думает делать после школы. Он не знал, ответил он. Один день он был убежден, что станет доктором, на другой день он склонялся к фотографии, а на следующий день после всего он планировал стать преподавателем. Не писателем и не издателем? спросила она. Нет, не похоже, сказал он. Ему нравилось читать книги, но не было никакого интереса в их создании.
Затем он исчез. Его стремительное решение скрыться никак не было связано с его матерью, но в тот момент, как он покинул Уиллу и отца, он покинул и мать. К лучшему или к худшему все должно было случиться, и все должно быть так, как было сейчас. Если он навестит свою мать, то она немедленно свяжется с его отцом и расскажет, где он сейчас, и тогда все, чего он хотел добиться за прошедшие семь с половиной лет, станет ничем. Он стал для них заблудшей овцой. И эта роль – для него; и он будет играть эту роль и в Нью Йорке, даже если судьба приведет его назад к стаду. Сможет ли он пойти в театр и постучаться в дверь ее гримерной? Сможет ли он позвонить в дверь квартиры на Даунинг Стрит? Возможно, но вряд ли – по крайней мере так он думает сейчас. В конце концов, он не чувствует себя готовым к этому.
Недалеко от Вашингтона, на последнем участке дороги, начинает идти снег. Они въезжают в зиму, понимает он, холодные дни и длинные ночи его мальчишеских зим; и внезапно прошлое становится его будущим. Он закрывает глаза, вспоминая лицо Пилар, проводя руками по ее отсутствующему телу; и тогда, в темноте под закрытыми глазами, он видит себя черным пятнышком в снежном мире.