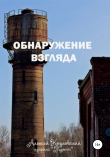Текст книги "Виноватый"
Автор книги: Платон Головач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
«Собственноручные подписи председателя и секретаря Н-ского сельсовета, товарищей таких-то. В-ский райисполком свидетельствует».
Перед тем, как написать это, деловод пересмотрел поселищный список деревни, в которой жил Ключинский, и подумал:
«Пусть так и идет бумажка от имени сельсовета, он и отвечать будет, если что заварится, а мы подпись заверим и все».
* * *
Собрание партячейки техникума на этот раз собралось аккуратно, как никогда. На собрание пришло много беспартийных, и зал был полон еще до начала собрания.
За три дня до собрания бюро ячейки рассматривало дела Ключинского и Алеся Шавца. После заседания бюро уже все знали, что Алесь обвиняется в карьеризме, в том, что скрыл свое подлинное социальное происхождение. Это стало темой горячих бесед и споров. Часть партийцев верила Алесю, его заявлению, в котором он объяснял, что ничего не знал о таком прошлом своего отца, и защищала Алеся, а другая часть зло нападала на него и ничего не хотела слышать в его оправдание.
Сам Алесь последние дни старался меньше встречаться с товарищами и побольше оставаться наедине. Это его поведение у тех, кто понимал его, вызывало сочувствие, а другим давало еще одну зацепку для обвинений.
На собрание Алесь пришел тоже позже других и сел сзади, на краю скамьи. Соседи по скамье, до этого о чем-то бурно спорившие, сразу примолкли.
Алесь сидел молча. Он хотел досконально разобраться в событиях, разыгравшихся в последние дни вокруг него.
В связи с этим он по нескольку раз передумывал свои поступки как комсомольца и партийца в прошлом. Припомнил два случая выпивки с друзьями и злился на себя за это. Вспомнил, как в первый год, когда стал комсомольцем, пошел из-за девчат на всеношную и пел в церковном хоре во время крестного хода. Никак не мог простить себе этого поступка. До мелочей вспомнил все, что случилось за эти, прожитые в партии и комсомоле, годы, и, как ни напрягал мозг, не веря даже себе, не мог припомнить, чтобы слышал что-нибудь о прошлом отца. Не поинтересовался как-то этим, а отец никогда ничего о своей службе в охранке не говорил. Негодовал, нервничая, на себя, что не расспросил подробно отца о его прошлом. Из-за этого крепла обида па отца.
Ощущение своей невиновности в скрытии социального происхождения и ощущение виновности за другие поступки, припомнившиеся из прошлого, и обида на отца нервировали и мучили. Особенно мучило его неверие окружающих в его невиновность. Он никак не мог понять этого. Отдавшись своим мыслям, Алесь не слышал, как началось собрание и как секретарь ячейки говорил по делу Ключинского. Он уловил лишь последние слова секретаря, предлагавшего дело Ключинского, нак неоформленного еще кандидата партии, передать на рассмотрение педсовета, чтобы педсовет решил вопрос об его исключении из техникума.
Собрание ждало дела Алеся, и потому никто не стал говорить о Ключинском. Предложение секретаря приняли.
К делу Алеся готовился и зал, вдруг громко зашумевший, и секретарь ячейки, с видом какой-то торжественности разложивший перед собою листки блокнота, исписанные карандашом, и документы по делу Шавца. Он склонился над столом и перечитывал написанное на блокнотных листках. Потом выпрямился и два раза кашлянул, что означало начало его выступления. Председатель позвонил, чтобы успокоить собрание.
Из зала кто-то нетерпеливым, злым голосом крикнул:
– Тише! Слушайте, черт вас...
Секретарь выждал, пока собрание утихло, и начал говорить. Он подробно, с подчеркиванием отдельных мест своей речи, рассказывал всю историю «дела Шавца», как он назвал этот вопрос.
– Когда я в первый раз,– говорил секретарь,– вызвал Шавца и спросил, кто его отец, он наивно ответил, что его отец в прошлом году умер. Когда я потом спросил что делал его отец до революции, он повторил слово в слово то, что при поступлении в техникум написал в анкете. Когда я спросил о службе отца в полиции, Шавец категорически отрицал это и даже обиделся на меня... Когда же наконец я вторично вызвал Шавца и поставил перед ним этот вопрос ребром и показал ему документ, что его отец служил в охранке, тогда он заявил, что ничего не знал о службе отца. Как видите, последовательности у Шавца не хватало...
Секретарь на мгновение замолчал. В зале кто-то словно про себя проговорил:
– Хорошенькое, не знал...
Тогда кто-то крикнул секретарю:
– Не мудри, а говори, что надо...
Секретарь опять говорил.
– ...А в последний раз, когда я показал Шавцу письмо от его лучшего друга, партийца, не поручившегося за него, Шавец ничего лучшего не придумал, как стукнуть дверью и убежать... Нам Шавец заявил, что он ничего не знал о службе своего отца в охранке. Было бы лучше, если бы Шавец на этот вопрос дал искренний ответ. Он его не дал. И как можно верить тому, что он не знал? Как это он не знал о своем отце, с которым столько лет прожил?.. Пускай каждый из вас, товарищи, на себе это проверит... Для нас совершенно ясно, что не знать этого Шавец не мог. Он скрыл прошлое своего отца от всех нас, а на собраниях всегда горячо распинался за классовую ненависть к врагам, за чистоту идеологии в техникуме.
И тут подходит поговорка: когда вор хочет убежать, он громче всех кричит: держи вора!..
Секретарь прочитал постановление бюро ячейки и замолчал. Собрание зашумело и долго не могло успокоиться. Председатель подождал немного, потом стал звонить. Спросил, кто хочет слова.
Зал не откликался и шумел. Кто-то крикнул, чтобы дали слово Шавцу. Зал поддержал.
Алесь вышел и стал на сцене. Он прямо смотрит в зал на друзей, хочет разгадать их мысли, их настроение и волнуется. Зал молчит и ждет. Тогда Алесь сказал:
– Мне очень трудно оправдываться, очень трудно, потому что вам трудно поверить в то, что я ничего не знал о прошлом своего отца. Но я как партиец заявляю еще раз перед всем собранием, что ничего не знал. Больше я ничего сказать не могу...
Обида болью сжимала грудь. Хочется Алесю крикнуть что-то такое, чтобы его поняли, и оттого, что не находит для этого крика слов, хочется плакать и идти на холодную улицу, в снег, чтобы никто не видел его.
А зал шумит, тоже волнуется.
Кто-то кричит из зала, чтобы Алесь не финтил и говорил правду. Он не слышит крика, сходит со сцены и опять садится на свое место. На сцене уже кто-то другой говорит.
– Я не знаю, правду ли говорит Шавец, но когда я с ним дружил, он мне во время каникул прислал письмо, полное пессимизма. В письме он писал, что его родители живут бедно, будто нищие, и что ему их очень жалко... Я думаю, что этот факт любопытный...
Алесь хочет узнать по голосу, кто это говорит, но тот умолкает, и председатель дает слово новому. Алесь, не поднимая головы, чтоб не заметили друзья, как он волнуется, слушает.
– Шавец хитер,– говорит этот новый,– он умел очень удачно маскироваться и отводить от себя всякую подозрительность. Достаточно вспомнить, как он кричал о классовых врагах, словно первый большевик... А еще, я думаю, стоит припомнить, как он яро нападал на групповых занятиях на комсомольцев, крестьянских и рабочих хлопцев, за идеологические ошибки. Эти явления надо рассматривать вместе. Этим он хотел всегда показать свои знания и политическую грамотность. Что это, если это не мещанский эгоизм... Он примазался к партии и своими криками делал себе карьеру... Я предлагаю исключить его без всяких разговоров...
Зал дружно зашумел в ответ. Кто-то в углу захлопал в ладоши. Кто-то крикнул, что выступающий мелет бессмыслицу.
На сцене член бюро ячейки.
– Я на бюро голосовал против исключения Шавца из партии,– говорит он.– Никто не отрицает, что его отец служил...
Из зала несколько голосов прерывают его криком:
– Он сам отрицал!..
– Он не отрицал, а заявил, что не знал. Дело и должно разбираться, знал он или нет. Мы все Шавца знаем как искреннего честного партийца. Я верю, что он ничего не знал...
По залу пронесся дыханием некоторого удовлетворения шум тихих голосов.
– Верю, ибо стоит только подумать, чем можно оправдать обвинение? Только формальным доводом, как это он про своего отца и не знал? На первый взгляд это очень веский аргумент, а по существу это только голый формальный довод. А как мог Шавец знать про отца, что тот в охранке служил? Он в семь лет поехал в деревню с матерью, а отец на войну. Отец во время службы не мог говорить правду о себе, тогда бы он не был служащим охранки, если б об этом знали. После революции он не мог говорить об этом, потому что боялся, чтобы его не привлекли к ответственности. Почему ж нам не учесть это? Я это вполне допускаю и, зная Шавца, голосую против исключения из партии. За исключение только голый формализм.
Говорили еще многие за Алеся и против. Выступления часто перебивались репликами, вопросами, шумом одобрения, согласия или несогласия. После выступления члена бюро ячейки в защиту Алеся собрание ощутило некоторое облегчение. Многие для себя решили после этого, как голосовать.
Поздно ночью секретарь объявил предложение бюро ячейки об исключении Шавца Алеся из членов партии и из техникума за скрытие своего социального происхождения.
Алесь боится поднять голову, чтоб посмотреть, как голосуют, он боится, что большинство будет против него. По шороху рубашек и по шуму в зале он догадывается, что за постановление бюро дружно подняла руки целая группа партийцев. Недалеко от себя он услышал вопрос:
– Как ты?
– Я против исключения,– ответил другой голос.
– А почему? А если правда, что он утаил?..
И говоривший поднял руку.
За постановление бюро ячейки насчитали одиннадцать человек. Когда начали считать, кто против, оказалось тоже одиннадцать. Зал немного умолк, а потом дружно зашумел.
– Считай заново! Заново!
Секретарь ячейки развел руками.
– Одного же голоса еще не хватает, может, кто вышел или не голосовал?
– Это я забыл руку поднять, я не голосовал,– откликнулся председатель собрания: – За шумом забыл...
– А за что ты голосуешь? – закричали в зале.
– Я отдаю свой голос за бюро ячейки.
В зале опять зашумели. Секретарь объявил, что двенадцатью голосами против одиннадцати Шавец исключается из партии.
Собрание расходилось. Алесь поднялся и пошел к двери.
Когда проходил мимо одного из друзей, с которым работал всегда в лаборатории, тот отвернулся.
У самой двери кто-то гадкими словами бросил в лицо Алесю:
– А как других чистил? Все они такие!
Ему ответил другой.
– Теперь его карьера кончена!..
Алеся душила обида. Он рванулся от двери и почти бегом по коридору бросился на улицу. Холод, обдавший лицо, вернул его к реальности, и от этого обида стала еще сильнее. Он пошел медленно по улице, дошел до городского сада и там сел на скамью. В стороне техникума умолкли голоса возвращающихся с собрания. На улице время от времени скрипели шаги спешащих домой людей. В саду скоро погасли фонари, и густые сумерки завладели садом.
Алесь откинулся на спинку скамьи, положил на руки голову и так лежал. Он не чувствовал, как стыли ноги, как мороз все сильнее щипал щеки, нос, уши и тонкими струйками от ног разливался по всему телу и обнимал его. Не слышал, как кто-то подошел к скамье и тронул за плечо. Это был член бюро ячейки. Он испуганно дернул его за воротник куртки. Алесь открыл глаза, поднялся со скамьи и почувствовал, что ноги болят, окоченели, и сами зубы от этого начали часто стучать. Тело дрожало. Товарищ взял его за рукав куртки и тянул домой.
– Ты это что ж, простудиться нарочито захотел, или что? Нашел время, когда в саду сидеть... Брось так переживать. Я тебя заверяю, что в партии ты останешься. Завтра же напиши подробные заявления в контрольную комиссию и в апелляционную комиссию, чтоб восстановили в правах студента. Я напишу от себя... А убиваться так не надо.
Алесь, словно чужими ногами, ступал по тротуару. Теперь он почувствовал всю силу холода. Тело его дрожало, а зубы не переставали стучать.
Товарищ шел рядом, держал его под руку и взволнованным голосом уговаривал:
– Ты это напрасно так болезненно реагируешь на все. Из партии тебя не исключат, будь уверен... А то вон что надумал...
* * *
Когда Алесь открыл дверь физического кабинета и хотел войти, преподаватель загородил собою дверь и объявил, чтобы слышали все студенты:
– Директором запрещено всем преподавателям допускать вас, как исключенного, на лекции и запрещено принимать от вас зачеты. Вот и все.
Алесь повернулся и, не прикрыв двери, пошел к директору.
– Я подал апелляцию и считаю неправильным распоряжение, чтобы не допускать меня на лекции,– говорил он.
Директор спокойно смотрел на Алеся и отвечал:.
– Вы еще слишком молоды, чтобы объяснять мне, что правильно, а что нет. Апелляция – это ваше личное дело. Вы могли писать хоть десять апелляций, но сейчас у меня есть постановление педсовета, которым я руководствуюсь. На основании этого постановления я распорядился лишить вас стипендии и интерната и довожу до вашего сведения.
– Как же это... я ведь подал апелляцию, меня исключили неправильно. Я уверен, что меня восстановят...
Директор усмехнулся.
– Относительно правильности – я не знаю, спросите об этом секретаря ячейки... Я только сообщил вам, молодой человек, о том, что я сделал во исполнение постановления...
Алесь вышел из кабинета директора и медленно начал ходить по коридору, чтобы обдумать свое положение. В свежевывешенном номере стенной газеты была напечатана статья об его исключении из партии и из техникума. Над статьей большими буквами были выведены слова:
ЖЕЛЕЗНОЙ МЕТЛОЙ ВЫМЕТЕМ ИЗ ПАРТИИ И РЯДОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА КЛАССОВЫХ ВРАГОВ.
Алесь не дочитал до конца статьи и вышел во двор. Все в техникуме и вокруг него больно напоминало то, что недавно случилось... От этого хотелось бросить все и идти куда глаза глядят. Только сочувствие многих партийцев и их обнадеживания немного помогали сохранять спокойствие и терпеливо ждать решения дела. Они собрали немного денег и внесли их за Алеся в столовую техникума. Спал Алесь в эти дни на одной койке с товарищем.
Через пять дней после того, как послал заявление, Алесь направил в апелляционную комиссию запрос, в котором просил сообщить ответ на свое заявление. Еще через двенадцать дней из комиссии был прислан открыткой ответ. На открытке машинкой было напечатано несколько ничего не говорящих слов.
«Ваше дело находится в стадии решения.
Председатель комиссии П. Заслонка».
А в тот же день вечером в комнату к Алесю зашли группой товарищи и принесли ему еще двенадцать рублей.
– Стадия решения – ты сам знаешь, что это означает. Садись в поезд и сегодня езжай туда. Требуй, чтобы при тебе решили вопрос.
– Надо ли? Может, обождать постановления контрольной комиссии?
– Надо. Контрольная комиссия восстановит тебя в правах члена партии, будь уверен. Проверит и восстановит. А это надо сейчас решить, потому что через две недели конец занятий.
– Езжай! Обязательно!
В десять часов утра на второй день Алесь стоял недалеко от двери комнаты, в которой находился председатель апелляционной комиссии, и ждал приема. Он уже несколько раз прочитал наклеенную на дверь комнаты бумажку, что прием по делам апелляций происходит с двенадцати до двух часов. В приемной сидело на табуретах еще три человека. Они о чем-то тихо беседовали между собой.
На стене часы пробили двенадцать. Алесь видел, что обе стрелки часов сошлись на цифре двенадцать, но вслед за каждым ударом считал:
«Один, два, три, восемь...»
Люди, сидевшие на табуретах, беседовали между собой. Алесь решил, что они здесь по какому-нибудь другому делу, и, подождав еще минуты две, зашел в комнату председателя комиссии.
Председатель апелляционной комиссии Парамон Заслонка сидел, низко наклонившись над широким столом и, вонзив взгляд узеньких глаз в лицо Алеся, слушал. Когда Алесь кончил, он долго молчал, все так же глядя в лицо Алесю, потом поднялся со стула, засунул левую руку в карман брюк, в правую взял толстый, с синим и красным концами, карандаш и начал, размахивая карандашом, говорить.
– Я ничего вам обещать не могу. Дело ваше рассмотреть сейчас не можем. Я уже сообщал вам, что ваше дело находится в стадии решения...
– А когда же можно ждать решения?
– Наверное, на ближайшем заседании, если к тому времени будут выяснены все обстоятельства... Можете подождать, если хотите...
– У меня со средствами трудно, мне товарищи собрали, я долго ждать не могу...
– Тогда возвращайтесь...
– Я ведь вам говорил, что там меня выгнали из общежития, лишили стипендии.
– Это дело вашего директора, а я здесь ни при чем. Если хотите, подождите, я поставлю ваше дело на ближайшее заседание... Но меня, все же, знаете, удивляет, как это вы ничего не знали о своем отце? Вы понимаете, что ваше оправдание совсем беспочвенное. Оно никак не вяжется с логическими рассуждениями... Вы упрямо утверждаете, что ничего не знали. А как же это вы могли не знать про своего отца? А?
Алесь молчал. К горлу все ближе подступала комочком обида. Вот-вот она сожмет горло, и тогда Алесь не сумеет произнести ни одного слова.
– Ну, а даже,– продолжает Заслонка,– если и правильно, что вы не знали про отца, он все-таки в полиции, в охранке служил?..
– Служил, но...
– Ну, что «но»?.. Это «но» ничего еще не значит. Вы, я на минуточку допускаю, могли и не знать, но отец ведь служил в охранке. Вы по происхождению социально чуждый советской школе, значит...
– Но при чем же я? Неужели я должен отвечать за прошлое отца... Я был партийцем, работал...
Председатель поднял глаза на Алеся.
– А ячейка вас исключила?.. Тогда для меня это дело совсем ясное, бесспорное... Нечего и голову ломать. Могу вам в таком случае, хоть это и нелегко для вас, заранее сказать, что комиссия подтвердит постановление педсовета... Да... Прощайте.
Заслонка опять сел на стул. Алесь постоял немного перед столом, оглядел комнату вокруг и, шатаясь, вышел. Ноги его дрожали так, что он не мог спуститься по ступеням со второго этажа и, опершись на перила, остановился отдохнуть.
Потом долго еще стоял на высоком крыльце у двери дома, где помещалась комиссия, думал, куда пойти.
«Может, стоит к Смачному зайти, ему рассказать?.. Может, он поймет? Нет, не стоит... не стоит обременять его этим делом, лучше так пускай...»
Сошел с крыльца и ближайшей улицей направился в сторону вокзала.
* * *
Весь день Алесь на товарной станции сгружал с железной платформы каменный уголь. Когда работа была закончена, он в конторе получил расчет за неделю случайной работы и пошел в сад. Выбрав в середине сада место па скамье, он достал из кармана блокнот, карандаш и начал писать письмо. Несколько раз начинал он, потом перечитывал написанное, вырывал и начинал писать заново. Хотелось написать много, обо всем, что пережил за это время, что передумал. Но, когда брал карандаш и потом перечитывал написанные первые строки, появлялась мысль, что тот, кому он пишет, не поймет его так, как надо, искренности их не почувствует, а может, поймет как слова, написанные нарочито с расчетом па сочувствие, и Алесь комкал незаконченное письмо и отбрасывал его.
В саду пачинало смеркаться. Тогда Алесь, торопясь, написал всего несколько слов па листке блокнота, вложил листок в конверт и написал адрес. Это было четвертое письмо Алеся в Минск Денису Смачному.
Когда немного стемнело, Алесь собрался на вокзал.
Уже восьмой день, как студенты техникума поехали на каникулы домой или на работу. Многие из них перед отъездом предлагали Алесю ехать вместе, а когда он не согласился, просили, чтобы он ждал, пока сообщат свой адрес ему, чтобы он обязательно приехал. Такое отношение товарищей и письмо, полученное на днях из контрольной комиссии, обнадеживали его. Письмо было небольшое, но написанное тепло и ободряюще, хотя дело его все еще не было решено. Из комиссии по рассмотрению апелляций не было никакого сообщения.
После того как закончилась его случайная работа но разгрузке угля, в тяжелом раздумье Алесь решил оставить этот город навсегда. Сегодня получил расчет за неделю работы по рублю и семьдесят пять копеек за день. Это составило сумму, достаточную для того, чтобы поехать как можно дальше на юг в поисках работы.
Алесь медленно шел через сад, словно хотел навсегда сохранить, в памяти образы знакомого сада, города. Над садом вились стаей галки и громко каркали. Деревья были уже одеты в молодые зеленые листья и заслоняли темнеющее в звездном свете высокое небо. В саду становилось все темнее. Где-то за городом, в полевом просторе, куда зашло солнце, родились сумерки и, медленно надвигаясь на город, укутывали его в громадный мягкий полог ночи.
На вокзале Алесь купил билет до одной из южных станций и, когда подошел поезд, сел в вагон. В вагоне он почувствовал себя совсем одиноким. Больно заныло сердце. Хотелось, чтобы поезд скорей отошел, чтобы забыть обо всем в большой дороге.
Когда вагон, тихонько вздрагивая, загремел колесами и покатился по рельсам, какая-то сила заставила Алеся подойти к вагонному окну и прижала его к стеклу.
За окном от вагона медленно отплывал все дальше и дальше и скоро пропал в застланной густым туманом и ночными сумерками дали город с огнями. Алесь плотнее прижимался горячим лицом к оконному стеклу и искал взглядом в темной дали оставленный город...
Мисхори – Минск, 1929 год
Переводчик Николай Горулёв.