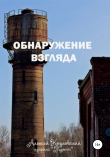Текст книги "Виноватый"
Автор книги: Платон Головач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
За плечами председателя по сцене ходил, нервничая, бывший офицер, руководитель кружка. Внизу у сцены, опершись на стол, стоял учитель пения, смотрел куда-то в сторону и без всякой причины иронически улыбался. Вид у него был такой, будто он очень жалеет кого-то.
Говорил еще кто-то из кружковцев, что если возьмет ячейка верх, то не получит ни помощи, ни книг, и предлагал вступить в существующий кружок.
Его заглушил шум и выкрики. Потом говорили еще Алесь и Сергей.
Когда начали голосовать за предложение Алеся: кто за то, чтобы культурно-просветительный кружок распустить и всю работу вести ячейке,– в классе опять поднялся невообразимый шум. Обе стороны желали навербовать себе как можно больше голосов. Пять человек считали поднятые вверх руки. Потом считали тех, кто против. На восемь голосов у ячейки оказалось больше. Культурно-просветительный кружок был распущен.
Из класса по одному выходили кружковцы. Остались некоторые из них, ученики и председатель исполкома. Он злился.
– Не надо было так делать... Ну, распустили, а что дальше сделаете, а?
И стоял перед молодежью, ожидая ответа. Кто-то ответил ему:
– Спектакль поставим.
В классе захохотали.
– Поставим, поставим!.. Посмотрим, как поставишь, тогда скажешь...
Собрание разошлось. Через два дня Янка с Терешкой переписывали библиотеку культурно-просветительного кружка, а комсомольцы переносили книги в помещение исполкома и раскладывали в шкафу. Сергей хромал, гуляя по комнате, рассматривал подолгу два толстых тома путешествий Пржевальского в блестящей тисненой обложке и хвалил комсомольцев:
– Вот оно, брат, и молодцы вы! Это ж такая библиотека, что и мы кое-кому можем дать книг, а не то, чтобы еще просить у кого... Только чтобы берегли их, вот что. Чтобы описаны все были...
Он подходил к шкафу и опять подолгу рассматривал книги.
Через две недели кружок ставил «Осиное гнездо». Это был первый спектакль.
После собрания многие из бывшего культурно-просветительного кружка вовсе уклонились от работы, часть перешла в кружок ячейки. Руководил, кружком учитель, преподаватель математики. Прежде он время от времени участвовал в постановках.
На этом же спектакле, в конце, кружок пропел «Интернационал».
Зал во время спектакля был переполнен.
Эта была первая победа комсомольцев.
* * *
Рыгор недалеко от хаты сгребал сено. Он собрал большую красивую охапку, поднял с земли и положил ее на наполовину сложенную копну. Вытер рукавом пот с шеи и сел у копны отдохнуть.
Вдруг кто-то подкрался сзади, закрыл руками глаза и не пускал.
– Тимох?.. Пусти!.. Ну?.. А-а-а... знаю, Алесь...
Алесь отпустил руки.
– Заверши копну да бери винтовку, и пойдем в волость. Пойдем на почь в Алесевку.
Рыгор завершил копну, сказал отцу, что его зовут зачем-то в ячейку, и пошел домой. Дома вынул в кладовке из-за кадки винтовку немецкой системы, отдал ее Алесю почистить, а сам сел обедать.
Вскоре во двор пришла мачеха Рыгора.
– Опять с этими игрушками? Опять куда-то отправились? А? Вот нет на вас управы... Идите! Может, головы свернете... Чуть не каждый день идет, а старик работает один... Работы не нашел, а обед сам разыскал... Чтоб вы лопнули...
Рыгор бросил есть, надел шапку, и пошли.
В исполкоме еще никого из хлопцев не было. Алесь повел Рыгора в церковный двор за ограду и сел в углу двора под липами.
– Садись... Ну, что ты думаешь делать?
– Не знаю... Уже из дому гонят. Работать надо, а тут вот это... Черт его знает, что делать?..
– А не бросишь?
– Я? Не брошу! Лучше голодный уйду в свет, а не брошу...
– Пройдет... А разве у меня лучше? Отец на меня не кричит и вообще ничего не говорит, но это еще хуже, потому что я сам знаю, что он-то молчит, а про себя думает очень недоброе. Сегодня я беру из-под кровати винтовку, а он сидит молча на лавке и так как-то на меня смотрит, что мне страшно стало. Если б он ругал, так я бы хоть отговаривался. А то он молчит, ни слова, и я молча пошел... Я, может быть, еще зиму пробуду так, а потом пойду из дому, не выдержу... хоть куда...
– И я поехал бы куда-нибудь, чтобы учиться...
– А мне, брат, в уездном комитете обещали на будущий год послать куда-нибудь...
– Если бы вместе! Вот бы хорошо! Вот бы тогда поработали! Тогда бы не только этого, сына священника, а всех бы по политике загнали.
В слово «политика» Рыгор вкладывал умение разбираться во всех событиях, происходящих в мире, и в написанном в газетах и книгах.
– Тебе легче политика дается,– говорил Рыгор,– а мне эта политика очень трудна. Ты вот скажи, как ты доклады учишь?
– Учу?.. Я совсем докладов не учу.
– А как же ты?
– Почитаю книжку, какую надо, или газету и делаю.
– Ну?!
– Ей богу!
– А я ж, брат, замучился, когда поручили мне доклад.
– Какой?
– А вон, как коммунисты захватили власть... Я думал, думал и чуть не плакал, а потом взял книжку, полез на чердак, чтобы мачеха не видела, и заучил наизусть всю книжку. Да и то запутался, когда хлопцы захохотали... Не умею я так, как ты.
– Надо было бы поехать учиться куда-нибудь...
– А секретарем ячейки тогда кто?
– Янка останется. Я уже довольно побыл. Ячейка у нас уже большая, пусть он и побудет.
Алесь достал из кармана небольшую в синей картонной обложке книжечку и показал Рыгору,
– Видел?
– Не-а!.. Что это?
– Билет. И тебе прислали...
Рыгор долго держал в руке книжечку, поворачивал ее, перелистывал, рассматривал. Потом, возвращая Алесю, несмело, с удивлением спросил:
– А Сергей говорил, что в шелковой?..
– Глупый, где это шелку набраться. Мало что он говорил.– Алесь спрятал билет в карман, сдвинулся с места, на котором сидел, и поднял незаметно дерн. Под дерном лежали обоймы с патронами.
– У меня здесь около сотни штук и дома немного. Эти боюсь дома прятать, чтобы дети не нашли, а тут никто не знает... На и тебе две обоймы.
Алесь подал две обоймы поржавевших слегка патронов. Достал еще четыре обоймы и, стряхнув с них песок, положил себе в карман.
Через час пять человек с винтовками, по-разному одетые, шли в Алесевку. Алесь и Рыгор были босые и без свиток. Начальник этой группы, местный партиец-красноармеец, совсем недавно вернувшийся домой, был в сапогах и красноармейской одежде. Два других – партийцы-мужчины – были в ботинках.
В Алесевке их встретили с некоторым удивлением, но в хату председателя сельсовета, где хлопцы остановились, вскоре по заданию председателя зажиточные алесевцы начали приносить все, что следовало сдать по разверстке. Красноармеец взвешивал масло, сало, рожь, а Алесь внимательно записывал все на бумагу против фамилии того, кто сдавал, и давал тому расписаться.
Приносили разверстку по одному, медленно, и затянулось это до самой ночи.
Недалеко от хаты председателя была вечеринка. Оттуда доносились игривые звуки гармошки. Гармонист играл польку. Рыгор стоял с винтовкой у ворот и слушал. К нему подошел старый крестьянин, оглянулся и тихо сказал:
– Вы стерегитесь, Булгак может прийти. А вечеринку я советовал бы обыскать, револьверы у этих богатых есть.
Рыгор позвал красноармейца. Крестьянин повторил свой рассказ. Еще раз предупредил, чтобы остерегались.
По улице шли три местных хлопца и о чем-то шептались. Заметив их, крестьянин притаился у ворот и подождал, пока они пройдут. Когда хлопцы исчезли в темной улице, крестьянин пошел домой. Красноармеец вызвал из хаты комсомольцев и повел их на вечеринку. По пути рассказывал, что кому делать.
– Алесь станет у двери, вы возле окон, а я с Рыгором буду искать.
Когда красноармеец с Рыгором вошел в хату, музыкант по-прежнему задорно резал польку. По хате кружились парами хлопцы и девчата. Рыгор и его друзья стали у порога и ждали.
Стукнул еще раз барабан и забренчал жестянками. Пропела еще раз гармонь басами и замолчала. Остановились танцы. Красноармеец вышел на середину хаты, поднял вверх руку.
– Товарищи. У нас есть сведения, что на вечеринке есть кое-кто с револьверами. Если верно,– я прошу сдать их.
Никто не ответил.
– В таком случае я вынужден обыскать хлопцев.
Хлопцы столпились в углу у двери. Девчата отошли в другую сторону. По одному подходили к Рыгору хлопцы и давали себя ощупать, а потом отходили к девчатам.
У хлопцев не нашли ничего. Рыгор глянул на друга, махнул рукой музыкантам и подошел к лавке, где в углу стояло ведро с водой. За ведром лежало два нагана. Рыгор взял наганы и показал. Все как будто удивленно смотрели на них и молчали.
Снова заиграл музыкант. Начались танцы.
* * *
Ночь...
В хатах давно погасли огни.
Всего несколько минут тому назад в хате на окраине виден был свет, мелькали в танцах силуэты людей. Потом раскрылась дверь, и вечеринка десятками самых разных молодых голосов хлынула на улицу, поплыла по ней и пропала в коротких всхлипах гармошки, глухих редких звуках барабана. Потом кое-где слышался тихий шепот и поздние торопливые шаги. Теперь все смолкло. Застыли серые в свете луны очертания хат.
На дворе тепло. Алесь сел на бревно, прислонился к стене плечами, слушает тишину ночи, и, зачарованный ею, думает.
В гумне спят товарищи. Время от времени шуршит сено, это кто-нибудь из них ворочается. Наверное, травинки лезут в нос или в ухо и щекочут.
Перед воротами небольшой кусочек луга. Луг порос уже молодой травой. Влево сразу огород: белые головы кочанов и по бокам тропки, ведущей в гумно, высокие маковины. Вправо за плетнем тоже луг и в одну сторону, недалеко от плетня, рожь, а в другую – луг и молодой густой осинник. Над осинником низко повис большой белый круг луны. Темное небо вверху синее, и на нем беловатые звезды. Перед воротами на соседней меже старая груша. Она высоко поднялась перед гумнами и, широко распустив покрытые листьями густые ветви, застыла неподвижно. Алесь смотрит вверх. Оттуда из темной синевы просвечивается понемногу от звезд и течет на землю беловатый нежный свет. Все ночью напоено музыкой совсем неслышной, которую можно только угадывать. Алесь угадывает эту музыку в тихом шорохе молодой травы, в мигании звезд, в застылости листьев груши, в дрожании белесого тумана, повисшего над лугом, и на ветвях осинника. Эта музыка вливается в самое сердце, трогает самые тонкие, самые нежные струны в душе человеческой и наполняет ее благими думами, будит в сердце смелые, самые наилучшие желания и формирует их. Ночью такой простор мыслям! Ночью у человека наедине с собой самые искренние и самые чистые мысли.
Алесь осматривает винтовку. Он открыл затвор и проверил, есть ли в коробке патроны. Спустил тихонько курок. Поставил между ног винтовку и ласково погладил ее ствол. Ощущение холодной гладкой стали успокаивает. По руке от ствола прохлада передается всему телу.
«Как хорошо вот так в ячейке и в отряде. И я не боюсь, нет, но хотел бы проверить себя. Пускай бы сейчас оттуда, из-за осинника, из тумана или из-за соседнего гумна, подкрадывались бы бандиты, и чтобы товарищи спали и не слышали... Как бы я хотел этого. Я подпустил бы их вон туда, до плетня, чтоб стали перелезать, а тогда спустил бы курок в первого, второго... двух или даже трех я успел бы убить, пока бы они опомнились, а потом они залегли бы, наверно, за плетнем и тоже стреляли бы или отползали бы назад и отстреливались. А товарищи бы крепко-крепко спали и проснулись бы уже тогда, когда я раненый подполз к воротам и упал там... Испытать бы большую боль, такую, от которой хочется кричать и заглушить ее криком. Я стерпел бы...»
Алесь вспоминает, как в воскресенье они вчетвером шли в последний раз в засаду в Мост, чтобы перенять группу бандитов. Шли в сумерках. Чтобы не выдать себя, шли сначала тропками по межам в поле, потом через лес и дальше напрямик по нескошенному лугу. Прийти надо было так, чтобы никто в Мосту не знал о них.
Шли рядом все четверо комсомольцев. Тихонько ступали, чтобы не шлепать по воде и не изранить о корягу босой ноги.
Скоро они совсем близко подошли к Мосту и остановились в кустах возле шляха, чтобы немного отдохнуть.
Эти кусты избрали местом засады. Рядом, в двадцати шагах, небольшая речка, мостик, и за ним деревня. Откуда бы бандиты ни шли, им этого мостика не миновать. Хлопцы сели на склоне небольшой канавки возле шляха и стали ждать. Под мостом булькала вода. Она течением качала осоку и ветви лозы, покрывавшие густым венком берег реки, лоза и осока тихо шептались, казалось, что кто-то крадется. Хлопцы напрягали слух. Нарастал пробужденный в дороге страх.
В деревне залаяла собака и сразу смолкла.
– Идут, наверное... а?..
– Ш-ш-ш...
Долго слушали, всматриваясь в сторону деревни. Но собака больше не лаяла, и это успокаивало.
В высокой траве у речки что-то зашуршало и упало в воду. Хлопцы инстинктивно вздрогнули, затаили дыхание и долго прислушивались, пока не нарушил молчание Терешка.
– Это или ежик, или птица какая...
Ночь прошла без приключений. Недовольные, хлопцы шли домой. Хотелось есть...
И теперь Алесю хочется сделать нечто большее, чем вот так просидеть ночь у гумна. Ему не просто хочется героизма, он хочет проверить себя, не струсил ли бы? Как бы перенес ранение? Такие мысли волновали Алеся часто.
Вокруг царит все такая же удивительная тишина. Чуть-чуть от дыхания ветерка колышется воздух и обдает лицо Алеся то прохладой, мягкой, то теплом. Тело устало, им вот-вот завладеет дремота. Алесь напрягается, чтобы не уснуть. Начинает думать о том, что скоро наступит день, и вспоминает дом. Завтра отец начнет косить. Он болел, и косить ему трудно, надо бы косить Алесю, но завтрашний день, наверное, пройдет еще в Алесевке. Отец будет злиться. Злости своей он не выскажет Алесю, затаит ее в себе, но по тому, как он в течение всего дня не произнесет ни слова, как за ужином молча уткнется в миску и потом молча сразу ляжет, Алесь угадает, что он зол. Это мучает. Мучает и полунищенское существование семьи.
Болен отец. Бедность – нет хлеба. В хату время от времени приносят соседи-хуторяне и родственники: то кувшин простокваши, то блин, то кусок хлеба. Это, особенно помощь соседей, унижает. После таких подарков Алесь не может смотреть в глаза матери, он уходит из дому, ложится где-нибудь в поле и подолгу лежит молча. Тогда хочется плакать, кричать и куда-нибудь уехать навсегда. Придумать другое что-нибудь он не может еще и поэтому больше года вынашивает мысль о поездке.
«Поучиться бы,– думает Алесь,– подрасти, лучше узнать жизнь, тогда бы я много, много сделал бы...»
Алесь следит за своими мыслями, сознательно руководит ими, чтобы не задремать, не уснуть. Ему почему-то кажется, что он слышит чей-то разговор. Тогда он прислушивается острее и уже отчетливо слышит тихий разговор людей и шорох во ржи. Алесь понимает, что кто-то незаметно хочет подойти к гумну, где отдыхают товарищи, иначе кому надо гумно теперь, в пору, когда там нет никакого добра. Он внимательно слушает. Разговора уже нет, но шорохи уже приближаются. Алесь тихонько поднялся с бревна, лег на землю и пополз к плетню в сторону ржи. Остановился и снова начал слушать. Шорох во ржи прекратился, но зато глаза различают темный силуэт человека. Темень ночи мешает рассмотреть хорошенько, что там, во ржи. От напряжения болят глаза, и силуэт человека, и рожь дрожат, сливаются в одно. Алесь на мгновение отводит взгляд в сторону, оглядывается вокруг и тогда опять отчетливо видит силуэт человека. Он тихонько приближается. Наверное, пустили одного рассмотреть, не стоит ли кто у гумна. Человек во ржи – враг. Алесь целится в него и спускает курок. Человек во ржи присел. Тогда Алесь выстрелил еще раз. Во ржи затопали, кто-то побежал, потом в ответ прогремело три выстрела. Алесь выстрелил еще. Он не слышал, как за плечами открылись, скрипнув, ворота гумна, как выбежали испуганные товарищи и подошли к нему.
Услышав за плечами шаги, Алесь подхватился от неожиданности и повернулся лицом к товарищам.
– Куда ты стрелял?
Алесь молчал. Во ржи полз тихий шорох. Оттуда еще раз грохнул выстрел, и все смолкло. Товарищи догадались, в чем дело.
– Ты почему не будил?
– Я не успел. Как услышал, что во ржи крадутся, я и пополз к плетню, ну, а как заметил человека, выстрелил... Вот сволочи... наверное, ни разу не попал, чуть конец ствола виден, не то, чтобы мушка...
В гумно больше никто не пошел. Все сели на бревно. Начали говорить о том, что случилось. Алеся ругали за то, что никого не разбудил. Алесь молчал. В деревне дружно залаяли разбуженные выстрелами собаки. Где-то в хате скрипнула дверь. Послышались тихие тревожные голоса людей. Это выстрелы разбудили их и вывели на улицу.
Начало светать. Алесь поднялся и стал потягиваться. К нему подошел Рыгор.
– Скажи правду, ты не боялся?
– Не-а. Я над этим не думал даже. Как услышал шорох во ржи, как-то сам лег на землю и пополз.
– А стрелять не боялся? Они по огню могли в тебя попасть.
– В меня не попали бы. Нам теперь бояться нечего, теперь нас боятся. Я следил, а они подкрадывались, как зайцы, во ржи скрывались... Это ерунда, брат.
– А все-таки смелость нужна. Я не знаю, как испугался бы...
– Смелость небольшая. Я вот часто о старых временах думаю. Вот тогда смелость была, когда революционеры единицами против правительства, полиции, казаков шли и не боялись... Скажи, ты хотел бы раньше родиться, а?
– Как это?
– Ну, вот хотя бы лет на десять раньше, но чтобы и тогда таким быть, как теперь, комсомольцем... Чтобы как теперь понимать все и быть революционером...
– И я хотел бы... И хотел бы побывать в тюрьме, как революционеры, тогда, наверное, все знал бы...
– Испытал бы каторгу, тюрьму, пытки...– высказал вслух свою мысль Алесь.– Я хотел именно таким вырасти...
– Ты может, хотел бы еще и таким, как Ленин, быть?
– А почему не хотелось? Не обязательно Лениным, а хотя бы простым революционером, который все испытал на своем веку...
– Я шучу...
– ...Чтобы прожить так, как они... Я много думал об этом,– продолжал Алесь свои мысли.
На востоке по небосклону стлалась беловатая полоска света, дрожала незаметно и ширилась. Вокруг покачивались сумерки ночи и потихоньку уползали куда-то за гумна, за осинник, окрашиваясь в пепельный цвет.
* * *
Ключинский был хорошим другом бывшего волостного писаря. После революции писарь как-то победнел и остался на работе в исполкоме деловодом. Ключинский жил, как и прежде, в своей деревне. Напуганный в первые годы революции контрибуциями и разверстками, Ключинский сбыл две коровы и коня соседям, а молотилку спрятал в гумно, забросал ее мякиной, чтоб не забрали большевики.
Когда полоса разверсток прошла, Ключинский ожил.
Из своих двадцати семи десятин начал обрабатывать восемнадцать, а с появлением в хозяйстве двух батраков – все двадцать семь десятин. Молотилка была очищена от мякины и осенью 1922 года уже молотила на соседских токах.
В войну Ключинский построил себе новый дом. В доме две половины: в одной – кухня и столовая, в другой – спальня и чистая комната для гостей. В этой комнате и в столовой происходили собрания. На собрания обычно приезжали люди из волости и до собрания беседовали с Ключинским, иногда обедали у него, ужинали, оставались ночевать. Ко всем приезжающим из волости Ключинский относился с уважением и всем излишне много говорил о своем хозяйстве. Из-за собраний и таких бесед Ключинского в волости все знали и привыкли к нему, а за его беседы и выступления на собраниях считали активистом.
Хозяйство его считали культурным, передовым. Как-то само по себе его хозяйство, как передовое и культурное, оформилось и в списках налоговой комиссии волисполкома.
В последнюю налоговую кампанию, когда составляли списки земли и скота, Ключинский записал восемнадцать десятин земли, а девять десятин утаил. Скот показал весь. Когда списки проверял крестьянин, председатель сельсовета, односельчанин Ключинского, то он сначала хотел исправить восемнадцать на двадцать семь. Высказал эту мысль жене.
– Что тебе, жалко, что человек умный и утаил землю. Хочешь, чтобы все так делали, как ты, глупый... Поправишь, а как если что-нибудь, и большевиков не будет?.. Тогда он тебе припомнит! – сказала жена.– Разве он один утаил?
– Другие-то меньше... Но черт его бери! Моего он не украл, пускай волость следит...
– И я говорю, какое тебе дело, хочешь умнее всех быть? Ключинский хорошо живет – дай бог и всем так, пускай живет на здоровье.
Так восемнадцать и осталось в списке. После этого Ключинский еще активнее вел себя. На всех собраниях он обычно поддерживал представителя волисполкома. Когда однажды на собрании крестьяне начали говорить, что много лесу вырубается, Ключинский выступил и сказал:
– Так, граждане, нельзя. Мало ли что леса жаль. Разве только нам лес нужен? За войну шахты все разрушились, ладить их надо, и лесок надо, и круглячки надо, вот власть и везет наш лес в шахты...
В другой раз, когда говорили о помощи голодающим Поволжья, он встал, поставил на стол решето, насыпанное заблаговременно рожью, и горячо заговорил:
– Граждане! Надо понимать, что власть наша советская, как нищенка, ей надо помогать. Власть, правда, берет у нас налог, но налогом надо и других покормить, разве мало людей, которые хотят есть? Надо рабочим, чтобы поели, а кто же накормит рабочих, если не мы? Надо, граждане, помочь власти, я вот жито жертвую голодающим, и все должны понемногу пожертвовать. Понемногу, а вместе выйдет много...
Говорил он иронически, но иронию свою скрывал в хороших словах и такими выступлениями часто вел за собою собрания. Представители исполкома, обычно устававшие на собраниях в спорах с крестьянами, были довольны, что собрание слушает Ключинского, который поддерживает их, как представителей власти. Когда однажды после собрания председатель исполкома высказал налоговому агенту сомнение в искренности Ключинского и назвал его хитрым проходимцем, тот обиделся.
– Ты неправ. Он искренне выступает. Правильно, что он и о себе заботится, может, даже больше всего о себе, но он нам очень помогает. А нам всегда легче провести мероприятия, когда мы имеем в деревне такого активиста. Своего крестьянина в деревне легче, брат, слушаются.
После этого о Ключинском подобных разговоров не было.
Часть третья
Напротив кровати Алеся у окна сидит Стефан и пишет. Он весь отдался письму, подолгу думает над тем, что написать.
Алесь только что пришел с улицы, устал. Он сразу лег на кровать и отдыхает.
Уже третий год, как он учится в техникуме. В позапрошлом году уездный комитет комсомола и райком партии отпустили его на учебу. Он тогда уже был членом партии и председателем сельсовета.
Первые дни учебы в городе и скромная стипендия как-то сковали его, погасили активность. Но месяца через три он уже работал вовсю в партячейке. Партийцев в техникуме было мало. Первый год учебы прошел быстро. Летом Алесь приехал в свою деревню на каникулы. Целыми днями он работал в хозяйстве, а вечерами и в праздничные дни шел в ячейку или по деревням с заданиями партячейки и сельсовета. Молодой, энергичный, он пылкостью своих слов умел убедить крестьян в правильности того, о чем говорил, и они уважали его за это.
– Он от души говорит, по глазам это видно,– говорили крестьяне.
Так незаметно в работе и учебе прошли два года.
Теперь Алесь избран председателем профкома. Студенческий коллектив любит его за простоту, за искренность, за товарищество, за умение понимать человека. За эти два года ни один студент не слышал, чтобы Алесь хвастался своей работой, активностью, хотя все видели эту его работу. Он горячо высказывался на собраниях в адрес того или иного товарища, но высказывался правильно, понимая того, о ком говорил, и поэтому на Алеся не злились, а, наоборот, любили его.
Второй год уже живет Алесь в одной комнате со студентом-батраком Стефаном. Странный немного этот Стефан. Но не комсомолец, и Алесь все время стремится подружить с ним, чтобы вовлечь его в комсомол. Стефан поначалу как будто был в дружбе с Алесем, ходил с ним, советовался, но оставался очень скрытным, и эта его скрытность вставала всегда между ним и Алесем, как только Алесь хотел по душам поговорить с ним. Этого Алесь никак не мог понять.
Алесь повернул голову и смотрит на Стефана, хочет разгадать его. Стефан склонился над письмом, что-то думает, время от времени посматривает в окно.
«Наверное, скрытность в нем жизнью выработана. Был забитым, загнанным, привык во всем скрываться от людей, и теперь, наверно, от этого избавиться не может...» – думал Алесь. Ему захотелось поговорить со Стефаном. Встал с кровати, подошел и тронул Стефана за плечо. Стефан вздрогнул и сразу закрыл ладонью левой руки письмо, а потом свернул его и сунул в карман.
– Зачем ты прячешь письмо? Куда пишешь?
– Я... это письмо... домой.
– Вот странный. Ты не стыдись. Может, девушке, любимой своей? Я ведь подсматривать не буду. Это естественное дело в твои годы, пиши, да только чтобы красивее было – поэзии добавь...
– Нет, я домой...
– Чего ж ты смущаешься? Хотя и я не люблю, когда кто-нибудь за плечами стоит, когда пишу... и мне надо написать домой. Худо у меня дома, отец совсем хворый, да и живет, как нищий... Эх, скорей бы закончить, Стефан, учебу! Поехал бы в свой район, никуда кроме своего района, и там бы работал. Создали бы у себя в деревне коммуну – обязательно. У нас комсомольцы, если бы ты знал, какие хлопцы, с ними все можно сделать. А в коммуне покажем, как работать, как жить. Крестьяне боятся коммуны потому, что не знают, поладят ли, сойдясь вместе, не придется ли одному работать на другого. А мы докажем, как жить, как жить коммуной, с нашими хлопцами можно это. И ты, когда закончишь, приезжай к нам, вместе будем, а? Это же если бы всех наших студентов да в деревню, да если бы каждый маленькую коммуну организовал, вот было бы дело!.. Тогда бы исчезла нищета. А то я вот жалею отца, а помочь ему не могу. Три или пять рублей, которые я иногда посылал ему, глупость, их и на хлеб не хватает...
– Ты отцу посылаешь деньги?
– Иногда посылаю.
– А как же сам?
– Сам? Братец ты мой, я, кажется, и еще с меньшей стипендией прожил бы. Разве я думал когда-нибудь, что буду учиться, да еще в таких условиях? Нет, брат! Даже во сне не видел. Стипендии мне хватает... А как у тебя дома?
Стефан помолчал немного, словно не слышал вопроса, потом ответил, недовольно поморщившись.
– И у меня нехорошо. Черт его знает, что там будет... я не знаю...
– А что, разве родители и теперь еще батрачат? Или землю получили?
– Да, батрачат, но я так... не интересуюсь особенно.– Стефан извлек из ящика стола книжку и начал листать ее.– Покажи,– обратился он к Алесю,– что мы по растениеводству должны читать, я как-то прозевал на лекции.
Алесь показал нужные страницы книги и отошел опять к кровати. Лег.
«Опять эта скрытность, не люблю я его за это, чувствую вот, что не люблю, как будто он что-то серьезное прячет ото всех...»
Но беспокойству Стефана при разговоре о доме и его словам он не придал никакого значения.
* * *
Солнце греет в спину Алеся. Над покинутым позади городом оно висит громадным золотым восходящим кругом.
На шоссе осел за ночь слой серой мягкой пыли. Пыль и на кустах ольшаника, и на траве тропинки возле шоссе. На кустах и на траве сверкают крупные капли росы. Алесь проводит босыми ногами по росной траве и росой смывает оседающую на ноги пыль.
Шоссе легло перед ним прямой беловатой лентой. Концом своим оно теряется в далекой дали между сосен и оттуда постепенно выползает навстречу Алесю. Оттуда подымаются, вырастают и тянутся навстречу ему редкие крестьянские подводы. На подводах поросята в мешках визжат, кудахчут куры в корзинах.
Алесь всматривается в лица крестьян, хочет рассмотреть знакомых своей деревни. Вот он издали узнает отца. Отец медленно идет по шоссе рядом с повозкой, низкий, одетый во что-то мохнатое, залатанное. Конь едва переставляет ноги. Идет, привязанная к повозке, рябая корова. Алесь ускоряет шаг, он уже близко от отца. Видимо, и отец узнал его.
Поравнялись. Отец остановил коня. Алесь подошел, обнявшись, поздоровался.
Отец доволен, он тихим голосом что-то рассказывает, по Алесь не слушает, осматривает отцовскую повозку.
В оглоблях все еще старая гнедая кобыла. На шее у нее старый, ободранный хомут, под него подложена суконка. Под чересседельником тоже суконка в три слоя. Дуга треснула и связана проволокой. На вожжах одни узлы. Алесь смотрит на кобылу, на упряжь, не может смотреть на отца, жаль его. Гнедая кобыла опустила голову к земле.
В повозке левое переднее колесо без шины. В другом между спицами вставлено коротенькое отесанное поленце, чтоб не сгибалась шина. Потрескались трубки, и вот-вот, кажется, выпадут спицы. Развалится колесо. На повозке, по бокам, кривые, вытесанные из молодых березок, перильца. К ним привязана рябая корова. Худая. Отец угадывает мысли Алеся и говорит:
– Хлеба нету, да и сарай думаю докрыть, соломы надо купить, и решили с матерью продать ее.– Он показал на корову.– На будущий год может уже телка отелится, а одно лето как-нибудь и без молока проживем, детей ведь нету...
У отца из-под латанной рыжей шапки видны серебристые волосы. Лицо худое, а густая короткая поседевшая борода и глубоко сидящие глаза делают его еще более худым. На плечах свитка непонятного цвета, и уже не разобрать, из чего она пошита была, что потом приложено к ней, как заплаты. А заплаты на плечах и локтях одна на другую положены из разноцветных кусков сукна. Штаны на ногах тоже в заплатах. Лапти запыленные, стоптанные.
Алесь смотрит отцу на грудь. Из-под свитки видна домотканая рубашка, и из-под нее через прореху видна худая желтая грудь. На глазах у отца тусклая слезливая муть.
Отец рад Алесю, осматривает его и говорит:
– Ты исхудал совсем, может, нездоров? Наверное, плохо питаешься? Нам денег не шли, не надо. Мы как-нибудь управимся. А ты себя смотри, а то молодому оно плохо, потом на весь век повредит, если недоедать будешь...
Постояли еще немного. Отец чмокнул губами, махнул кнутом над спиной кобылы, и она пошла. Алесь еще немного постоял на шоссе, оглянулся еще раз вслед отцу и тихими шагами пошел. Шоссе все так же стлалось перед ним беловатой лентой.
Вечером Алесь долго говорил с комсомольцами. Позднее писал студенту, близкому своему другу, полное пессимизма письмо.
«Ты не пойми мое письмо неправильно. Я сам знаю, что в нем слишком много пессимизма, это результат наблюдений над жизнью отца. Я хочу поделиться с тобой... И не только отец так живет, есть и еще беднота. Не так деревня живет, не так, как надо. Некому перевернуть эту жизнь. Если бы ты знал, как я хочу поскорее закончить и приехать сюда, пусть даже не агрономом, а так просто, на работу. Мне кажется, что я сумел бы вместе с хлопцами своими переделать эту жизнь... Ты посоветуй. Может, стоит оставить техникум? Я знаю, что многое сделал бы, знания у меня уже есть, а удостоверение – черт его бери. Ты напиши об этом. Знаешь, я так верю в революцию, в коммуну, что, кажется, вырвал бы сердце из груди, сгорел бы, чтоб убедить крестьян, что только в этом выход их из нищеты и бедности... Если даже и не останусь я здесь в этом году, условлюсь с хлопцами, подготовимся, и они будут понемногу к будущей весне готовить крестьян, а потом сделаем коммуну, обязательно сделаем...»