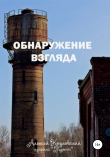Текст книги "Виноватый"
Автор книги: Платон Головач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Отец Никиты хорошо понимал разницу между своей жизнью и жизнью сына и в беседе сам намекал на это.
– Наш волостной писарь,– говорил отец,– вон как живет, как господин: дочерей одел, сына в городе в гимназии учит, а в губернской канцелярии если его посадить, так и совсем бы не признал. Я недавно адвоката в городе знакомого встретил, как сказал, что ты в губернии в канцелярии служишь, так он вот как завидовал и хвалил тебя. Очень, говорит, хорошее твой сын место занял.
Никита понимал отца и отвечал ему, многого не договаривая.
– Оно ничего, если удержусь. Буду жить.
А отец советовал:
– Хорошо служи, так почему не удержишься. Лишь бы начальства слушался, удержишься.
Только жена иначе думала о Никитиной службе. Она боялась, что Никита бросит ее, простую бабу, поедет один, и потому вслед за отцом торопливо проговорила:
– Дай боже, чтоб ты не удержался, может, и я по-человечески пожила бы тогда.
– Вот глупая,– ответила на это мать,– если удержится, так и тебя возьмет в город и детям хорошо будет, не будут в навозе копаться.
– И ждать не буду,– вставил Никита.– Я ведь и приехал за тем, чтобы взять тебя, квартиру уже нашел хорошую. Поедем, а летом будем в гости к отцу приезжать.
Жена глянула на Никиту ласково, хотела радостно улыбнуться ему, но от этой радости подкатился к горлу клубок, вспомнила все, что перетерпела, и захотелось заплакать. Она поднялась с лавки и вышла из хаты.
* * *
В 1915 году старший брат получил от Никиты письмо, в котором после поклонов всей семье брата было написано следующее:
«...И меня мобилизовали. Я скоро поеду на фронт, и Меланья останется одна с детьми. Из В... уже все бегут, боятся немцев, так я прошу тебя, дорогой брат, не откажи, когда приедет к тебе Меланья, дай ей в своей хате уголок, а я уже, как вернусь с войны, если жив буду, отблагодарю тебя...»
Когда Никита писал это письмо брату, двадцать четвертый сибирский полк стоял в двадцати верстах от фронта, в оставленной крестьянами деревне. Полк в это время был в резерве.
Днем офицеры выводили солдат на площадь за деревню и учили их маршировать, учили владеть винтовкой. А вечерами солдаты собирали под поветями брошенные дрова, а если их не было, ломали заборы, пилили на дрова жерди, корыта и топили печи, а в посуде, оставленной хозяевами, варили накопанный картофель.
Эта жизнь в деревне очень напоминала солдатам оставленные ими далекие родные хаты, откуда к ним каждый день шли слезливые письма жен и матерей. Вечерами, у огонька, солдаты перечитывали друг другу полученные из дому письма и тогда обо всем начинали думать по-прежнему, не как солдаты, а как крестьяне, рассказывали друг другу о своих далеких деревнях, о новостях из тыла, а новости возбуждали и вселяли в каждого желание поехать домой, увидеть родных.
Днем слышали солдаты несмолкающие пушечные выстрелы на фронте. Каждый день через деревню везли на подводах искалеченных, раненых людей. И выстрелы и раненые напоминали об угрожающей смерти, и солдаты тихонько высказывали друг другу нарастающий в сердце страх и желание поехать или удрать домой.
Через четыре дня после того, как послал Никита письмо брату, писал он вечером первое свое донесение в контрразведку Н-ской действующей армии. В донесении Никита писал, что в полку тихо, но письма из дому и раненые тревожат солдат, и советовал, чтобы перевозку раненых производили по какому-нибудь другому пути.
* * *
Тихо в хате. Тепло. От небольшого огонька в лампе мало света в новой Кондратовой хате, царит полумрак.
Кондрат со всей семьей за столом ужинает. На столе небольшая корзиночка с печеным картофелем. Кондрат берет в руку крупные яблоки печеного, как раз по его вкусу, картофеля, сдувает с него пепел, долго качает картофелину в ладонях, чтобы отстала корочка и чтобы картофелина была более рассыпчатой, потом соскребает немножко верхнюю кожицу, чтоб оставалось желтенькое, пригоревшее, ломает картофелину пополам, высыпает себе в рот рассыпчатое ее нутро и медленно жует желтую, пригоревшую вкусную корочку.
Кондрат ест картофель и время от времени посматривает в окно. На дворе начинается дождь. Дождь стучит каплями в стекла, и слышно уже, как начинают за окном падать капли с крыши на землю.
Потом на дворе затарахтела повозка. Кто-то остановил коня. Кондрат положил разломанную пополам картофелину и прилип лицом к оконному стеклу.
– Смотри, не Никитиха ли приехала. Она, наверное...
Кондрат набросил на плечи пиджак и пошел на двор.
Вся семья прилипла к окнам.
На дворе у повозки стояли женщина и двое детей. Мужчина, подводчик, снимал с повозки большущую корзину. Кондрат поцеловался накрест с Меланьей, подал руку соседу, который привез ее.
– Это же написали бы, я бы и приехал, конь все равно отдыхает:..
– А если я привез, так что?
– Да ничего, но и свой конь есть, и на своем можно привезти.
Семья отошла от окон и сгрудилась на крыльце. Кондратиха поздоровалась с Меланьей и так же, как и Кондрат, трижды накрест поцеловалась с нею. Внесли в хату чемодан и корзину. Кондрат добавил огонь в лампе, помог Меланьиным детям раздеться и опять сел на свое место у стола...
– Достань разве сала да поджарь,– обратился он к жене,– они ж, наверное, не постят... Оно и нам постить тяжело, нет селедцов и алей вышел... А может и картошки бы нашей печеной попробовали, я так очень люблю. Все богатство наше теперь в картошке.
Три года, прожитые Меланьей в городе, отучили Кондрата видеть в ней свою крестьянку. Ее городской костюм отличал ее от всей семьи. Меланья чувствовала это и хотела как-нибудь сгладить разницу своим поведением.
– Ой, я ж очень люблю печеную картошку, еще не забыла.
– Правда, садись да попробуй, может, давно уже ела ее,– приглашал Кондрат.
Жена ставила на стол молоко и, косо глянув в сторону Кондрата, сказала:
– Чего ты с картошкой своей пристал, вот вкус нашел...
В стекла стучал мелкий осенний дождь. С крыш на мягкий песок у свеженасыпанной завалинки падали капли воды.
Часть вторая
На земле, раздвинув ноги, сидел Алесь. Вокруг него цепочкой, взяв друг дружку за пояски, ходили дети. Впереди самый большой – это «матка». Большой медленно вел за собой своих «детей» и ставил вопросы Алесю. Тот отвечал.
– Коршик, коршик,– спрашивала «матка»,– что ты делаешь?
– Ямочку копаю,– отвечал коршик.
– Зачем тебе ямочка?
– Камушки прятать.
– Зачем тебе камушки?
– Иголочки острить.
– Зачем тебе иголочки?
– Мешочки шить.
– Зачем тебе мешочки?
– Камушки собирать.
– Зачем тебе камушки? .
– Твоим деткам зубки выбивать.
– Зачем зубки выбивать?
– Чтоб они моей капусты не клевали.
– А зачем тебе капуста?
– Своих деток кормить.
– Зачем тебе детки?
– Чтоб твоих клевать.
После этих слов «матка» стала напротив «коршика» и приготовилась к защите детей, замерших на месте за плечами «матки». «Коршик» подхватился с земли и хочет наброситься на самого крайнего мальчика. Потом запрыгали, забегали дети вокруг «матки», а «коршик» налетает на них и всюду натыкается на нее, высокую. Утомила такая игра «коршика», и он как будто притих, остановился на минуту, потом, прицелившись, прыгнул и ухватил самого заднего мальчика за плечи. Остальные метнулись в сторону, рванули за собой «матку», и она, неповоротливый тяжелый мальчик, упала па землю. Алесь захохотал.
– Ну, и «матка», падает, как кабан.
Василь Кондратов (маткой был он) поднялся с земли, глянул на Алеся, стоявшего неподалеку в коротеньких черных штанах, и зло крикнул ему два раза:
– Хоть из панов, да без штанов! Хоть из панов, да без штанов!
Дети стали полукругом и ждут, что будет дальше. Когда они впервые увидели на выгоне Алеся в коротких черных штанах, позавидовали ему и невзлюбили его. Алесь начал каждый день гонять на выгон свиней и учить детей разным, привезенным из города, играм, они увидели в нем хорошего компаньона и стали самыми близкими его друзьями. Василя они не любили. И сейчас их симпатии были на стороне Алеся. Эти симпатии усиливались еще и потому, что Алесь часто, как знали дети, страдал из-за Василя. Очень часто бывает, что Василь съест в кувшинах сметану и матери скажет, что видел, как Алесь в кладовку лазил. Тогда мать наказывает Алеся.
Дети смотрят на Алеся и подмигивают ему. А он глянул на Василя, подошел к нему спиной и с улыбкой сказал:
– Хлопцы! Что это воняет так падлой? Вы не знаете?
Он поморщился.
– А-а! Это же клоп, вонючка рыжая, тут стоит! А я думал, что это воняет? Уй! Ну, и рыжий! На твоей голове блины можно без огня печь...
Дети захохотали, а Василь отошел немного в сторону и крикнул Алесю.
– Ничего!.. Подразнись вот, я маме скажу. Приехал, жрешь наше добро да еще смеяться будешь? Хорошо же! Мама тебе покажет!..
– Уй, как воняет! – кричали дети.– Уй, как воняет!
Василь пошел домой. Тогда дети опять посадили одного хлопца в кругу и стали ходить вокруг него с «маткой». «Маткой» избрали Алеся.
* * *
По полю наперегонки с ветром несутся белым густым облаком снежные метели. Им много простора в поле, ничто не удержит их. Низкие кусты ольшаника, поросшие над канавой возле шляха, засыпаны снегом, и чуть-чуть выглядывают из него отдельными голыми веточками их вершины. Метели несутся по полевым просторам, застилают белизною густой горизонт и там, слившись в одно с беловатыми снежными тучами, пропадают бесследно.
В стороне от поля, как только может охватить глаз, стоит густой стеной громадный бор. Мчатся метели полем до самого леса и, долетев до подножья высоких и густых столетних сосен, останавливаются, начинают кружить и тихо ложатся на наметанные уже возле леса белые сугробы. В лесу совсем тихо, нету ветра и кое-где торчат из-под тонкого пласта снега маленькая веточка или сосновая шишка. А вверху над лесом высоко плывут сизые тучи, $ ними мчится ветер. Ветер налетает на лес, гудит в вершинах деревьев, сметает с них снег. Качаются сосны, плавает вверху гул, и над лесом, словно дым, взвивается снег.
Недалеко от леса, на холме, стоит хата, в которой некогда была клеть. Хата одним своим небольшим окном всматривается в даль, туда, где шлях, где видны белые крыши далеких хуторов.
Хата осенью только сложена, и усадьба совсем не огорожена. У хаты наметан высокий сугроб, это под снегом лежат бревна для строительства клети. За бревнами, дальше от леса, из жердей сделан сарай. Накрыт он еловыми лапками. А еще немного в сторону от сарая снежными белыми бабами стоят два небольших стога. Стога выскублены снизу, и от этого кажется, что две толстые старые женщины завязли в снегу и застыли, не могут выбраться.
Снежные метели носятся по полю. Возле хаты кружится снег, словно вулкан белый дымится. Ошалелый ветер разбегается в поле, захватывает целые горы снега, несет их и, натолкнувшись на одинокую в поле хатку, забрасывает ее снегом, наметает снег через щели в стеклах в хату, сыплет им сквозь дырки в крыше на чердак.
Снег лезет сквозь щели между жердями в сарай и колючим холодом обдает исхудавшую корову. Корова дрожит, отвернулась от яслей в сторону, откуда дует ветер, и пережевывает съеденную мешанину. У коровы глубоко впавшие худые бока. Она мягкими губами выбирает из-под ног, из навоза, неутоптапные соломины и подолгу пережевывает их, дрожит от холода и потихоньку мычит. Рядом, за перегородкой, такая же, как и корова, худая мохнатая кобыла. Кобыла не хочет отходить от яслей. Она стала к ветру боком и достает из яслей сено. В сене камышинки, они щекочут кобыле ноздри. Кобыла губами разворачивает объеденные камышины, выбирает отдельные травинки и фыркает. На глазах у кобылы засох навоз. На хвосте и спине – снег. Время от времени она перестает искать в яслях, расставляет ноги и встряхивает всем телом, чтобы сбросить со спины снег и немного согреться. У нее тогда вяло обвисает нижняя губа и тоже дрожит.
А ветер с метелями все более зло бросается на хату, на сарай, сыплет в сарай сквозь щели снег, застревает между жердями, рвется оттуда и, злой, жалобно свищет: у-ю-й-й-у...
У ворот стоит Никита. Он худой, оброс густой короткой бородой.
Уже второй год, как он вернулся с войны... Тогда его с радостью встретили соседи, брат, жена. Он долгое время жил в хате брата. Долгое время воскресными днями он выходил на улицу в солдатской форме, в сапогах, в шинели и шел по улице солдатской размерной поступью. Потом перешил шинель на армяк. Сапоги порвались. На брюки, на колени, легли рыжие заплатки со старого, давно изношенного армяка. И единственной памятью о солдатчине осталась испачканная старая шапка.
С самого утра и до вечера возился Никита возле хаты, возле стогов и сарая; целыми часами раскапывал снег и время от времени привозил из лесу на кобыле дрова. Вечерами садился на колодочку посреди хаты напротив огонька и то кроил, разматывая скрученное баранками лыко, то домашним способом, распаривая в печи ясень, гнул полозья и тесал копылы для саней. Разогревшись у печи, подолгу тяжело кашлял.
Этот кашель он частично привез с войны, а усилил его весной, когда, переезжая речку, свалился в воду под лед.
Никита убрал от ворот навоз, прикрыл ворота и пошел к стогу. Там он остановился в затишье, оперся о стог и долго был неподвижен. В памяти всплывали пережитые годы. Всплывали, словно совсем свежие, картины жизни в губернском городе, и как живой вставал в памяти Зубкович.
С Зубковичем Никита расстался еще до войны, его направили в другой город. Но сейчас почему-то звучали в ушах слова Зубковича, которые он шепотом говорил Никите в ночь после первой его удачи. Тогда слова эти немного пугали, но Никита не верил в них, а теперь они опять всплывают в памяти и рождают тревогу. После революции прошлое пугало Никиту и мучило его страхом. Он боялся, чтобы не рассказать про свое прошлое людям, и в беседах о старом больше молчал. Теперь Никите, когда он задумался над словами Зубковича, начинает казаться, что вот-вот кто-то выйдет из-за стога, из-за сарая, возьмет его за шиворот и спросит: служил ты охранником или нет? Сколько добрых людей погубил своей службой? От этого становится Никите страшно, он оглядывается вокруг, торопливо крестится, сняв с головы шапку, и шепчет сам себе:
«Хорошо, что хоть никто не знает, а если бы знали, загоняли бы меня люди, затюкали, а может, и еще хуже было бы, пускай и не знает никто. Пускай дети мои об этом ничего не знают!»
Никита еще раз посмотрел вокруг, надергал сена, взял его в охапку, подобрав чистенько до травинки, и понес в сарай. Навстречу ему из сарая тихо заржала кобыла. В поле густая белая метель смешивалась с сумерками наступающей ночи.
* * *
Пятнадцать верст шли босыми по шоссе. Когда миновали кожевенный завод, кто-то предложил обуться. Все сошли с шоссе на лужок, помыли в канаве ноги и начали обувать сапоги, ботинки, лапти.
В городе в отделе народного образования никто не решался зайти в кабинет к заведующему. Долго стояли под дверью и спорили, кому идти, а потом все вместе зашли в кабинет. Заведующий удивленно смотрел на вошедших, слушал их путаную, не совсем смелую речь, а выслушав, написал какую-то бумажку и рассказал, как ближе пройти к экскурсионному бюро.
Когда вышли из кабинета заведующего, Алесь только рукой махнул, и тогда с говором и шумом пошли по улицам города. В экскурсионном бюро им дали руководителя-наставника. Он показал прежде всего спортивную площадку во дворе экскурсбюро, потом повел экскурсантов в физический кабинет одной из школ... Там седой старый физик долго рассказывал о разных физических явлениях, доказывал правильность высказанных мыслей физическими опытами. Во время лекции разбились две стеклянные баночки и лопнула во время пагревания колба. Опыт, который хотел показать физик с колбой, так и не удался, потому что другой не было. Вечером показали еще рентгеновский кабинет городской больпицы. Ученики (это была экскурсия из сельской школы) смотрели на освещенное сердце Янки, наблюдали, затаив дыхание, как оно бьется, а ночью, в общежитии, подшучивали над Янкой, что у него кривое сердце и что лежит оно у него немного боком.
Оставалось завтра осмотреть еще электростанцию и маслобойню.
Когда утром шли на электростанцию, над дверью двухэтажного дома Алесь прочитал написанные на вывеске следующие слова:
РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА.
Сквозь раскрытые на первом этаже окна Алесь видел на стенах комнат этого дома наклеенные громадные плакаты и портреты.
«Наверное, клуб для молодежи»,– подумал он.
А когда на углу улицы в киоске купил местную газету, то на последней странице опять прочитал в объявлении те же слова, что и на вывеске.
За городом, по пути домой, опять завернули на лужок, и все разулись. В газету Алесь завернул свои ботинки.
Прошел целый месяц после экскурсии. Алесь уже позабыл о прочитанном в газете и на вывеске. Он по привычке зашел в помещение волости, чтобы попросить у секретаря комячейки какую-нибудь книжку для чтения.
Секретарь комячейки Сергей сидел над какими-то бумажками. Когда Алесь вошел и сел на табурет, Сергей отодвинул левой рукой бумаги в сторону и начал расспрашивать Алеся про школу. Спрашивал о том, как относятся к ученикам учителя, как успевают ученики. А потом взял Алеся за рукав рубашки, посмотрел на него и сказал:
– Много у вас хлопцев в школе хороших, почему бы вам не организовать там ячейку комсомольскую?
Алесь сразу вспомнил газету, вывеску.
– Слушай! Я что-то про комсомол в газете читал, когда на экскурсии были. Что это?.. Что мы делать будем, когда комсомол организуем?
– Что делать?.. Ну что комсомол делает?.. Я и сам хорошо не знаю, но, примерно: разверстку помогает собирать, учится политике, на бандитов, если надо, ходит, в ЧОНе занимается, учит деревенскую молодежь коммунистической жизни... Ячейка – это, брат, все, это, когда все одинаково думают. В школе у вас – как кто хочет, а тогда – ячейка... Вот хоть партию возьми. Партия – это взрослые, ну, а комсомол – вроде партии молодежи. Так и говорится: коммунистический союз...
– Так давай организуем, а?..
Алесь смотрел на Сергея и ждал ответа.
– Давай. Ты еще поговори с одним-двумя лучшими хлопцами, а я приду к вам, и организуем... Вот тогда, брат, заработаем, только держись. И я буду с вами политикой заниматься. Тогда мы вашим некоторым учителям в политике сто очков вперед дадим!..
Сергей подмигнул Алесю и опять взялся за бумаги. О книжках Алесь позабыл. Он стремглав бросился в школу. Тихонько отвел в угол Янку и рассказал ему о разговоре с Сергеем.
– Как это мы организуем? – спрашивал Янка.
– Я не знаю. Сергей придет, он сам покажет. Только ты пока никому больше не говори.
– А может, еще Петру сказать, а?
– Петру?.. Ну, этому можно. А больше никому... смотри!..
Через день в одном из классов школы собрался волостной политико-просветительный кружок, которым руководил бывший подпоручик, а ныне – зять священника. В кружке были некоторые учителя, дети священника, дьякона, бывшего волостного писаря и несколько служащих волостных учреждений. Кружок разучивал пьесы и ставил спектакли. В кружке в это время читали «Медведя» Чехова. Руководитель то громко выкрикивал отдельные предложения густым мужским басом, требовал от кого-то деньги, то подделывался под женский умоляющий голос.
В соседней комнате собралось трое будущих комсомольцев и Сергей.
– Всего трое? – спросил Сергей.– Это, брат, совсем мало, если бы еще двух.
– Тогда позовем еще Рыгора и Терешку... Поди, Петро, позови...
Через минуту появились Рыгор с Терешкой.
Сергей открыл собрание.
– Вот, брат, что,– начал он,– чтоб нам уже организовать ячейку, давайте все, как следует. Пускай Алесь председателем будет, а Янка секретарем... Согласны? Ну вот... Ты и протокол пиши,– обратился он к Янке.
Сергей начал доклад. Он говорил о борьбе на фронте, о том, как Красная Армия победила Врангеля, говорил о борьбе с белополяками. А в конце сказал несколько слов о дезертирах из армии и о том, что комсомол должен выявлять и помогать власти ловить дезертиров.
Хлопцы слушали внимательно. У каждого из них было торжественно приподнятое настроение. Никто из них не понимал еще, что такое комсомол, кроме того, что советской стране трудно защищаться от врагов и что комсомол должен выявлять и помогать ловить дезертиров. Но за этим каждый чувствовал нечто большее, еще более важное...
Янка держал в руке карандаш; положил руку на бумагу, но ничего не писал. Алесь толкнул его под локоть.
– Ты пиши, протокол пиши...
– Я не знаю, как...
– Мало ли что, пиши.
Янка на бумаге вывел слово «протокол» и опять остановился.
Сергей закончил доклад, помолчал минуту, потом поднялся и добавил:
– Вот, брат, что я еще забыл сказать, что комсомол и спектакли должен устраивать, тогда мы вон тех похерим...– Сергей указал на дверь, откуда доносился голос руководителя кружка.– Похерим их кружок, а свой такой сделаем, что... Так... А через месяц, вот еще, вышлют вам каждому билет комсомольский в шелковой обложке...
Сергей подошел к Янке.
– Не написал? Ну давай писать... Протокол общего собрания,– диктовал Сергей,– беспартийной крестьянской молодежи... Были на собрании такие-то. Запиши... Вот тут пиши: слушали, а тут – постановили... тут – доклад секретаря комячейки об организации комсомола, а тут – организовать ячейку комсомола и готовить из себя борцов за советскую власть и коммунистическую партию... Избрать председателем ячейки Алеся, а секретарем Янку. Пиши... Командировать Алеся в уездный комитет для того, чтобы взять необходимое руководство... Правильность протокола подписали... ну все, кто есть, пускай подпишут... А теперь, Алесь, закрывай собрание и пропоем «Интернационал».
Сбиваясь на разные голоса, вслед за Сергеем затянули пятеро молодых ребят слова известного им гимна. С каждым новым словом голоса крепли, подымались выше. В соседней комнате замолчали. Руководитель культурно-просветительного кружка открыл дверь, глянул на хлопцев и остановился.
– Черт знает что такое? Почему поют?
Но, узнав секретаря комячейки Сергея, продвинулся в дверь класса поближе к столу и тоже запел.
* * *
О комсомольской ячейке в селе и волостном центре знали все. Ячейка внесла что-то новое в окружающую жизнь. И не то чтобы работой своей большой – работу за две недели не развернули еще как следует,– но сам факт создания ячейки был заметным явлением, к которому теперь было приковано внимание всего населения села. О ячейке говорила молодежь, говорили старики и дети.
В школе вся жизнь начала вертеться вокруг ячейки. Часть учеников старших классов стала на сторону ячейки, другая не признавала ее. Это самое произошло и в селе среди молодежи. Большинство молодежи было за ячейку, часть – за культурно-просветительный кружок. В селе встали друг против друга две силы, это все понимали. Правда, в культурно-просветительном кружке почти все учителя, культурные силы, а в ячейке пять комсомольцев да Сергей с ними, да еще за ячейку крестьянская молодежь и большинство учащихся.
В кружке как будто силы большие. Они спектакли ставят, библиотеку имеют хорошую, у них пению учат, а в ячейке пока что лишь занятия по политграмоте, да еще в субботние дни вечерами собрания с докладами Сергея о международном положении и задачах, да газеты, присылаемые ячейке из города.
Ячейка в хате Янки поставила под лавкой ящик и туда складывала свои книги. Сергей всю литературу, присылаемую из города волостному агенству печати, перенес в ячейку. Отдавал ячейке и все газеты, идущие на волость.
Через месяц ячейка выросла. Записались в ячейку Иче, сын кузнеца, и Зося, ученица, дочь крестьянина. Зося записалась в ячейку и ходила пока что в культурно-просветительный кружок играть в спектаклях.
Между кружком и ячейкой развернулась борьба.
Собираясь у дьякона на квартире, кружковцы целыми вечерами говорили о ячейке, иронизировали над неграмотностью и некультурностью комсомольцев и одновременно почему-то тревожились. До сих пор им было отдано все внимание села, а с появлением комсомольцев это внимание разделилось. Разделение это захватило даже волостной исполком. Сергей был с комсомольцами, а председатель исполкома с кружковцами, и с ними еще налоговой инспектор и другие служащие.
Сергей с каждым днем относился к кружку все более отрицательно.
– Чего они крутят носами от ячейки? – спрашивал он.
Председатель исполкома защищал кружок.
– Ты неправильно подходишь к интеллигенции,– говорил он.– Ячейка,– что? – ничего пока, а кружок – культурные интеллигентные силы волости. Если рассуждать так, как ты, так эти силы разбегутся, и с одной ячейкой ничего не сделаешь... Ячейку учить еще надо.
Сергей нервничал, злился:
– Твою гнилую интеллигенцию еще больше учить надо,– говорил он.
В последние дни эти разговоры повторялись все чаще.
Перед рождеством кружок подготовил спектакль. На расклеенных по деревне афишах громадными буквами после названия пьесы было написано, что спектакль ставит культурно-просветительный кружок. Вечером комсомольцы вырвали в афишах эти места, но через час их опять заклеили такой же надписью. Потом председатель исполкома позвал к себе Алеся и нашумел на него за поступок комсомольцев.
Но комсомольцы готовились к спектаклю и готовили учеников.
– Если хорошее что – послушаем, а если барахло какое-нибудь – освищем...– говорили они.
На спектакле комсомольцы и ученики сидели на задних рядах. Ученики стояли вдоль окон, на лавках. Пока шла пьеса, в зале было тихо да время от времени прорывался смех. А когда после пьесы на сцену вышел учитель-кружковец и, поклонившись, произнес название стихотворения, которое хотел декламировать, задние ряды зала зашумели.
Учитель провел рукой по лбу, глянул в задние ряды аудитории означал декламировать:
Глаза... Глаза...
Не успел он произнести этих слов, как изо всех углов поднялся шум, потом свист.
На сцену вышел руководитель кружка и попросил, чтобы было тише.
Учитель опять произнес первые слова стихотворения, и опять кто-то пронзительно свистнул в заднем ряду.
Опять на сцену вышел руководитель кружка. За ним поднялся председатель исполкома и начал стыдить учеников и комсомольцев.
Учитель, зло глянув в задние ряды, начал декламировать. Вот он уже произнес восемь строк стихотворения, а тут опять эти слова:
Глаза... Глаза...
И они опять потерялись в пронзительном дружном свисте. Учитель повернулся и ушел за кулисы. Председатель исполкома ушел домой. Спектакль скоро закончился.
Назавтра председатель исполкома долго беседовал с Сергеем, доказывал, что таких безобразий, которые происходили на спектакле, терпеть дальше нельзя. Сергей доказывал, что школьники правильно освистали декламацию учителя.
– Ну что это за стихотворение? – говорил он.– Глаза... Глаза... А ну его!.. Вот, брат,, оно и есть, что гнилая интеллигенция.
В этом спектакле участвовала и Зося.
Назавтра же ее вызвал к себе в коридор Алесь и заявил, что если она будет играть спектакли в кружке, ячейка привлечет ее к ответственности и исключит из комсомола.
Ячейка хотела победить, хотела отвоевать сцену, чтобы от имени комсомольцев говорить со зрителем перед спектаклями, чтобы самим ставить пьесы, декламировать, петь. Началась жестокая борьба за сцену. Борьба перенеслась в школу, где среди учеников было много кружковцев. Алесь, руководивший фактически всей внеучебной жизнью школы, повел атаку на кружковцев. Он с группой хлопцев составил список, кому и когда мыть пол в классах, пилить дрова. Прежде обычно девчат освобождали от дров, сейчас это правило было упразднено.
– Нашим мы сумеем помочь,– говорил Алесь,– а они, панские доньки, пускай сами и напилят, и наколят.
Скоро в лесу произошла и первая стычка.
Идти в лес надо было всем: и хлопцам, и девчатам. Так и ходили. Но прежде дочери священника, дьякона и писаря в лес не шли, а домой, и это почему-то считали нормальным. На этот раз Алесь нарочито предупредил их:
– После обеда в лес пойдем за дровами, глядите, чтобы не сбежали!
Но девчата в лес не пошли.
Алесь в лесу собрал учеников, и все согласились, что тем, кто не явился в лес, завтра придется напилить две нормы дров. Утром Алесь предупредил девчат об этом. Дочь дьякона захохотала Алесю прямо в лицо:
– Я не буду пилить дрова!
– А вот будешь!
– Не буду! Не будем!..
– Посмотрим!
Алесь оставил их. Девчата пошли к заведующему школой, и он разрешил им дров не пилить.
Когда утром Алесь явился в школу, он прежде всего проверил, напилены ли дрова. А через пять минут в самом большом классе собралось ученическое собрание, чтобы обсудить вопрос об исключении всех трех девчат из школы. Девчата плакали на собрании. Заведующий защищал их и доказывал, что собрание не имеет никакого права кого бы то ни было исключать из школы. Несмотря на это, собрание единогласно постановило потребовать от школьного совета исключения всех троих.
А еще через некоторое время случилось самое важное. Комсомольцы на открытом собрании обсудили вопрос культурной работы ячейки и тут же создали драматический кружок и кружок пения. Тут же решили провести совместное общее собрание с культурно-просветительным кружком, чтобы решить, кому руководить кружками,– ячейке или культурно-просветительному кружку.
После собрания Алесь пошел к руководителю кружка и объявил ему постановление.
– Пусть собрание решит, чья сцена – наша или ваша.
Руководитель посмеивался, доказывал, что ничего из этого не получится.
– Ячейка ведь не сумеет руководить, что вы? Это развалит всю работу.
– Не развалит, наладим.
– Если вы уж, Алесь, так настойчивы, я согласен на следующее: пусть хлопцы из ячейки идут в кружок и будем работать...
– А кто руководить? Вы?.. Нет, не так...
– Ха-ха-ха! Руководите вы, а я буду у вас простым кружовцем. Согласны?
– На собрании решим.
В субботу в классе собрался весь состав культурно-просветительного кружка. На сцене сошлись руководитель и группа старших кружковцев, о чем-то советуются.
В другом классе собирались все, кто за ячейку. Через несколько минут все они вошли в класс, где находились кружковцы. Вслед за ними, прихрамывая, пришел Сергей.
Алесь остановился у стола.
– Занимай, хлопцы, первые места, сейчас спектакль будет.
Стали избирать председателя собрания. И все сразу закричали, называя кандидатов.
– Пылькина! Пылькина! – кричали кружковцы.
– Алеся! – отвечали им ученики.
– Алеся!
Алесь поднялся с лавки.
– А я предлагаю Сергея, чтобы как секретарь комячейки ни за тех, ни за других был.
Сергей открыл собрание. Первое слово взял председатель исполкома. Он всячески доказывал, что культурно-просветительный кружок делает полезное дело и что ячейка, не подумав, хочет развалить этот кружок. Он догадывался, что победа может быть на стороне ячейки. В ответ ему то там, то тут на лавках возникал шум.