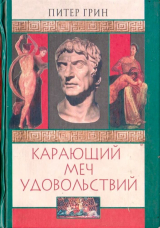
Текст книги "Карающий меч удовольствий"
Автор книги: Питер Грин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Однако легче уничтожить кодекс законов, чем перестроить его, я всегда чувствовал ускользающую от меня истину и тщетность тех законов, что устанавливал. Я мог бы увеличивать число и расширить полномочия коллегий жрецов, но ни один закон не может вдохнуть веру в сердца людей. Я мог бы ограничить законом расточительность, роскошь, растраты, механически регулируя стоимость пира или похорон, но я не мог уничтожить зуд богатства, который пожирает внуков наших строгих республиканцев. Болезнь поражала изнутри, стремление к добродетелям сошло на нет. Я мог лишь временно унять эту язву, как Эскулапий унимает теперь мою собственную боль, и я читаю в его старых расстроенных глазах, что эта болезнь не поддается лечению. Действительно, мое воображение право – умирая, я ощущаю на собственном теле язвы самого Рима, вплоть до лихорадочного зуда, который опаляет и мучает мою кожу. Это так же беспричинно и непреодолимо, как та сила, которая заставляет человека обедать с золотой тарелки, тратить состояние на белокрылого палтуса, строить бесполезные роскошные дома или копить бесценные драгоценности. И, подобно этой силе, оно поглощает меня, оставляя без сна.
Только страдающий бессонницей понимает бесценный дар сна в его истинном смысле. Он безнадежно гонится за сном в болезненном состоянии ума и тела в час, когда серый свет проникает сквозь ставни, когда те, кого не одолевают мысли, спят сладким сном и тянутся во сне к своим возлюбленным, чтобы их приласкать.
И нет никакого дающего забвение напитка, который способен погрузить меня в забвение. Только по собственному капризу, в неожиданные моменты, немочная жизнь перетекает в болезненный сон. Часто я не могу даже сказать, спал я или нет.
Я больше не в состоянии писать. Теперь диктую Эпикадию со своего смертного одра. Он сидит здесь терпеливо, с табличками наготове, ожидая, когда беспризорные мысли соберутся в определенной последовательности и заставят меня сделать усилие, чтобы их высказать. Он кажется не столько терпимым, сколько не обращающим внимания на мерзость комнаты, где лежит больной. Временами я посылаю за ним в ранние утренние часы, когда боль своими острыми когтями впивается в мой мозг и только работа может принести некоторое облегчение. Несмотря на свой возраст, Эпикадий не кажется усталым, он нуждается в отдыхе не больше ящерицы, на которую, как мне иногда кажется, он похож.
Все, что я говорю, он записывает без всякого выражения или комментариев. Когда я просыпаюсь, меня всегда ожидает расшифровка его записей.
В последнее время я думаю о Лукулле. Он написал, прося аудиенции, неделю назад, и я отказал ему. В своей болезни я еще не утратил оставшегося тщеславия.
Лукулл, Лукулл, ты – мой единственный преданный друг среди всех этих паразитов и честолюбивых махинаторов. Эпикадий нашел копию письма, которое я послал тебе в феврале, в темные дни, когда ты еще находился в Азии, еще долго после моего возвращения в Рим, преданный, бдительный проконсул. Эпикадий считает, что письмо должно быть вставлено в мои воспоминания, и я согласен. Я благодарен за любую возможность уклониться от работы по восстановлению прошлого – то, что началось как удовольствие, стало утомительной задачей, моим последним обязательством миру.
Теперь как нельзя более подходящее время и место для этого.
«Я благодарен тебе и Авлу Габинию за то, что вы убедили Мурену вернуться в Рим, – должно быть, для этого требовались определенные дипломатические способности, – и восстановили добрые отношения с Митридатом. Мое назначение диктатором, вероятно, несколько облегчило твою задачу, насколько я знаю старого негодяя.
Мой триумф был отпразднован месяц назад, исключительно расточительное мероприятие. Я заполнил свою процессию тем, что больше всего впечатляет непритязательные умы, – богатством. В первый день несли золотые слитки весом в пятнадцать тысяч фунтов и в десять раз больше серебра, добычу от нашей кампании в Греции. На второй – почти то же самое – на этот раз то были сокровища из храмов, которые молодой Марий привез с собой в Пренесту.
Кроме того, у меня было довольно много показного величия – статуй, прекрасной бронзы, картин, золотых сосудов, редких гобеленов и команда загорелых молодых греческих атлетов, чтобы развлечь женщин. Процессию возглавляли примерно две сотни патрициев, которые перебежали ко мне, когда Цинна правил Римом, – все в своих самых лучших церемониальных одеждах, с венками на головах распевали хвалебные песни в мою честь. Мне стыдно рассказывать тебе об этом – все это самая мерзкая чепуха. Но в ней содержалось достаточно много подчеркнутых ссылок на меня как на спасителя и отца, который возвратил их в родную страну, к их детям и женам. Я надеюсь, мои друзья Метеллы оценили мои усилия, это они взяли на себя организацию и репетиции.
В завершение этой несколько безвкусной демонстрации я произнес обычную для такого случая речь, обращенную к толпе на Марсовом поле. Народ был в приподнятом и восприимчивом настроении, я принял меры к тому, чтобы за час до этого произвели раздачу бесплатного вина. Я обещал установить новый ежегодный праздник в октябре – Игры Победы, ни больше ни меньше.
В ответ толпа одобрила мое предложение даровать свободу десяти тысячам рабов, принадлежавших тем, кто вошел в проскрипционные списки и к тому времени уже был казнен. Эти рабы должны взять имя Корнелий и стать моими клиентами. Они останутся в Риме и в близлежащих его районах.
Если толпа не сумела оценить причину, лежащую за этим великодушием, то ты сумеешь. Я не могу больше, Лукулл. Я – старый усталый человек. Я больше воевать не хочу, да и не могу. Есть молодые, энергичные, нещепетильные люди, которым слишком не терпится командовать моими легионами и заступить на мою опасную должность. Скоро им представится такая возможность. Моя задача почти выполнена. Я служил Риму всю свою жизнь и теперь хочу отдыха, покоя, передышки. Эти вольноотпущенники гарантируют мне безопасность, они будут всегда под рукой, если в том возникнет необходимость.
Я занял свои часы досуга распределением конфискованной собственности на аукционе, я доволен тем, что вижу, что мой престиж все еще достаточно высок – никто не осмеливается предложить цену больше той, что я сам назначаю. Мне приятно дарить земельные участки, дома и ценности моим пользующимся сомнительной репутацией друзьям, они всегда выказывали ко мне больше доброты, чем те из моих так называемых друзей, которые равны мне по положению. Этим утром я осчастливил двух очаровательных молоденьких танцовщиц, моего самого умелого музыканта, играющего на лире, актера, который понравился мне в роли Ореста, и моего обязательного вольноотпущенника Хрисогона. Толпа перешептывалась, но не осмеливалась открыто возражать. Я наслаждался этой процедурой чрезвычайно.
Ты оставался в Азии, не жалуясь, гораздо дольше, чем я предполагал, и теперь я предлагаю отозвать тебя. Сенат стремится назначить молодого эдила, который проявляет интерес в устройстве первоклассного зрелища на арене, – народные массы немного беспокойны. Я выставил твое имя и рад сообщить, что оно было встречено с одобрением. Если ты вернешься, запасшись отменными львами и пантерами, популярность тебе гарантирована.
Напиши мне ответ скорей и сообщи все ваши новости. Мой высокий пост столь же требователен, как и одинок, будет приятно видеть знакомое лицо друга. Да помогут тебе боги, желаю тебе попутного ветра и спокойного моря при возвращении домой».
Эпикадий читает мне эти слова сухо, неэмоционально и монотонно, несмотря на старания, ему так и не удалось избавиться от сильного греческого акцента; и пока я слушал, жгучие, горячие слезы навернулись мне на глаза. Этот покой, этот момент успокоенности с его надеждами на будущее кажется мне теперь таким же далеким, как мое детство, которое я уже описал.
Потом наступил вечер, тени удлинились, но природа все еще купалась в мягком солнечном свете, а небо было ясным. Наступила ночь, и надежды увидеть следующий рассвет все меньше.
Глава 20
Свет снаружи ярок, но я не могу пошевелиться. Болезнь ест меня, как навозные мухи пожирают раздутый труп мула, брошенный на обочине. Черви размножились в моем раздутом паху, и никакие чистки, мази и слабительные Эскулапия не могут избавить меня от них. И я боюсь не столько смерти, сколько этого непристойного, агонизирующего разрушения моего мужского достоинства.
О, Фортуна и все вы, боги, как вы наказали меня за гордыню! Я завоевывал народы и города, а теперь бессилен спасти собственное гниющее тело. Я был диктатором Рима, а теперь меня живьем поедают черви.
Чего я достиг? Что останется от труда всей моей жизни, когда закончатся роскошные похороны, потухнут факелы, панегирики будут произнесены, отвратительная плоть будет схоронена в земле? Молодость. Молодость останется, честолюбивая, задиристая, готовая вцепиться друг другу в глотки, как только имя Суллы станет не чем иным, как неясными буквами, выбитыми долотом каменщика на каком-нибудь разукрашенном памятнике. Помпей, Лепид расточительный, все эти беспомощные корыстолюбцы, которые завидуют мне, хотя не обладают моей силой духа.
Час назад Валерия настояла на визите ко мне. Я велел проветрить комнату и открыть ставни (хотя Эскулапий поклялся, что это убьет меня) и обрызгать мое тело сильными благовониями, чтобы умерить зловоние распадающейся плоти.
Она вошла, улыбаясь заботливо, словно я был болен легкой лихорадкой и меня нужно ублажать. Ее глаза были ясны и веселы, вся она излучала здоровье.
Ей нужно было бы плакать, показывать горе? Возможно. Хотя я не был бы ей благодарен за это. Она носила моего ребенка, мое бессмертие. Я буду жить благодаря ей и этому еще не рожденному семени. Этого достаточно. Я понимающе улыбнулся ей в ответ.
Валерия показала мне крошечную игрушку, которую сделал один из домашних рабов, – клетку, сплетенную из травы, и сидящего в ней сверчка. Я смотрел на крошечное коричневое неловкое существо, и тут, к моему изумлению, слезы начали тихо катиться по моим раздутым щекам, по старым фиолетовым пятнам, которые причинили мне так много страданий, а теперь были такими незначительными в сравнении с моей большей потерей. Нежным движением своих пальцев Валерия оттянула травинку, составляющую решетку клетки, после минутного колебания сверчок выпрыгнул из нее. Раб с безразличным выражением глаз вытер пот и слезы с моего лица.
Черви шевелились и ползали.
Через минуту Эскулапий отправил Валерию из комнаты. Прежде чем уйти, она остановилась и порывисто поцеловала меня.
Если бы она заставляла себя скрывать отвращение, я бы понял. Умирающего трудно обмануть.
Эскулапий клянется, что ребенку моя болезнь не передастся. Он – лекарь, которому я полностью доверяю. Я верю, я должен ему верить.
Я пробуждаюсь от беспокойных снов и говорю наугад. Эпикадий всегда тут, готов записывать. Однажды я застал, как он клевал носом – мой бедный, преданный Гомер[161]161
«Иногда и добрый наш Гомер дремлет». Гораций. «Наука поэзии», 351—59.
[Закрыть].
Сны, нестройные воспоминания, изъеденное червями великолепие, издевающееся над моим разложением, – кресло верховного судьи, лавровый венок, торжественные декреты, алая тога тирана – все иллюзорно, все – фантом бегающих огоньков среди серых болот.
Ночь за ночью – щедрые пиры, запах зажаренного кабана, специй, надушенных одежд, пота. Протяжные звуки музыкальных инструментов, гул голосов, кувыркающиеся шуты. Пятно красноватой блевотины на черно-белом мраморе. «Жене претора плохо – слуги!» Но нет, жене претора мало, она снова пьет, нагло смеется и снова блюет. Я забыл ее имя.
Я забыл все имена. Остались только лица – хитрые, жестокие, вкрадчивые, подобострастные, открытые рты, отточенные языки. Охотники за должностями, снобы, паразиты, Хрисогон мог бы с ними разделаться.
Хрисогон. Нет, это было позже.
Письмо от Помпея из Сицилии. Я читал его в весенний вечер, сидя под грушевым деревом, пока гречанка делала мне массаж. Мятежники на Сицилии разбиты. Превосходно. Но Помпей?.. Умелые пальцы трудились над моими дряблыми мышцами. Помпей дошел бы до Африки. Там полно мятежников. Желтая змея из прошлого заскользила перед моим конем. Пыльные бури, жажда, миражи. Неуловимый враг. Лицо Мария у Цирты. Югурта на гребне холма у Мулухи. Пусть Помпей отправляется в Африку, решил я.
А потом?
Я выбросил эту проблему из головы. Вечер был приятным, груши спелые, гречанка – молодая и симпатичная. Сенат доверил бы Помпею внушительные полномочия, льстя ему, намекая на большую награду, возможно, даже… Нет, не на триумф. Но кое-что в этом роде…
Я еще диктатор, и Метеллы – все еще мои друзья. Мои вольноотпущенники заполнили город. Я погрузился в сон, пока гречанка массировала мне голову.
Через неделю жена Помпея, моя падчерица, умерла при родах в доме Помпея. Мертворожденный ребенок был от ее первого мужа. Теперь, как никогда, нужно было привязать Помпея ко мне, а что касается Метеллов… ну, Метеллы могут искать более молодого защитника. Это только старики нуждаются в друзьях – они больше не могут бороться.
Одна связь разорвана, другая тоже вот-вот порвется, последняя, самым фатальным образом.
Метелла.
Она заразилась летней лихорадкой, пока я был в отъезде в Воллатеррах[162]162
Воллатерры – город-крепость в северо-западной Этрурии.
[Закрыть] – единственном городе, который все еще упрямо противостоял мне, – расположенной высоко в скалах этрусской крепости, прибежище мятежников. И когда я вернулся, чтобы отпраздновать Игры Победы, которые я учредил, Метелла определенно уже умирала. Она лежала в кровати в бреду, ее костлявое лицо, похожее на лошадиное, осунулось и раскраснелось, кожа на скулах натянулась столь же туго, как излом поврежденной ноги в том месте, где плоть темна и натянута давлением разъятой кости. Кольца на ее пальцах стали свободными и звенели, ударяясь друг о друга, когда она хваталась за простыни. Метелла лежала с открытыми глазами, но не видела меня и что-то бессвязно бормотала – обрывки воспоминаний о терроре в Риме под Марием, имена бывших любовников, оскорбительные ругательства, перемежаемые внезапными приступами громкого визгливого смеха.
«Она не должна умереть, – думал я, ненавидя ее с такой страстью, какой я никогда не подозревал в себе. – Она не должна умереть!»
Я смотрел на нее, ненавидя ее уродство, ее аристократическое высокомерие, ненавидя ее за те привилегии, что я получил только благодаря ей, за то, что я перед ней в непереносимом долгу, ненавидя ее, потому что она была незаменима, потому что, в конце концов я признал это теперь, я боялся ее. Я ужасно боялся ее смерти, потому что она лишит меня моей последней связи с патрициями, которых я презирал, но над которыми не мог бы больше властвовать. Я ненавидел ее, наконец, за то, что не мог скрыть своего страха, за то, что был вынужден признать, в каком я у нее долгу.
Эскулапий покачал головой и вызвал важного длинноносого коллегу из Александрии. Они шепотом провели консультацию. Длинноносый принял серьезный, ни к чему не обязывающий вид! Если бы матрона Метелла была помоложе или вела другой образ жизни… Он плотнее завернулся в тогу. Но как бы то ни было, он сожалеет.
Лихорадка. Проклятие Рима. Его наиглубочайшие соболезнования. Взяв гонорар, он удалился.
За ним следом появился Верховный Жрец в своем наряде, горя желанием хоть чем-то помочь. Она умрет во время Игр. На что у меня имеется приговор лучших лекарей. Во время ритуала не должно быть заражения.
Кончики пальцев сжаты вместе, голова наклонена. Приговор религии был оглашен в сухой монотонности, из-под толстых седых бровей. Диктатору в его положении непозволительно идти за гробом матроны Метеллы, подвергаясь опасности заразиться.
О!
Дом не может быть осквернен мертвым телом. Метеллу следует вынести оттуда, пока она еще жива. Но не в качестве твоей жены. Не должно быть никакой связи, обязывающей вас быть вместе. В подобном случае расторжение брака – вполне нормальная процедура.
– Я понимаю.
Прими мое сочувствие, господин диктатор. Религия – дело не всегда легкое. Таково мое положение. Нельзя завязывать узлы на одежде или стричь ногти железом. В определенные дни. Это мудрость наших предков. Ты должен смотреть на все в этом духе. Ты должен крепиться.
Метелла умирает.
Игры были триумфом – охота на льва в арене, гонки между атлетами, конные упражнения патрицианской молодежи. Факельные процессии. Трубы, зрелища. В память о великолепной победе у Коллинских ворот. Гигантский пир для народа. Триклинии на улице. Зарезанные свиньи. Сорокалетнее вино через отверстие в бочке. Пение, танцы, запах готовившегося мяса, пьяное насилие в темных переулках. Да здравствует диктатор! Насыщенные животы, остатки, выброшенные в Тибр. Собаки, дерущиеся среди одурманенных вином тел, борясь за кости. Полдюжины серьезных пожаров в трущобах.
Рим праздновал единственным способом, который был известен римлянам.
Метелла умерла в третий день Игр и перед концом пришла в сознание. Ее последние слова были:
– Передайте господину диктатору, что он лишился своей связи с Фортуной.
Потом она рассмеялась и так и умерла, смеясь.
Патриции почувствовали, что я теряю власть, как стервятники в чистом небе чуют кровь. Я был стар и одинок. Последовали окольные намеки, издевательские ухмылки за спиной, растущая враждебность. Они не смели высказываться вслух – они боялись меня. У меня были мои легионы и мои вольноотпущенники – но воспользуюсь ли я ими?
Я устал, просто невероятно устал. В первый раз в своей жизни я готов был пожертвовать репутацией, престижем, даже честью, чтобы удержать мир.
Метелла была мертва, а Помпей очень даже жив.
Из Африки, подобно обжигающему ветру, до города донеслись новости. Тысячи мятежников дезертировали к Помпею, сразу же после его высадки на берег в Карфагене. Остальные разгромлены с огромными, впечатляющими потерями.
Через месяц Помпей заканчивает кампанию, а после этого развлекается охотой на львов в Нумидии. Но он задумал более масштабное развлечение.
Я думал о его гордых легионах, довольных своей победой, награбленным добром и золотом, боевым оснащением, которое он захватил, о новых рекрутах, которых он получил. Я вспоминал себя, честолюбивого молодого офицера в Африке, который холодно планировал уничтожить Мария, как сапог давит скорпиона.
Что бы я сделал на месте Помпея? Ответ слишком очевиден.
Утомленный, сердитый, я послал ему одновременно поздравления с его успехом и приказ, подписанный сенатом, о расформировании всей его армии, за исключением одного легиона, и о возвращении в Италию. В Аттике он должен ждать замену себе на месте полководца.
Помпей написал в ответ умное письмо, слишком умное. Неужели он следовал чьему-то совету? Неужели заговор уже так далеко зашел? Его письмо пришло через день после донесения от моего секретного агента в Африке, сообщившего, что войско провозгласило Помпея императором и генералом и что его больше нельзя считать надежным.
«Похоже, это моя судьба, – так сказал я своим друзьям, читая этот рапорт, – бороться с мальчишками в моем преклонном возрасте».
После пространного, самодовольного отчета о своих военных победах Помпей писал:
«Твои приказы (которые я нашел ожидавшими меня) оказались для меня полной неожиданностью. Чем я заслужил такое твое отношение к себе? Однако, как солдат, я должен подчиняться приказам. А вот исполнять их – это другой вопрос. Мои войска, узнав, как обстоят дела, почти взбунтовались, только храбрость и дисциплина моих старших центурионов предотвратили бунт. Солдаты непристойно обзывали тебя и выкрикивали грубые оскорбления, говоря (я просто цитирую их слова), что они не отдадут своего любимого командира этому кровавому тирану!
Я пытался успокоить их и указал на серьезные последствия такого их поведения. Они принялись выражать свои протесты еще громче, чем прежде, повторяя, что хотят полководцем только меня. Я просил и умолял их, я удалился в свою палатку, я даже угрожал им совершить самоубийство – и действительно чувствовал такое умственное смятение, что острие меча могло бы меня соблазнить, если бы я не вспомнил свой долг перед своей страной.
Но я не мог их переубедить. Они, кажется, питают какую-то безрассудную личную привязанность ко мне, даже до такой степени – я краснею, когда пишу тебе об этом, – что называют меня Помпеем Великим. Никто больше меня не боится, исходя из горького опыта, тени гражданской войны. В сложившейся ситуации прошу тебя, мой господин, из любви ко мне, отменить свой приказ. В противном случае я не несу ответственности за последствия».
Эпикадий только что прочел мне это письмо. Оно все еще наполняет меня гневом и стыдом. Гневом на зеленого, уверенного, высокомерного автора, который не сделал себе труда скрыть свои угрозы, гневом от собственной капитуляции.
Капитуляция. Когда я прочел послание Помпея, то закрылся в своей комнате и заплакал. За день до этого я говорил о том, что вынужден бороться с мальчишками, но прекрасно знал, что никакого сражения не будет. Я был слишком стар – глухой, страдающий подагрой, малоподвижный. Мой триумф пришёл ко мне слишком поздно, под руку с нежданными гостями – старостью и болезнью.
Солдат и государственный деятель – издевался призрак, живущий на задворках моего мозга, за весь этот претенциозный самообман. Я посмотрел на свое отражение в зеркале и с отвращением отвернулся.
И вовсе не люди, даже не боги, а время предало меня.
В полдень я ненадолго заснул, и мне привиделся странный сон.
Я стою на одиноком морском берегу, и передо мной лежит безголовое тело, все еще в панцире, отливающем золотом. Кровь капает с шеи и впитывается в светлый чистый песок.
Бескрайний горизонт мерцает, горячий ветер шелестит в тростнике и приносит вкус соли, который чувствовался на моих губах. Я поднял глаза от неопознанного тела, и передо мной возник Хрисогон. Он нес отрубленную голову, держа ее за длинные седеющие волосы и размахивая ею, – непристойная пародия на Персея и Медузу. Он беззвучно смеялся, и от этого тихого смеха воздух дрожал, будто от жары.
То была голова Помпея.
Даже в смерти его глаза все так же глядели с омерзительным тщеславием и эгоизмом. Я смотрел на широкий высокомерный лоб, острый подбородок, слабый, маленький рот куриной гузкой, и во сне меня обуял гнев.
Темное лицо Хрисогона расплылось, стало меняться и приобрело черты Митридата, коронованного треугольной тиарой.
Я выхватил свой меч и бросился на него. Но когда острие вонзилось в его тело, он превратился, словно Мидас, в золото, и голова Помпея, став тоже золотой, раскачивалась в его металлических скрюченных пальцах, даже кровь на его руках превратилась в мелкую золотую пыль и осыпалась в соленые пески. Я осмотрелся и увидел, что в этой песчаной пустоши лежали выбеленные до блеска кости несчетного количества мертвецов, а подле них – их ржавеющие панцири, позади – громадные горы сокровищ, золотых монет, драгоценных камней, бронзовых вещиц – достаточно трофеев, чтобы насытить сотню армий. И в пальцах этих скелетов гнили пергаменты, тяжелые от старых печатей, я понял, не читая, что там перечислены дома и поместья, переданные им. И надо всем этим – дующий соленый, равнодушный ветер и блестящий песок, а вдалеке, за тростником, – лишь одинокие чайки парили на просторе.
Я хотел обратиться в бегство, но мои отяжелевшие ноги беспомощно увязли глубоко в песке. Пока я прилагал отчаянные усилия, из дюн зигзагами выскользнула змея, желтая змея, и, зашипев, вонзила свои клыки прямо мне в живот.
Тут я проснулся, вспотев от ужаса. От боли мое тело свело судорогой. Я закричал что-то бессвязное, и рабы прибежали на мой зов. Позвали Эскулапия, и он успокоил меня как мог. Слушал и кивал, пока я рассказывал ему свой сон, его старое желтое лицо опечалилось под бременем знания и мудрости.
Он дал мне лекарство, чтобы унять боль. Я попросил его остаться со мной. Он молча присел на низенькую скамеечку у постели. Рабы вытерли губкой мое лицо и приподняли в более удобное положение. Из угла на меня смотрел сидящий за своим письменным столом со стилусом в руке Эпикадий, его худое лицо замерло от горя.
Я откинулся на нагромождение подушек, лекарство боролось с мучившей меня болью, мои мысли блуждали где-то в прошлом, вне этого отяжелевшего больного тела, которое тянуло меня вниз, в землю.
Эскулапий спросил:
– Хочешь, чтобы я растолковал тебе твой сон, мой господин?
Я покачал головой:
– Нет, я сам его прекрасно понимаю.
Эскулапий медленно кивнул.
Я осведомился, с трудом выговаривая слова:
– Сколько мне еще осталось?
Последовала пауза.
– Ты умираешь, мой господин.
– И скоро? Скоро я умру?
– Не могу сказать. Теперь тебе могут помочь разве что боги. Я могу лишь облегчить твои страдания, мой господин.
Я сказал:
– Ты – честный человек, Эскулапий.
Его темные глаза быстро сверкнули с болью, но он ничего не сказал.
– Ты веришь в магию, Эскулапий? Твоя клятва Гиппократа позволяет тебе практиковать это искусство?
Лекарь смотрел на меня с состраданием.
– Мой господин, – сказал он, – неужели твоя ненависть к Помпею столь сильна?
Мои мысли ускользнули от него прочь из этой тесной душной комнаты. Я заговорил, и мои слова вернулись ко мне из прошлого эхом, слабым, как шелест осенних опавших листьев под копытами коня в лесу. Тихое царапанье стилуса Эпикадия вторило им.
– Это слабых я должен бояться, но понял это слишком поздно. Сильных я знал и понимал.
«Маленькое тщеславие, мелкие амбиции. В одиночку они бессильны. Вместе они обретают силу своих страстей. И толпа поддерживает их, видя в таких глупых людях отражение своих собственных душ. Философы обманывались. Люди не стремятся к добру. Они его ненавидят, потому им стыдно. И они уничтожают его, если могут.
А я не думал об этом, я не понимал. Я не мог понять ужасную силу их слабой ненависти. В конце концов их ненависть и страх обрели форму и стали оружием у них в руках.
Они каждый день видели Хрисогона в общественных местах Рима – грека, бывшего раба, моего фаворита. Фаворита тирана, который купил себе огромный дом на деньги убиенных, грека-вольноотпущенника, который расхаживал по чужой стране с такой же надменностью, как любой из патрициев, а свободные граждане ходили перед ним на задних лапах. Тяжелые кольца, завитые и надушенные волосы, великолепные одежды, одиозная насмешка привилегированного.
Они видели все это и безрассудно ненавидели. Они не думали о справедливости. Их изнутри снедала зависть, как сбитое ветром яблоко гниет с серединки, где поселяются черви.
Моей ошибкой была моя беспечность. Легко наделять властью, стать зависимым от подчиненного, игнорировать то, что каждый предпочитает не видеть. Я признаю свою ошибку. Хрисогон превратился в монстра тиранических амбиций, а я ничего не предпринимал.
Они видели Хрисогона, они видели Помпея. Они ненавидели их и преклонялись перед ними.
Я вижу тебя насквозь, Помпей, но вижу я не всеми любимого героя, а тщетного, слабого молодого человека, сознающего свою силу, обиженно требующего триумфа. Ты спорил со мной в моем собственном доме, крича, чтобы достучаться до меня через мою глухоту, краснолицый и выведенный из терпения старым дураком, который не услышал твоего самовосхваления, который один стоит у тебя на пути.
«Упрям до невозможности, – сказал ты тихо (не исключено, что ты немного испугался собственной смелости). – Подумай, Сулла, что люди скорее поклоняются восходящему, чем заходящему солнцу».
Когда я для проверки переспросил, что ты сказал, они все обеспокоенно насторожились, эти патрицианские временщики, держа нейтралитет в опасный момент.
В конце концов раб проорал мне эти слова в ухо.
– Разрешите ему триумф, – сказал я тогда. Мне было совершенно наплевать. – Разрешите ему триумф.
Пусть дураки и молодежь оскорбляют власть, за которую я жертвовал своей жизнью. Пусть Фаэтон правит колесницей Солнца.
Мне следовало бы убить тебя, Помпей. Народ кричал бы о несправедливости, но скоро люди забыли бы о тебе, как забудут обо мне и каждом, кто ими правит. Неразумный прилив, который притягивает холодная луна, стирает все, что мы строим на песке.
Они немного поненавидят, немного полюбят, а потом забудут. Они едины и непоколебимы, те, кто не способен ни на действия, ни на страдания – лишь на потребление. Они нанесли мне удар через Хрисогона – скандал, убийство, в которое он был вовлечен ради собственной выгоды, ложное обвинение. Суд выкристаллизовал всю безобразную ненависть в их умах.
Молодой неизвестный адвокат, исключительно отважный, выставил вольноотпущенника ненавидимого диктатора преступником. Какой адвокат отказался бы намекнуть, что сам диктатор удит рыбу в мутной воде и что справедливость, за которую он стоит горой, лишь маска для прикрытия его собственной жадности?
Этот адвокат был умен, он просто обязан быть умным. Он расписал меня добродетельным правителем, не имеющим понятия о прегрешениях своих служащих. Я до сих пор слышу этот твердый, скрипучий, высокий голос. «Неужели ради этого, – визжал он, – ради этого наши наиблагороднейшие люди сражались под командованием Суллы, спасая государство, – чтобы бывшие рабы и подхалимы высокопоставленных людей могли отвоевать себе власть обирать наши имения и присваивать себе наши состояния?»
Чего ради? Неужели ради этого? Беспощадное заявление юнца до сих пор жжет, произнесенные им слова не выходят у меня из головы.
Однако я действительно ничего не знал. Хрисогон потратил целое состояние, чтобы не держать меня в курсе дел. Теперь это не имело значения, правда была никому не нужна. Народ слушал и судил. Меня осуждали, конечно, будто это я сам стоял перед трибуналом.
Я был одинок, крайне одинок. Патрициям, которые ненавидели выскочку Хрисогона, не нужен был и его хозяин. Всходило новое солнце, и они повернулись к нему. Они забыли о молодости Помпея, о тех насмешках, которыми они его осыпали. Александр вернулся домой с триумфом, и он – не я. Рим наконец обрел своего великолепного героя. О старом, больном, безобразном тиране, который потерял свою власть, можно и забыть.
Вот только я забыть не могу».
Я слушал, как бы со стороны, как мой голос задрожал и осекся, будто говорил кто-то другой, а не я сам. Тишину нарушало лишь царапанье стилуса Эпикадия, пока он писал эти заключительные слова.
Эскулапий сидел неподвижно, наклонив голову и сжав руки. Некоторое время спустя он посмотрел на меня и печально улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, вышел, его синее с красным одеяние волочилось по полу.
Эскулапий – тщедушен, хил, на десять лет старше меня, и все же он будет жить, когда я умру.
Казалось, Эпикадий перечитывал то, что написал, – я не мог видеть его лица.
Темнота, и мигающие свечи. Вышедшие на ночную рыбную ловлю рыбаки должны быть уже в заливе. Так много незаконченного, как много сделано не так или испорчено! Так мало времени осталось для работы – потерянные годы, как пыль в горле.








