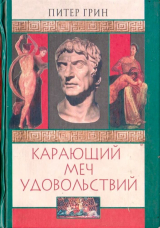
Текст книги "Карающий меч удовольствий"
Автор книги: Питер Грин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Все, что я мог бы видеть, казалось маленьким и бесконечно отдаленным, масштабное сражение муравьев, в которое не была вовлечена ни одна индивидуальная личность – только общая масса. Крики и рев труб слабо доносились в неподвижном полуденном воздухе. От забитых людьми римских улиц поднимался дым готовящейся пищи, безразличный, как казалось, к происходящему сражению. Люди сновали туда-сюда по Эсквилину и у Коллинских ворот; высокие лестницы воздвигались, качались, падали и снова появлялись. Внезапно большая масса отрядов под щитами хлынула вперед под арку Эсквилина, словно вода, выливающаяся из канализационной трубы. Стена была взята, ворота открыты. Я отдал приказ своему трубачу, и длинная ожидающая колонна двинулась вперед за мной, в полной тишине, если не считать топот ног и звон брони.
Мы штормом пронеслись через Эсквилинские ворота, не встретив сопротивления, топот наших сапог эхом отзывался по каменным плитам. Мертвые тела лежали в водосточных канавах. Ливень плиток и камней приветствовал нас с крыш домов; один камень нанес мне сокрушительный удар по левому плечу. Разгневанный, я позвал своих лучников и приказал им стрелять зажженными стрелами в окна верхних этажей; эти хрупкие деревянные сооружения сгорят, словно стога сена. По мере того как мы прокладывали себе путь на базарную площадь Эсквилина, я услышал потрескивание огня сзади, и воздух наполнился плотным дымом.
Тут находилось сосредоточение сил сопротивления. Здесь Марий и Сульпиций с теми рекрутами, что они способны были поднять, отстаивали свой последний рубеж. Весь день продолжалось это ужасное сражение: первое заранее подготовленное сражение, которое когда-либо велось в пределах городских стен. В один момент действительно казалось, что нас вот-вот оттеснят назад к стенам; я выхватил знамя[96]96
Знамена – боевые значки римских легионов, изображения орла на длинном древке.
[Закрыть] у легионера, который держал его, и сам бросился в гущу боя.
Тогда Лукулл со своим легионом просочился через Субуру после продолжительного сражения на улицах под Капитолием, и наш бой закончился победой. Сторонники Мария рассеялись и разбежались по узким извилистым переулкам, ведущим от рыночной площади, наши люди преследовали их. Мы с Помпеем отправились к Форуму и объявили Рим на военном положении. Из домов выползли немногочисленные граждане, чтобы послушать декрет. Тогда мы посмотрели друг на друга и улыбнулись сквозь пот, грязь и кровь, засохшие на наших лицах. Консулы вернулись домой с триумфом.
Всю ту ночь наши патрули курсировали по улицам, чтобы предотвратить панику, или бунт, или, естественно, безответственный грабеж нашими же отрядами. Мне не нужно было говорить, что обыкновенный бандит стал теперь хозяином в Риме. Трое ворвавшихся на винный склад были пойманы ранним вечером, и я велел их казнить прямо на самом Форуме. Их товарищи поняли намек. На каждом углу улицы горели костры часовых, а сами улицы отдавались эхом от шагов караульных. К полуночи все стихло.
Но мои главные враги спаслись бегством – ни Мария, ни Сульпиция найти не смогли. Однако на следующее утро один из рабов Сульпиция был тайно приведен ко мне. Я вернулся в свой дом и нашел Метеллу в безопасности; охранников, которые сопровождали раба, пригласили, к их некоторому замешательству, в нашу спальню. Раб спросил, правда ли я обещал свободу любому, кто скажет, где находится Сульпиций.
Я подтвердил, и тогда он назвал улицу и дом. Я подозвал капитана охраны и велел ему взять отряд и привести мне Сульпиция живым.
– А моя свобода? – спросил раб.
Я встал с кровати, все еще в моем ночном одеянии, и произнес ритуальные слова. Вызвали писца, чтобы написать свидетельство об освобождении на волю, и я его подписал.
– Никто не посмеет сказать, что я – человек несправедливый, – заметил я. – Обещал тебе свободу, и ты ее получил. А теперь я дам тебе урок лояльности.
– Я всегда предан тебе, мой господин.
Черные, жадные глаза бывшего раба с тревогой искали мой взгляд.
– Во-первых, ты должен быть предан своему господину. Ты должен был об этом подумать, прежде чем идти ко мне. Охрана, возьмите этого… этого свободного человека и бросьте его вниз с Тарпейской скалы[97]97
С Тарпейской скалы сбрасывались приговоренные к смерти.
[Закрыть]. Это послужит хорошим примером любому рабу, у которого возникнет соблазн пойти по его стопам. У нас в Риме и так достаточно предателей.
За своей спиной я услышал высокий сардонический смех Метеллы. Приятно иметь жену, которая ценит чувство юмора.
Тем же утром я произнес на Форуме речь. К тому времени паника стихла, и римляне в своем вялом безразличии приготовились встретить нового правителя. Высоко на Ростре отрезанная и окровавленная голова Сульпиция пялилась выпученными глазами с шеста. Я бы с удовольствием воспользовался привилегией убить его собственными руками, но не стал выказывать своего недовольства рвением, которое опередило меня даже вопреки моему приказу. Во всяком случае, мертвый трибун представлял собой удобный наглядный пример, неопровержимое доказательство, что мои слова не расходятся с делом.
Я начал с того, что сообщил народу о грустном положении Республики, разрываемой так долго интригами демагогов, вынудивших меня на поступки, о которых я лично мог бы только сожалеть, но которых не мог избежать. Народ смотрел на голову Сульпиция и молчал. На сей раз меня уже никто не прерывал. Тогда я вкратце ознакомил их со своими чрезвычайными декретами. Все законы Сульпиция, поскольку они были приняты под угрозами и по принуждению, объявлены недействительными. С целью проверки деятельности безответственных трибунов ни одно предложение в будущем не будет поставлено перед народным собранием, если оно предварительно не одобрено сенатом. Списки избирателей, обладающих правом голоса, и способы голосования будут пересмотрены, чтобы должности магистратов в будущем не попали к известным бунтовщикам.
Тупые угрюмые лица смотрели на меня, пока я перечислял эти меры – конечно, неадекватные, но лучшие, что я мог сделать за такое короткое время. Я сознавал неудержимое чувство удовольствия и триумфа, пока смотрел на эту побежденную толпу. Они не стоили ничего – обыкновенные едоки, эгоистичные, жестокие, нерешительные и подкупленные, досужие лишь к простым ощущениям совокупления и пьянства, к мгновенным волнениям гонок или арены. Лошади и мулы голосовали бы с большей разумностью и честностью. Но когда мои ликторы разогнали их, а они покорно разбрелись, сопровождаемые звуками консульских труб, насмешливо дующих им в спины, я не питал никаких иллюзий, что с ними или с их предводителями покончено.
Теперь, наконец, реальная власть принадлежала мне. Однако теперь я, как никогда, не мог себе позволить наслаждаться удовольствиями, которые дает власть. Люди, завоевывающие власть так, как завоевал ее я, слишком склонны воображать себя с тех пор непобедимыми и непогрешимыми. Я был лишен подобных иллюзий.
По правде сказать, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мой авторитет в Риме почти полностью зиждется на моих легионах. Постоянная угроза их присутствия могла бы заткнуть рот оппозиции, но не могла уничтожить ее; и как только угроза минует, чего не удастся избежать, возникнет масса возможностей возобновить гражданскую войну. Хоть Сульпиций и мертв, но Марий очень даже жив. Он бежал из Рима, спасая свою шкуру, и, судя по слухам, скрывается где-то на юге. Я предложил щедрую награду за его поимку и официально объявил его вне закона – что означало, что его разрешалось убить на месте, но я не возлагал особой надежды на подобные методы. У Мария было слишком много друзей, его имя обладало почти магической силой, которую даже полное поражение не могло бы полностью затмить.
Хуже всего то, что я был вынужден бороться против атмосферы недоверия и негодования, которая ясно чувствовалась не только среди сторонников Мария в партии популяров, но и среди самых обыкновенных людей. Они ненавидели меня просто потому, что я заставил их повиноваться военной силе, а не взятке, к чему они были приучены. Их подкупали и давали им взятки слишком долго: резкая перемена была для них чем-то вроде шока.
Наконец, я подорвал доверие сената. Я попрал их самые лелеемые традиции: я вошел в Рим с вооруженными людьми за спиной. Правда, мой поступок был в значительной степени в их интересах; но человек, который нарушил закон однажды, может нарушить его снова, но по иным соображениям. У них не было никаких гарантии моего поведения; и в крайнем случае они не могли простить мне того, что я выставил их бессилие перед неопровержимым аргументом силы. Даже Сцевола, который во всем поддерживал меня прежде, высказал возражения на сенатской курии против декрета о признании Мария вне закона, который я объявил. Это, видите ли, оскорбляло его понятия об этикете.
В течение этих нелегких месяцев у меня возникал большой соблазн объявить себя открыто военным диктатором, что в действительности так и было, и править Римом в качестве такового, но риск преждевременного провозглашения себя диктатором был огромен. Настал момент, когда я остался единственным консулом. Я отправил Квинта Помпея на север, чтобы тот взял под свое начало отряды известного друга Мария. Но воины не сочли подобную перемену приемлемой; они убили бедного Помпея и восстановили своего прежнего полководца. Ясно, что палка личной преданности о двух концах. Тем временем я решил выждать время. Теперь неудача уничтожила бы все, ради чего я старался.
И куда ни кинь, вставала одна проблема, которая затмила все остальное. До тех пор пока Митридат не будет побежден, а Азиатские провинции с их неистощимым богатством не будут вновь отвоеваны, все, что я мог сделать в Риме, не имело никакого значения вообще. Казна была почти пуста, и не было иного способа наполнить ее, кроме как победить на Востоке. Мои легионы, от которых зависела моя жизнь и которые усердно сражались за взятие Рима ради скромного вознаграждения, проявляли нетерпение в ожидании платы и добычи, которые могли быть получены только одним способом. С каждым месяцем, что я проводил дома, Митридат собирал все больше резервов – людских, продовольствия и кораблей.
Здравый смысл говорил мне, что будет безумием оставить Рим Марию, когда мое положение там столь неопределенно. Мне потребуется каждый солдат, которого я только мог поднять. Но что остановит Мария от узурпации моей власти, как только я покину Рим? Я подумывал о том, чтобы послать другого полководца на мое место; но не было никого, кому я мог бы доверять, или, скорее, того, кто казался способным к победе в такой невероятной кампании. А если по случайности ему удастся победить, то у меня будет лишь еще один потенциальный конкурент.
Нет, мне придется отправляться в поход самому и воспользоваться случаем. Если нужно, я готов потерять Рим; в конечном итоге это было бы меньшим злом. Если я побью Митридата, то смогу отвоевать Рим назад, так же как завоевал его перед этим. Если нет, мое положение не будет хуже. Я принял твердое решение.
Приняв это решение, я сделал все, что мог, чтобы убедить и сенат, и оппозицию в моей доброй воле. Я объявил, что предпринимаю экспедицию в Азию в новом году и что прежде, чем я отбуду, должны пройти свободные и традиционные консульские выборы. В доказательство своих добрых намерений я отослал свои легионы назад в Капую, а сам остался в городе под защитой одной лишь своей консульской власти. Не было никакой возможности устроить выборы под давлением и в день выборов принудить голосующих отдавать голоса не по их выбору. Я получил некое удовлетворение от того, что преднамеренно предоставил своим врагам незначительное преимущество: это должно было озадачить их. Только Марий, хитрый старый вояка, мог бы догадаться, что эта жертва делалась с точным расчетом; но за Марием охотились, за его голову была назначена награда, он был не в том положении, чтобы предавать гласности свои догадки.
Тем не менее я не имел намерения отказываться от большего, чем было необходимо, и воспользовался всем своим влиянием, чтобы поставить на государственную службу подходящих людей. Но оппозиция, видя свое преимущество, оказывала давление как только могла. Только один мой кандидат вернулся с выборов консулом: спокойный, полноправный патриций по имени Октавий, который, подобно многим представителям его сословия, имел безобидное пристрастие к спиритизму. Первое место выиграл Корнелий Цинна: безжалостный популярный демагог и известный друг Мария, который не делал секрета из своей ненависти ко мне.
Соответственно я выбрал лучшее из двух зол. Сначала я обратился к избирателям и поздравил их с тем, что они осуществили ту древнюю свободу выбора, которую я им отвоевал снова. Боюсь, они не оценили это замечание: ирония – не то настроение, которое плебейские умы воспринимают легко. Тогда я заставил Цинну пройти торжественную церемонию клятвы поддерживать мои законы. Со священниками и авгурами впереди, выглядя, к моему удовольствию, замечательно глупо, он взошел на вершину Капитолийского холма, держа в руке большой камень, над которым было произнесено множество длинных и невнятных клятв. Дойдя до вершины, он бросил его вниз со скалы. Камень от сильного удара раскололся на мелкие кусочки.
– Если я нарушу свою клятву, – завопил Цинна, – пусть я погибну, как разбился этот камень!
На мгновение наши взгляды встретились; каждый, я уверен, понял, что было на уме у другого.
Цинна, конечно, подтвердил мои подозрения относительно его характера почти с неприличной быстротой. Его первым законодательным актом как консула стало предписание мне явиться в суд за то, что я незаконно ввел войска в Рим. Я мог бы позволить себе проигнорировать подобную тактику; но это было мне предупреждением о том, что должно за этим последовать, и намеком, что чем скорее я оставлю Рим, тем будет лучше.
Действительно, меня больше ничего не держало теперь. У меня было девять тысяч фунтов золота, взятого из сокровищниц храмов по специальному декрету сената. Мое войско, хотя и немногочисленное для такой великой задачи, с нетерпением ждало выступления. Корабли, продовольствие и фураж, машины для осады – все, что только возможно, было в нашем распоряжении. В холодное утро на исходе года я собрал свое войско в порту Брундизия[98]98
Брундизий – портовый город в Калабрии, конечный пункт Аппиевой дороги.
[Закрыть] и отплыл на Восток. Моя нога не ступит на землю Италии еще долгих четыре года.
Глава 13
Когда я со своим войском высадился в Диррахии[99]99
Диррахий – приморский город в Иллирии на Адриатическом море.
[Закрыть], после бурного перехода через Адриатику, мое положение казалось почти безнадежным. Митридат, изображая эфесского владыку, в окружении подобострастных провинциалов и занятый своей молодой женой-гречанкой, должно быть, смеялся, когда услышал о моем прибытии.
У него была веская причина для смеха. Его многочисленная многоязычная армия, насчитывающая двести тысяч воинов, держала всю Фракию[100]100
Фракия – страна в северо-восточной Греции, между Македонией и Черным и Эгейским морями.
[Закрыть] и двигалась на юг, чтобы взять Македонский проход. Для того чтобы остановить его продвижение, имелся лишь один пропретор с единственным легионом. Афины и Пирей[101]101
Пирей – город и порт в Аттике в устье реки Кефиса, на расстоянии около 7 км к юго-западу от Афин.
[Закрыть] пребывали в состоянии восстания, подкупленные тираном. У меня было пять легионов и никакого флота. Мои враги в Риме вовсе не намеревались отправлять мне подкрепление, что хорошо было известно Митридату, предпочтя скорее навредить мне любым возможным способом. Я был вынужден вести большую войну в Греции, прежде чем смогу пересечь Босфор, не говоря уж о сражении с Митридатом на его собственной земле. Далеко в Эфесе[102]102
Эфес – приморский город в Ионии близ устья реки Каистр, против острова Самос, с храмом Дианы.
[Закрыть] все это, должно быть, казалось восхитительной шуткой.
Я доверял лишь одному человеку – Лукуллу. Я сделал мудрый выбор. Он уже доказал себя замечательным младшим офицером во время Италийской кампании и взятия Рима: его абсолютная надежность оказывала на меня успокоительный эффект. Его грубое, добродушное лицо, слегка обсыпанное веснушками, никогда не выдавало никаких эмоций; из-за непослушных темно-рыжих волос он казался моложе своих тридцати лет. Лукулл был родственником Метеллы по матери, свободно говорил по-гречески, был предан философии – человек, в ком порывы к действию и здравый смысл обрели почти совершенное равновесие. Из всех людей, каких мне приходилось знавать, Лукулл был единственным, чья личная привязанность ко мне не была связана с мыслью о продвижении по службе. Я стал бездумно полагаться на эту непоколебимую преданность: в конце я воспринимал ее как само собой разумеющееся. Только когда было уже слишком поздно, я понял истинную цену его дружбы.
Именно Лукулл тактично и гладко в один прекрасный день уменьшил наши проблемы до размеров, с которыми мы могли бы справиться. Он взял два из моих пяти легионов и отправился на север в Македонию. Один легион он оставил набирать рекрутов в Фессалии и Этолии[103]103
Этолия – область в Средней Греции.
[Закрыть], которые оставались преданными нам. С другим он выманил орду Великого Царя на юг, к серым тростниковым равнинам Беотии, вдоль побережья к Делию и Оропу[104]104
Ороп – город в Беотии, близ Аттики.
[Закрыть], где я теперь поджидал, чтобы присоединиться к нему. Мы беспокоили эту огромную, медленно передвигавшуюся орду, словно овчарки, сгоняющие стадо овец; и в конце концов Архелай, каппадокийский наемник, которого Митридат выбрал полководцем, сделал то, на что мы надеялись. Послы отправились из его лагеря к Аристиону, афинскому тирану, а мы позволили им беспрепятственно пройти. Неделей позже Архелай и вся его армия оказались в безопасности за стенами Афин или Пирея. Война внезапно превратилась в осаду.
Архелай, вероятно, не был таким глупцом, каким казался. Он прекрасно знал, что время жизненно важно для меня; он, возможно, даже был связан с некоторыми из демократов в Риме. Осада, в определенном смысле, была ненамного лучше, чем бой в открытом поле. Он также знал, что я никогда не рискну пойти на север и оставить свой тыл незащищенным. Чем дольше он сможет продержать меня у Афин, тем лучше.
Все то лето и осень я испробовал известные мне способы и устройства, чтобы взять эту цитадель штурмом. Что оказалось бесполезным. Длинные стены[105]105
Длинные стены – линия укреплений, соединяющих Афины с их морским портом Пиреем.
[Закрыть] высотой в тридцать футов, выстроенные из больших каменных блоков, были возведены еще во времена Перикла. Наши лестницы сбрасывались вниз, наши насыпи подрывались, наши атаки отгонялись назад зажигательными ядрами, кипящей смолой и залпами стрел. Мы потеряли много осадных машин. Расстроенный и разъяренный, я отвел большую часть своих сил в Элиду, в пяти стадиях от города, готовиться ко второму штурму.
Нехватка судов наносила нам ощутимый вред. Пока Архелай удерживает Пирей, он может получать снабжение морским путем. Афины можно было уморить голодом, но Пирей мог защищаться неопределенно долго. В конце концов я послал Лукулла, хотя с трудом мог расстаться с ним, попытаться собрать флот в союзнических портах Восточного Средиземноморья. Он отправился переодетым на торговом судне с почти последним моим золотым запасом. Я прекрасно знал, что есть вполне вероятный шанс больше никогда его не увидеть.
Деньги были еще одной проблемой. Я разослал посыльных ко всем великим оракулам – в Додону, Дельфы[106]106
Додона – город в центре Эпира со священной дубравой и оракулом Юпитера; Дельфы – город в Фокиде у подошвы Парнаса, местонахождение оракула Аполлона, по представлениям греков – центр земли.
[Закрыть], к остальным, – сообщив, что их сокровища в рискованных условиях войны будут в гораздо большей сохранности под моим присмотром.
«Никто не знает, – предполагал я, – что могут сделать мятежники, если их доведут до восстания».
Я всегда верил в поддержание вежливых отношений с религией, и в данном случае результаты оправдали мою заботу.
Некоторое время казалось, что война зашла в тупик. Имели место случайные перестрелки и набеги, но этим все и ограничивалось. Внезапно на нас обрушилось афинское лето, и воздух наполнился пронзительным стрекотанием цикад. Осаждавшие и осаждаемые в равной степени потели под беспощадным солнцем. Я помню странную фиолетовую прозрачность воздуха, запах полыни и тимьяна, прохладные рассветы, проведенные на охоте в горах над Афинами, силу, блеск и суровость того скалистого пейзажа, отягощенного историей.
Именно здесь в первых числах сентября нашло меня письмо Метеллы.
В те долгие месяцы осады и отчаяния мои мысли были заняты как Корнелией, так и Метеллой. У меня было нехорошее предчувствие, когда я уезжал и оставлял их в Риме. Возможно, мне следовало бы взять их с собой, но тогда они обе были беременны, и вопрос о суровой заграничной кампании не стоял для женщин в таком положении. Я скомпрометировал себя, тайно купив новое сельское поместье в Этрурии, куда они могли бы удалиться, если ситуация в городе станет для них слишком опасной.
«Мы были вынуждены уехать в деревню даже скорее, чем я ожидала, – писала Метелла своим летящим, едва различимым почерком. – Однако не могу притворяться, что сожалею об этом. Рим летом – не место для женщины на шестом месяце беременности. Здесь мы нежимся на солнышке и чудовищно обленились. Доктора говорят нам, что мы обе ждем близнецов, а авгуры заняты пророчествами всяческих благ для нас в результате благополучного разрешения. Это оптимистично с их стороны: обстоятельства еще никогда не выглядели так худо. Ты просил, чтобы я держала тебя в курсе событий. Ну, я постараюсь.
Твой друг, Корнелий Цинна, занялся делами сразу, как только ты поднял парус, отплывая от Брундизия. Он умеет найти общий язык с женами богатых дельцов и, как я догадываюсь, получил немало денег, как и удовольствия, при обхаживании их. Когда он приобрел несколько большую уверенность в себе, то принялся поднимать шум насчет возвращения из изгнания Мария и его друзей. Он был даже готов провести декрет силой.
Но ему пришлось считаться с Октавием, который вопреки всем ожиданиям (включая и мои, могу сказать) показал, что он все еще консул и может отвечать на силу силой. Я полагаю, Цинна ожидал вежливой дискуссии, которую мог бы проигнорировать. Вместо этого ему пришлось бороться за собственную жизнь на Форуме: Октавий собрал охранников, которые умеют пользоваться кинжалами ничуть не хуже разбойников Цинны. Мятеж был подавлен, и Цинна бежал из Рима, спрятавшись в телеге, запряженной мулами. Уместность его изгнания не осталась без внимания остряков.
Однако не думаю, что шутки будут продолжаться долго. Марий вернулся. Он сошел на землю в Этрурии два дня назад. Из всех сообщений следует, что его рассудок, если он когда-либо имел таковой, совсем пришел в полное расстройство в изгнании. Марий все еще облачен в те самые обноски, в которых бежал. Отрастил волосы почти до талии, и ему повсюду мерещишься ты».
Когда я прочитал эти слова, меня бросило в дрожь, хотя день стоял жаркий.
«Марий безумен, Луций, совсем спятил. Он говорит только о мести. Рыщет по окрестностям в неприятной близости от нашего поместья, вербуя рабов с плантаций и разбойников. Он произносит длинные, сумбурные, бессвязные речи о своих прошлых победах и о той неблагодарности, какой Рим отплатил ему. Хуже всего то, что войска, оставленные в Италии, проявляют к нему сочувствие. Гарнизон Метелла в Апулии[107]107
Апулия – восточная область Южной Италии.
[Закрыть] перешел на его сторону, а сам Метелл бежал в Африку».
Метелл, это был Метелл Набожный, который заработал себе имя, добившись возвращения своего отца из изгнания.
«Теперь ему потребуется нечто большее, чем благочестие», – подумал я.
Но Метелла (как и Сцевола) оставила самое плохое напоследок.
«Марий и Цинна объединили силы, – писала она. – Цинне удалось собрать тревожно большую армию, главным образом от наших новых италийских союзников. Цинна убедил их, что именно он является их защитником от предательского сената. Он обладает прекрасным драматическим даром: рвет свои одежды, катается по земле и проливает слезы. Замечательный оратор для толпы. То, что сенат лишил его должности консула, для него ничего не значит.
Он рассказывает италикам, что властью его облекли они, как граждане, и только они могут лишить его ее. Без сомнения, это сильно им польстило. В результате Цинна вместе с Марием обзавелись десятью легионами».
– Десять легионов, – повторил я вслух, размышляя о своих скудных резервах. – Десять легионов против пяти.
«Я не сомневаюсь в том, что они намереваются делать. Ты проторил им дорожку; они последуют по ней. Через месяц или меньше они будут маршировать по Риму, как сделал ты».
Я вспотел от бессильного гнева. Цинна и Марий. Марий. Марий – крестьянский генерал, сумасшедший, прах с Арпина, его ум протух мечтами о мести. А Афины все еще лежат передо мной невзятые.
«Ни я, ни Корнелия не годимся для долгой дороги. Ее ребенок – или дети, если мы можем доверять лекарям – родится через месяц. Мне придется ждать чуть дольше. Мы должны надеяться, что до тех пор Марий нас не найдет. Я уже предприняла предосторожности; подготовлено еще одно тайное укрытие, если прежнее станет ненадежным. Но потом мы должны будем приехать к тебе, Луций, как бы рискованно это ни было. Оставаться в Италии нам больше небезопасно».
Времени в моем распоряжении было даже меньше, чем я предполагал. Теперь, когда дни становились короче, а воздух – холоднее от осенних морских ветров, дующих с Саламинского залива, мы старались усердней, чем прежде. Мои инженеры запугали фиванцев, заставив поставлять нам железо, и строили новые катапульты. Но этого было все еще недостаточно. Мы должны были располагать для нападения башнями, таранами, всяческим осадным оборудованием. Достать древесину было почти невозможно; я отдал безжалостный приказ, и целыми днями на холмах звучало эхо падающих деревьев, когда мои первопроходцы вырубали священные рощи. Боги в скором времени получат за них компенсацию, но им придется ее подождать. Будучи бессмертными, они должны обладать неоценимым даром терпения: тем, чего я в настоящее время не мог себе позволить.
Каждый день в наши ряды прибывали скрипящие обозы с новыми строительными материалами – я реквизировал десять тысяч пар мулов в Беотии и Аттике; вряд ли осталась хоть одна старая кляча во всей Восточной Греции к тому времени, как я закончил приготовления к штурму, – и хоть и медленно, но наши машины и оборудование для нападения были построены. К концу октября я был готов предпринять еще одну попытку взять город. В Афинах были предатели: день ото дня со стен сыпались сообщения, обернутые вокруг камней, пущенных из пращи, рассказывающие нам о хлебных обозах или о запланированных набегах на наши линии. Мы захватывали обозы и устраивали засады, противостоя нападениям афинян. Скоро мы узнали, что в городе начался голод.
У меня был каждый человек на учете, каждый, кого только я мог перебросить от блокады Пирея в попытке взять Афины. Это походило на сражение с великаном. Как только были возведены наши башни, их тут же подожгли. Саперы внутри стен прорыли туннели под наши насыпи. Я отдал приказ своим людям рыть туннель им навстречу; оба отряда встретились под землей и дрались вслепую в темноте, пока не обрушилась крыша, убив многих из моих лучших легионеров. Наступала зима. Казалось, будто Фортуна вконец оставила меня.
Метелла добралась до меня в ноябрьский полдень, когда шел проливной дождь, а мы сидели, дрожа, в своих палатках, и лишь несколько патрулей стояло на часах на случай неожиданного нападения. Когда небольшая кавалькада прошла через наши ряды, я узнал многих своих друзей, которых оставил в Риме: всех до одного патрициев и сенаторов. Мои легионеры бросились из палаток, окружили их, выкрикивая вопросы о делах дома. Всадники качали головами; их лица были серые и истощенные, лошади спотыкались от усталости.
Но Метелла, когда вышла из повозки и поздоровалась со мной, казалась такой же крепкой и выносливой, как прежде. Возможно, морщинки чуть глубже залегли на ее лице, но подстриженные рыжие волосы были еще в диком беспорядке и искрились каплями дождя, а ее огромные глаза встретили мой взгляд с сухой насмешкой. Только когда мы оказались одни в моей палатке, она бросилась в мои объятия и задрожала, как в лихорадке.
На мгновение я забыл об осаде, забыл даже о новостях из Рима.
– Мой ребенок, – настойчиво спросил я, прижимая ее к себе, – мой ребенок в безопасности?
Метелла глубоко вздохнула и кивнула. Она подняла голову, и слезы заблестели у нее на глазах. В первый раз я видел, как она плакала.
– Лекари оказались правы, Луций, – сказала она. – У тебя сын и дочь. Они родились месяц назад.
– Они что – здесь?
– А где еще им быть?
Я порывисто вскочил.
– Всему свое время, Луций. Они в безопасности со своими няньками.
– Но ведь это лагерь…
Метелла убрала локон влажных волос с высокого лба.
– Не сомневаюсь, твой интендант в этот момент занят их размещением.
Она глубоко вздохнула и добавила:
– После того, что происходило последние несколько недель, мелкие неудобства не имеют значения.
И только тогда я понял, что она дрожит на грани истерики.
Тихим голосом, пока дождь барабанил по крыше палатки, Метелла поведала о том, что происходило в Италии.
Марий и Цинна пошли на Рим, как она и предсказывала. В армии защитников свирепствовали дезертирство и чума. Какой-то предатель открыл атакующим Яникульские[108]108
Яникул – один из семи холмов Рима (на правом берегу Тибра).
[Закрыть] ворота. Октавий был убит на своем курульном кресле консула и его ликторы вместе с ним.
– А потом? – нетерпеливо спросил я. – Что было потом?
Метелла обвила меня обеими руками, слезы теперь свободно текли по ее щекам.
– Это все Марий, – сказала она. – Он осуществил свою месть, Луций. Марий отказался входить в город изгнанником. Те сенаторы, которые оставались в живых, аннулировали его изгнание, пока легионеры Цинны стояли вокруг них с мечами наизготовку. Потом – только после этого – он вошел в город.
Метелла отпустила меня и села, согнувшись, на мою походную постель, обняв себя руками, ее зубы стучали.
– Пять дней и пять ночей Марий делал что хотел. Никто не осмеливался остановить его. Он ходил по улицам со своими готовыми на убийство пьяными рабами, грабил и воровал. Они резали его врагов средь бела дня, Луций. Одного кивка его головы было достаточно. Они отрубали головы и прибивали гвоздями на рострах головы сенаторов, патрициев – любого, кого Марий счел неуважительным к себе. Никто не смел прикоснуться к телам. Трупы были оставлены лежать на улицах для собак и стервятников, чтобы те дрались за них. Весь город смердел от резни. Они отрезали женщинам груди и насиловали детей. В конце даже Цинне стало противно от всего этого. Он взял некоторых ветеранов-легионеров и однажды ночью перебил всех телохранителей Мария, пока те валялись пьяными.
– Вы были там, – недоверчиво спросил я, – вы были в Риме?
Метелла посмотрела на меня с прежним высокомерием, так характерным для нее.
– Да, Луций. Я была там. Мои дети родились в один из этих пяти дней. Я была хорошо спрятана. Вряд ли Марий мог подумать об этом месте, когда искал меня. Но он нашел наш загородный дом в Этрурии и сжег его до основания.
«Это не вся правда, – думал я, и гордость бурлила во мне, когда я смотрел на нее. – Она – из рода патрициев, и в критический момент ее место в Риме, независимо от ее личных потребностей. Но она никогда не признает этого, а я никогда не заговорю об этом».








