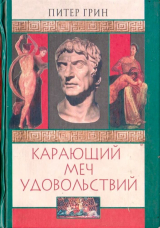
Текст книги "Карающий меч удовольствий"
Автор книги: Питер Грин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Когда я разводился с Клелией, сожаления, которые Корнелия высказала, были, или казались, небрежными; она, возможно, ощутила лишь потерю своей старой приятельницы, не больше.
Молодой Помпей и Корнелия поженились спокойно, без вычурных церемоний, спустя приблизительно три месяца после моего избрания консулом, и переехали в небольшой, но приятный домик на Квиринале. Я лично выбирал этот дом и отвлекался от исполнения срочных общественных обязанностей, которые тогда занимали меня, контролируя художественное оформление и совещаясь с художником-этруском, которого сам нанял расписывать фрески. Этот дом был моим свадебным подарком, и счастье на лице моей дочери, когда она в первый раз вошла в него, было достаточной наградой за мои труды и боль. Теперь на короткое время мы с Клелией остались один на один.
Вскоре после этого Сцевола назначил мне встречу в его доме вечером определенного дня, чтобы обсудить вопрос, в котором я был лично заинтересован. Мне сразу стало ясно, что это за вопрос. Хотя я и был консулом, хотя и обладал вместе с Помпеем верховной властью в Риме, я чувствовал какую-то нервную нерешительность, сухость в горле – все признаки, какие давали о себе знать перед генеральным сражением, – пока шел на встречу по узким улочкам.
Когда я пришел, она уже была там со своим отцом и разговаривала тем самым высоким, высокомерным голосом с нотками сардонического юмора, который никогда впоследствии не переставал задевать и возбуждать меня. Она была высокой, крепкого сложения женщиной с точеным носом, присущим всем представителям рода Метеллов, с длинными умелыми, почти мужскими руками. Ее кожа загорела до коричневого цвета, как у простой крестьянки; ее сапфировые глаза, когда я подходил к ней, встретили мой взгляд, оценивая меня с юмором и знанием, словно я раб или конь. Ее наряд был самым прекрасным из тех, какие только мог дать ей Рим; она носила его с небрежным безразличием, которое лишь усиливало ее властную и породистую стать. Ее отец, стоящий рядом с ней в одеянии духовного лица, казался бледным скромным отражением этой великолепной и властной женщины.
Сцевола вышел вперед и взял меня за руку.
– Луций, – сказал он, – я имею честь представить тебе Метелла Далматия, верховного жреца в Риме.
Я поклонился старику, и тот склонил голову в церемонном, но все же учтивом поклоне. Мы уже встречались принародно на церемониях, последовавших за моим избранием, но никогда не разговаривали приватно.
– А это – его дочь, Цециллия Метелла, вдова Скавра. Консул Луций Корнелий Сулла.
Она протянула руку и пожала мою ладонь крепким рукопожатием. Она не опускала глаз. Ее рыжеватые вьющиеся волосы были, вопреки моде, коротко подрезаны, почти как у мужчины.
– Здравствуй, консул. Полагаю, ты был знаком с моим мужем?
– Время от времени мы сталкивались с ним по делам, госпожа.
Наконец она убрала свою руку, всю сверкающую тяжелыми кольцами.
– Я помню, он хорошо о тебе отзывался.
– Слишком много чести для меня слышать такие его отзывы. Он был великим человеком. Выдающимся римлянином.
Метелла подняла широкие брови в насмешливом удивлении.
– Ты так считаешь? Он был исключительно проницательным старым жуликом, и тебе это прекрасно известно. Он умер в своей постели. Точнее, в моей. Весьма достойное достижение в Риме. Ты, должно быть, первый, кто признал это.
Непроизвольно мы оба рассмеялись. Старый Метелл выглядел слегка потрясенным. Сцевола внимательно следил за нами, но ничего не сказал. Интересно, сколько ей лет? Тридцать пять? Сорок? Это с резкими чертами насмешливое лицо патрицианки, вытянутое, слегка лошадиное, не выдавало никаких эмоций. Но ее индивидуальность освещала его каким-то невероятным обаянием. Брак с этой женщиной был бы поединком воли, постоянным вызовом и стимулом. Она – женщина с мужским сардоническим характером. Я почувствовал, что сердце мое заколотилось сильнее.
Метелла сжала руки и переводила взгляд с одного на другого совершенно непринужденно.
– Что, вам обоим нечего сказать? Вы меня удивляете. Мы знаем, для чего мы здесь. Консул, – она смерила меня своим смелым взглядом с головы до ног, – желает на мне жениться. Ну, я теперь познакомилась с консулом. Такое предложение кажется мне весьма подходящим. В действительности это должно оказаться небезынтересным предприятием.
Сцевола, который пребывал в некоей личной задумчивости, теперь хлопнул в ладоши, подзывая раба. Когда мы пили тост за помолвку, я заметил, что Метелла, стоящая рядом со мной, была только чуть ниже меня ростом; а я мужчина высокий. Она осушила вино одним большим глотком и разбила чашу о противоположную колонну.
– За твое здоровье и честь, мой господин, – сказала она мне.
Тогда я взял кольцо, которое приготовил, и надел ей на палец. На мгновение ее рука сжала мою – сильная рука собственника.
В третий раз в жизни я был обручен. Но этот брак обещал быть чем-то очень отличным от предыдущих двух.
Когда я поставил в известность Клелию о своих намерениях, ей было нечего сказать, в значительной степени ее реплики свелись к обычным в таких случаях выражениям согласия. Не было никаких упреков, никаких обвинений в жестокости, какими обычно пользуются женщины, занимающие менее высокое положение, в последней попытке исправить то, что, как они знают в глубине души, не подлежит восстановлению. Она даже извинилась тихим спокойным тоном за то, что не сумела подарить мне наследника.
– Я понимаю, насколько дорого тебе это желание, мой господин, – сказала она. – Буду молиться, чтобы твой следующий брак дал тебе то, в чем ты испытывал недостаток в предыдущем.
Если и был в ее словах скрытый намек, я предпочел его не замечать. И все же на душе у меня лежала тяжесть, и я пытался облегчить ее щедрыми и дорогими подарками, гораздо превосходившими в щедрости те, каких требовал обычай. Я был почему-то тронут и хвалил Клелию за преданность, верную заботу, любовь к Корнелии. Она терпеливо слушала, сложив руки под грудью.
– Желания моего господина – мои желания, – сказала она и официально попросила моего разрешения удалиться. Прежде чем уйти, она поцеловала мне руку.
На следующий день Клелия оставила дом, где мы прожили вместе шесть лет, и возвратилась в свою семью. Она взяла с собой девушку-рабыню, которая была ее личной служанкой с тех пор, как мы поженились – и все. Одежду и драгоценные украшения, которые я дарил ей, она оставила. Выждав, сколько требовали приличия, я порвал или продал все это. Не хотел, чтобы хоть одна вещь оставалась в доме, которая могла бы напомнить мне о ней.
Как и предсказывал Сцевола, никаких возражений не возникло при моем ходатайстве о разводе, и я женился на Метелле, как только позволил закон. Это было знаменательное событие, одна из самых щедрых свадеб, какие только видел Рим за последние пятьдесят лет. Семейства патрициев заполнили мой дом, когда церемония была закончена: представители родов Метеллов, Юлиев, Клавдиев, Валериев, мужчины и женщины, в чьи дома меня вряд ли бы допустили еще пять лет тому назад. Пока я сидел рядом с Метеллой и отвечал на их тосты за мое здоровье и удачу, то мрачно улыбался про себя. Они пили за спасителя – спасителя от Митридата, от финансистов, от чудовищных и бунтарских устремлений простолюдинов. Скоро они узнают, что человек, которого они приняли в свое общество, был не только спасителем.
Симпатия, которую я чувствовал к Метелле, когда мы встретились с ней в первый раз, скоро оказалась гораздо более глубокой и более тонкой связью, чем я мог надеяться. В некотором отношении Метелла была сильнее меня: цинична, проницательна, непочтительна, со вкусом к роскоши, который соответствовал моему, и холодной аристократической жестокостью, почти превышавшей мою.
Метелла была глубоко чувственна и могла бы возбуждать меня до такого подъема страстей, какого я не испытывал со времен Никополы. Мое обезображенное лицо, от которого и Элия и Клелия съеживались, казалось, пробуждало в ней положительно удовольствие, которое не имело никакого отношения ни к жалости, ни к состраданию. Образ жизни, в котором она была воспитана, отразился на ней – она была развращена и испорчена; но то, что в мужчинах считалось слабостью, в ней было огромной силой. Она признавала во мне силу и отвечала на нее.
Во время нашей свадьбы по Риму распространялись бесчисленные, на удивление грубые пасквили, вдохновленные, без сомнения, Марием и его друзьями. Главная тема их состояла в том, что, несмотря на то, что я, возможно, и заслуживаю должности консула, женился я на женщине гораздо выше меня по положению – или наоборот, что у Метеллы извращенный вкус. Сначала я злился, но Метелла высмеивала меня. Она собрала все эти ядовитые вирши и принялась читать их с явным удовольствием. Она была настолько выше обыкновенных людей всю свою жизнь, что могла позволить себе забавляться их оскорблениями; она относилась к ним так, как относилась бы к капризам ребенка или к какому-то домашнему животному, над которыми она насмеялась бы и простила. Ее они не могли ранить так, как ранили меня; и эта уверенность придавала мне силы.
Глава 12
По мере того как шли месяцы моего срока официальной службы, становилось ясно, что мне потребуется вся помощь, какую только Фортуна сможет мне оказать. Согласно законам, я не мог принять командование в Азии, пока не закончится срок моего консульства; и действительно, необходимо было довольно продолжительное время, чтобы собрать обученную армию. Я прекрасно знал, что Сульпиций и Марий сделают все, что только в их силах, чтобы я никогда не мог уехать из Рима. Я знал, что Марий обнаружил, что именно кроется за его отзывом из Италийской кампании; к нашему военному соперничеству добавилось негодование старика по поводу того, что он считал моим личным предательством.
Однако сильнее всего следовало опасаться Сульпиция. Теперь, вот уже некоторое время будучи трибуном, он беспрепятственно потворствовал неприкрытому насилию. Он расхаживал по улицам в окружении шести сотен телохранителей из молодых бездельников – сыновей финансистов и купцов, к которым он обращался зловеще, как к своему антисенату. Несмотря на свои огромные долги, он имел нахальство предлагать, чтобы любой сенатор, долг которого превышал определенную сумму, был смещен со своего места в курии. Вскоре Сульпиций принялся открыто агитировать за Мария как полководца в будущей Восточной кампании.
По мере приближения дня голосования общественные беспорядки усиливались. Каждая встреча на народном собрании прерывалась стычками наших сторонников с толпой приближенных Сульпиция, нападающих друг на друга. В конце концов ситуация настолько вышла из-под контроля, что мы с Квинтом Помпеем приняли экстраординарные меры, предложив юстиций[93]93
Юстиций – временная приостановка всех общественных дел, включая и созыв народного собрания.
[Закрыть] на религиозных основаниях. Под этим подразумевалось, что день выборов конечно же будет автоматически отложен и даст нам небольшую передышку, чтобы подготовиться к следующему броску.
Но Сульпиций оказался гораздо проворнее нас. На следующий же день после объявления юстиция вооруженные толпы все еще разгуливали по улицам, и большинство владельцев лавок благоразумно закрывали ставни и входные двери. Обычная жизнь в городе фактически замерла. Рано утром охрана сообщила нам, что огромная толпа собралась у храма Диоскуров[94]94
Диоскуры («сыновья Зевса») – Кастор и Полидевк, сыновья Леды и братья Елены Прекрасной.
[Закрыть]. Возникла опасность беспорядков. Воспользуются ли консулы своими правами высших гражданских магистратов, пойдут ли восстанавливать порядок?
Мы с Помпеем отправились вместе, наши ликторы расчищали нам дорогу. Сын Помпея тоже пошел с нами, почти лишившись дара речи от гнева, вызванного непочтительностью, проявленной по отношению к его отцу. Каким-то образом нам с трудом удалось подняться по ступеням храма, чуть выше толпы, и мы попытались заставить их нас выслушать.
Это было почти невыполнимо. Все время крики и издевки прерывали нас. Потом, так же внезапно, как начался, шум утих. В толпе установилась абсолютная тишина. Я увидел, как Сульпиций в сопровождении нескольких своих товарищей-трибунов прокладывает путь к нам.
Они остановились у подножия лестницы храма, пожирая взглядами наших ликторов. Тогда Сульпиций поднялся к нам и голосом, который слышен был даже на Капитолии, потребовал, чтобы мы отменили юстиций и провели выборы, таким образом выполнив волю народа. Народ одобрительно завопил. Некоторые из тех, кто был поближе, стали напирать позади Сульпиция и его друзей. Я увидел, как в утреннем солнечном свете сверкнул кинжал.
Все могло бы обойтись без насилия, если бы сын Помпея не вышел из себя. Он стал выкрикивать оскорбления толпе – те самые презрительные оскорбления, которые может себе позволить только аристократ, – и повернулся со сжатыми кулаками к Сульпицию. Возможно, народ подумал, что их герой вот-вот будет убит; но не важно, каков был мотив, огромный бородатый тип высунулся из толпы и нанес удар кинжалом точно в горло молодому человеку. Как только тот упал, люди, стоявшие позади убийцы, обошли его, чтобы добраться до Помпея и до меня.
Я осмотрелся вокруг в поисках своих ликторов, но они были уже на некотором расстоянии от меня, защищая спасавшегося бегством Помпея. Еще несколько секунд, и будет слишком поздно что-либо предпринимать. Сульпиций подхватил меня под руку с одной стороны, его товарищ-трибун – с другой, и они вывели меня через вопящую толпу в тихий переулок. Никто и пальцем ко мне не прикоснулся. По крайней мере, моя консульская должность все еще имела некоторую власть над толпой; или, возможно, они доверили Сульпицию сделать все, что было нужно.
Привели меня в дом Мария. Меня втолкнули через уличную дверь и напугали рабов, бросившихся врассыпную по коридорам, как только мы вошли. Сульпиций рывком открыл дверь и втолкнул меня в нее. Другой трибун остался за дверью.
Комната была слабо освещена и благоухала тонким ароматом тлена, словно логово дикого зверя. Когда мои глаза привыкли ко мраку, я увидел, что Марий сидел передо мной на низкой кушетке с плоской бутылью вина рядом, волкодав свернулся у него в ногах. Чуть выше по стенам мерцали его военные трофеи.
Марий встал, тяжелый и тучный, и подошел ко мне, опираясь на палку. Он хромал, приволакивая одну распухшую ногу. Он придвинул свое покрытое щетиной, с красными прожилками лицо крестьянина близко к моему, и я почувствовал запах чеснока, выпитого вина и кислоты, которая была Марием.
– А-а-а, – протянул он. – Благородный консул. Великий полководец. Человек, который победит Митридата.
Его желтые зубы оскалились на меня. Сульпиций стоял близко ко мне, все еще держа меня под руку.
– Слушай, Сулла, – сказал Марий. – Я собираюсь сделать тебе одно очень простое предложение. Если ты вернешься на Форум и аннулируешь юстиций, который вы объявили, мы тебя отпустим.
– Понятно. Тогда ты проведешь выборы толпы и объявишь себя законным главнокомандующим в кампании против Митридата. Предположим, что я откажусь от твоего предложения?
Его слезящиеся глаза, покрасневшие и дикие, сверкнули, как пара скрещенных кривых восточных сабель.
– Если ты откажешься, мы убьем тебя, Сулла. Здесь и сейчас. Если бы это было только личное дело, я убил бы тебя так или иначе. – Его огромные руки сжались в кулаки, а потом разжались. – Но это не личное дело. Это дело, касающееся Республики. И не важно, какой ты человек, я не стал бы по доброй воле убивать римского консула.
«Марий сильнее придерживается традиций, чем ты, Сцевола».
Это были мои собственные слова. И я подумал так, внезапно поняв, что было на уме у спятившего старика – его собственные любопытные, но устаревшие понятия о личной чести. Для него невообразимо, что я, консул, стану действовать по принуждению. Он был уверен, что я откажусь. Я мог видеть это по его глазам. И тогда он убьет меня с чистой совестью.
«Однако я тебя удивлю, Марий», – подумал я, и холодная ненависть медленно сжалась в комок у меня за грудиной.
Вслух я сказал:
– Ты не оставляешь мне никакой альтернативы, верно? Ведите меня назад на Форум. Я отменю декрет, как ты того требуешь.
Марий недоверчиво заморгал глазами. Я был прав.
– Что?! – выпалил он своим зычным голосом крестьянина. – Что?!
– Я отменю юстиций, – повторил я.
– И ты еще называешь себя патрицием! – воскликнул он. – Ты – грязь с Авентинского холма! Ты трус!
Марий наклонился вперед и намеренно плюнул на мою обезображенную щеку. Большой комок его слюны повис на моем лице, словно слизняк. Сульпиций сильнее сжал мою руку. Я не двигался.
– Ведите меня на Форум, – сказал я. – Я ясно выразился. Здесь мне больше нечего делать.
Марий не сказал ни слова; он стоял будто какая-то огромная обезьяна, качая своей косматой головой из стороны в сторону. Сульпиций потянул меня за рукав и вывел из дома, где нас поджидали сопровождающие. В поле зрения не было ни одного сенатора или его охраны: пускай себе Сулла сам о себе заботится, не важно – консул он или нет.
Я много раз говорил, что гораздо легче умереть за свою страну, чем жить за нее. Тогда я бы мог легко умереть и заработать посмертно репутацию героя у горстки аристократов за то, что придерживался их кодекса чести, в то время как они скромно сидели по домам. Но смерть – это не лучший способ отомстить, а я, пройдя через годы ожесточения, научился терпению в своей ненависти. Умрут Марий и Сульпиций, а не я. Но умрут они, когда я сочту нужным, ради моего удовольствия. Я еще был консулом.
Этим единственным оскорблением, которому нет прощения, Гай Марий разрушил мои последние сомнения, но вложил мне в руку меч. Даже тогда, я думаю, ему не приходило в его пьяную, придерживающуюся старых традиций голову, что при необходимости я отброшу в сторону те законы, которым он лицемерно поклонялся. Если бы у него возникла подобная мысль, он ни за что не отпустил бы меня тогда.
Я сделал то, что был вынужден сделать. Я аннулировал свой декрет о юстиции, как того требовал Сульпиций, не обращая внимания на торжествующее улюлюканье и насмешливые выкрики, которыми были встречены мои слова. Я мог позволить себе ждать. Каждое оскорбление, каждое унижение моего достоинства будет отмщено сполна. Тогда я возвратился к себе домой, сообщить новости Метелле и осуществить нелегкую задачу – сказать Корнелии о том, что ее муж мертв.
Корнелия восприняла смерть молодого Помпея очень тяжело: она ходила уже беременной, и ее нервы были натянуты. Я попробовал было успокоить ее, как умел; но признаюсь, я всегда бываю неуклюж и жесток, когда сталкиваюсь с проблемой подобного рода, да и что я мог поделать?! Корнелия, как оказалось, почему-то обвинила меня в этой трагедии. Возник соблазн рассказать ей правду, что Помпей был несдержанным зеленым глупцом, который получил по заслугам, и что именно он непосредственно в ответе не только за то, что и моя жизнь оказалась в смертельной опасности, а я сам подвергся оскорблениям Мария, но и за то, что подви́г Сульпиция на последний отчаянный поступок. Однако я сдержался. Беременные женщины не самые разумные из живых существ.
И все же в моем сердце остался горький осадок, когда я уходил от нее. Отношения, которые мы с таким трудом наладили, в один день были попраны и не подлежали восстановлению вновь. Корнелия больше не могла ни о чем думать, кроме смерти мужа: заплаканная и тяжелая, она отвернулась, когда я попытался поцеловать ее на прощанье. К тому же я был вынужден оставить ее на попечение Метеллы, которая была потрясена, узнав (о чем в конце концов Корнелия проговорилась в своем горе), что моя дочь ненавидела Метеллу столь сильно, сколь она любила Клелию. Но другого способа обеспечить ее безопасность не было.
Как только стемнело, я выехал из города через неохраняемые ворота, скрывая лицо в складках своего капюшона. Ни один из вооруженных охранников не встал у меня на пути; ни один всадник не преследовал меня, когда я скакал галопом по белой Аппиевой дороге. Пусть Марий и Сульпиций наслаждаются своим моментом триумфа – им осталось недолго. Дав мне возможность уехать из Рима, они совершили ошибку, которая уничтожит их.
Я ехал все время на юг, где в Капуе меня поджидали мои шесть легионов: ветераны, кем я командовал во время италийской кампании, которые, как я был уверен, не подведут меня теперь.
Мой неожиданный приезд в Капую, в одиночестве, на охромевшем коне, сразу же вызвал самые дикие слухи, распространившиеся по всему лагерю. Мои старые легионеры высыпали на улицы и приветствовали меня, когда я направлялся к командирам. Чья-то грубая рука сунула мне в руку кожаную флягу с вином, и я благодарно выпил глоток. Вокруг меня повсюду рос гул громких, нетерпеливых, вопрошающих голосов. Я покачал головой и ничего не сказал, кроме:
– Завтра. Я поговорю со всеми вами завтра.
Я думал, что в этих казармах не возникнет никаких неприятностей.
Но с моими старшими офицерами, которые все как один были из семей патрициев, все обстояло по-другому. Они приветствовали меня довольно вежливо, но, определенно, были сдержанны и подозрительны. Мой поступок казался им абсолютно неконституционным. В конечном итоге я все-таки был консулом и находился еще при исполнении служебных обязанностей. И самое место мне – в Риме.
Той ночью я собрал их всех вместе на приватный разговор и сообщил им столько, сколько счел нужным, что в действительности было всей правдой о случившемся за прошедшие двадцать четыре часа. О чем я не сделал никаких упоминаний, так это о моих планах на будущее. Я повествовал о произволе, от которого пострадал, о серьезных оскорблениях моего консульского достоинства, об анархии, воцарившейся в городе. Они выглядели достаточно потрясенными, но все еще не совсем доверяли мне. Я объявил о своем намерении обратиться к своим отрядам на следующее утро и распустил их, не дав задать вопросов.
Времени для церемоний не было. Теперь я почти не сомневался, что Сульпиций проведет через народное собрание декрет о передаче моей армии Марию. Самое позднее к полудню следующего дня прибудут делегаты, чтобы лишить меня полномочий главнокомандующего. Я не мог быть уверенным в моих офицерах; я был вынужден полагаться лишь на солдат. Они меня не подведут. Достаточно намекнуть, что Марий может предпочесть взять своих ветеранов на Восточную кампанию. Легионеры не станут с готовностью отказываться от обещанной добычи, а центурионы – от вознаграждения за долгую службу.
Я, как оказалось, успел вовремя. Легионы были собраны – тридцать пять тысяч человек – вне городских границ на огромном поле, которое было предназначено для упражнений в боевом искусстве. Я стоял на временном возвышении, чтобы обратиться к ним с речью, а мои офицеры перешептывались и взволнованно топтались позади меня. Когда я закончил свой рассказ и обратился к отрядам с призывом приготовиться следовать за мной немедленно, послышались неожиданные выкрики:
– Веди нас в Рим! Смерть Марию!
А затем выкрики перешли в ритмичное скандирование:
– Сулла! Сулла! Сулла!
Мой старший легат, краснолицый и разъяренный, выступил вперед и заявил:
– Это подстрекательство к мятежу. Если ты не справишься с этими людьми, господин, мы не отвечаем за последствия.
Даже в тот момент общего крика и напряжения его торжественные манеры, его полная бесполезность щекотали мои нервы своей нелепостью. Я рассмеялся ему в лицо.
– Ты не должен беспокоить свою совесть, – сказал я ему. – Тебе ни за что не придется отвечать. Ты просто будешь подчиняться приказам. Моим приказам. Посмотри сюда. – Я указал на край поля, где, помимо моих вопящих легионеров, появились два всадника с небольшим конным отрядом, едущим позади. – Там, если я не слишком ошибаюсь, – люди, посланные, чтобы лишить меня командования. Если ты желаешь служить под командованием Мария, тебе нужно будет лишь вернуться назад в Рим вместе с ними.
Два всадника приближались, обходя собравшихся по парадному флангу под стук копыт и в водовороте пыли. Пока ни один из моих людей не нарушил рядов. Центурионы твердо управляли ими.
Отряд резко остановился у возвышения. Его двумя предводителями, как я теперь мог видеть, были военные трибуны. Один из них со свитком пергамента в руке глянул на меня снизу вверх и сказал:
– Луций Корнелий Сулла, в соответствии с декретом народного собрания я послан, чтобы освободить тебя от незаконно занятого поста главнокомандующего и препроводить назад в Рим. Следовательно, твоя армия передается генералу Гаю Марию.
– Я не признаю твоих полномочий, – отвечал я. – Этот декрет был принят силой. Отправляйся назад в Рим и сообщи своим хозяевам, что Сулла вернется, когда придет его время, и не один.
Его глаза сверкали то на меня, то на орущих легионеров. Опасение и скептицизм изобразились у него на лице.
«Вот еще один человек, который верит в связующую силу прецедента», – подумал я.
– Ты отказываешься повиноваться этому требованию?
– Конечно. К тому же у вас нет способа заставить меня подчиниться. Ведь это ты, а не я, рискуешь своей жизнью. Возвращайся в Рим и передай им, что ты видел.
Трибун заколебался, положив руку на рукоятку своего меча.
– Я запомню твое лицо, трибун, – пообещал я. – Я не забуду тебя, когда возвращусь в Рим.
Он сделал резкий жест рукой, развернулся и поскакал прочь от возвышения, его эскорт последовал за ним. Войско теперь опасно затихло. Он ехал медленно мимо легионеров, смотря прямо перед собой. Однако никто не двинулся с места. Вдруг откуда-то вылетел камень, с силой ударив его по голове. Трибун охнул и выпал из седла.
Через мгновение о дисциплине не могло быть и речи. Легионеры нарушили ряды и набросились на его сопровождающих, стаскивая их с коней, нанося удары короткими мечами. Через мгновение все было кончено. Несколько распластанных тел осталось лежать на земле; лошади, лишившиеся всадников, в безумии поскакали прочь. Я обратился к своему легату со словами:
– Если ты все еще желаешь вернуться в Рим, я не держу тебя.
Тот замотал головой, словно борец, получивший вышибающий дух удар.
– Тогда очень хорошо.
Я быстро посмотрел вниз на толпу мельтешащих легионеров. Мои центурионы уже начали восстанавливать боевой порядок, отгоняя людей назад в линию с помощью своих деревянных дубинок.
– Пока ты остаешься со мной – будешь повиноваться моим приказам.
– Да, консул.
– Дай команду сниматься с лагеря и нагружать обозы. Все поставки продовольствия в город должны контролироваться. Все увольнения отменить.
Я сделал легкий вдох и закончил:
– Мы совершим марш-бросок до Рима на рассвете.
В десяти милях от городских стен нас встретило посольство Мария и Сульпиция. Его возглавляли два претора при полных регалиях. Они, вероятно, послали бы консулов, если бы консулы не были заняты другими важными делами. Был поздний вечер, и мы встали лагерем в открытом поле недалеко от Бовилл[95]95
Бовиллы – древний городок в Латии, на Аппиевой дороге.
[Закрыть]. Преторов Сервилия и Брута препроводили к моей палатке под строгой охраной.
Было очевидно, что они все еще считали меня неподчинившимся полководцем, которому нужно указать его место демонстрацией власти. Сначала они спросили меня, зачем я пошел на Рим. «Чтобы освободить Рим от его тиранов», – отвечал я им, как было сказано в те давние времена теми, кто изгнал Тарквиния. Тогда уже менее уверенно они осведомились, не прибуду ли я на переговоры с Марием и Сульпицием на Марсово поле.
Я ответил, что просто мечтаю встретиться с Марием и Сульпицием на Марсовом поле. Прислушиваясь к смеху и пению своих легионеров, доносящимся снаружи, я счел это славной шуткой. Словно догадавшись, что было у меня на уме, преторы объявили, что мне запрещено в соответствии с торжественным декретом подходить с армией к Риму ближе, чем на пять стадий. Они понятия не имели, как смогут остановить меня. Их пергаментные свитки со свисающими печатями, исписанные архаичным языком, присущим всем юридическим документам, казались особенно нелепыми для достижения этой цели.
Однако я всегда верил в вежливость, поэтому довольно радостно согласился со всем, что они сказали. Казалось, они почувствовали большое облегчение. Эскорт, который препроводил их из лагеря, был немного небрежен в исполнении своих обязанностей: некоторые из легионеров, которые больше остальных пребывали навеселе, лишили неудачливых преторов их регалий, а заодно официальных нарядов прежде, чем те наконец отбыли.
Той ночью мои старшие офицеры пришли ко мне в полном составе и объявили, что нападение на Рим является невыносимым кощунством и что они отказываются участвовать в нем. Я указал им, что они просто действуют в качестве силы, охраняющей государственный порядок, возможно, более эффективной, чем обычно, однако все же они выступают именно в качестве охранников государственного порядка. Они казались немного смущенными из-за своих несколько путаных понятий об общественном долге: реакционер никогда не удостаивается внимания за свою особенность судить любое дело исключительно по тому, выгодно оно или нет. В любом случае они отказались принять мои аргументы и оставили лагерь приблизительно около полуночи. Я вызвал шесть моих лучших центурионов и своего личного секретаря Лукулла (уже моего близкого друга, несмотря на его молодость) и поставил их в известность, что все они получают повышение по службе. Их энтузиазм был очень впечатляющим; но я прекрасно знал, что энтузиазм вовсе не является заменой опыта. Мои атакующие силы были опасно ослаблены.
Я был тем более восхищен, когда на следующее утро, пока мы снимались из лагеря, мой товарищ-консул Квинт Помпей приехал, чтобы присоединиться ко мне. Он сказал, что обогнул пикеты и прибыл, чтобы предложить мне всю помощь, какую только он в состоянии мне оказать. Смерть его сына сделала из него опасного и непримиримого человека. И снова Фортуна поддержала меня в жизненно важный момент.
Вскоре после полудня мы встали у стен Рима на расстоянии выстрела из лука. Все казалось спокойным, и я размышлял, что Сульпиций и Марий окажутся в довольно трудном положений – ведь нелегко найти в городе достаточно солдат, чтобы противостоять атаке шести легионов. Мы с Помпєем, все еще консулы, стояли и некоторое время смотрели на город, которому обязаны своей лояльностью и преданностью. Тогда я подал сигнал – времени на колебания не было, – и атака, которую мы задумали, стала реальностью.
С небольшого холма, где я разместил свой штаб, я наблюдал, как Помпей со своими людьми движется на север, огибая темную сторожевую стену у Коллинских ворот. Мой второй легион следовал за ним с разрывом в пять минут или около того, чтобы штурмовать Эсквилин. Лукулл с третьим легионом прошел на запад, по Аппиевой дороге и под склонами Авентина, чтобы подойти на Остийскую дорогу у доков и обойти Мария с тыла. Мой четвертый легион я оставил, чтобы охранять наш лагерь; оставшиеся два пойдут за мной в заключительную атаку.








