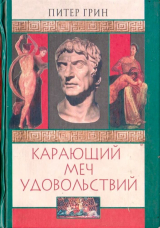
Текст книги "Карающий меч удовольствий"
Автор книги: Питер Грин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Сигналом служила длинная барабанная дробь, которая разорвала воздух, словно летний гром. Когда она достигла пика, я прекратил свою речь. В абсолютной тишине мы услышали ясный, как смерть, протяжный звон и гул пяти сотен луков, шипящие залпы стрел. Послышался невнятный ропот сенаторских голосов – они заволновались, забегали туда-сюда, словно овцы, испуганно, несвязно и опасливо бормоча, пока их голоса не утонули в ужасных предсмертных завываниях и отчаянных воплях крестьян во Фламиниевом цирке. Это был, конечно, самый что ни на есть вульгарный, режущий слух шум; но для меня, для которого кошмар у Коллинских ворот еще был свеж в памяти, он казался бесконечным удовольствием.
Представители Римской Республики теперь стояли под возвышением, размахивали руками, требуя объяснений – на грани паники.
Я сказал им, чтобы они не обращали на это внимания, и объяснил, что просто исполняю казнь нескольких упрямых деревенских хамов – военных преступников, что было более или менее правдой. Мне было не с руки, чтобы сенаторы высовывались из окон и глазели, будто школьники, готовые отвлечься от урока по любому пустячному поводу. (Поскольку мне пришлось кричать, чтоб меня услышали, это мое замечание, возможно, потеряло часть смысла.) Сенаторы сбились в кучку теснее друг к другу, сжавшись от страха, и недоверчиво смотрели на меня.
Я решил, что они достаточно подготовлены к тому, чтобы воспринять вторую часть моей речи.
Шум снаружи еще не совсем утих, когда я почти закончил. И неудивительно – трупы представляют собой прекрасные щиты, и без сомнения, мои лучники, которым наскучили массовые мероприятия в боевых условиях, получали удовольствие, отрабатывая свое мастерство на досуге на почти незащищенных целях.
«Я мог бы, – размышлял я, – оставить небольшое состояние, продав этих пленников в гладиаторы, но закон есть закон. Нет в Риме чумы сильнее, чем коррупция, а кто подаст пример, если не я?»
Сенат, казалось, с восторгом принял мои предложения. Передо мной лежит копия предложения, которое сенаторы сделали и принесли единодушно в тот самый полдень:
«Сенат Римской Республики, созванный на чрезвычайную комицию, объявляет все законы, декреты и уставы Гая Мария, Корнелия Цинны, Гая Карбона и всех их сторонников аннулированными и не имеющими законной силы. Эти декреты должны быть вычеркнуты из списков. А консулар[156]156
Консулар – бывший консул.
[Закрыть] и генерал Луций Корнелий Сулла, который был несправедливо объявлен вне закона в соответствии с этими декретами, получит полную компенсацию за свои страдания, и вся его земля, собственность, дома и имущество, доселе конфискованные во исполнение этих указов вышеупомянутых мятежников, будут восстановлены посредством конфискации их у сторонников оных мятежников. Сенат Римской Республики объявляет вне закона, отныне и навсегда, Гая Карбона, Гая Мария Младшего, Гая Норбана, Сципиона Азиатикуса и Квинта Сертория, которых разрешается безнаказанно убить везде, где они только могут быть обнаружены. Вышеназванный Луций Корнелий Сулла уполномочивается назвать сенату имена им подобных, которые достойны проскрипции. Последние свершения вышепоименованного Луция Корнелия Суллы, как консула или проконсула, в стране или за ее пределами, будут ратифицированы пожизненно. Признавая его услуги государству и в особенности его ключевую победу над печально известным врагом Республики Митридатом Понтийским, вышеназванному Луцию Корнелию Сулле предоставить официальное разрешение на ввод в Рим руководимых им легионов и считать его спасителем города. За его службу за границей данным декретом ему даруется честь триумфа; в знак немедленного уважения, в чем сенат поддерживают все римские граждане, его позолоченная конная статуя должна быть установлена на Форуме с перечислением его полного имени, титулов, чинов и наград и с присвоением ему особого права называться «Счастливым».
Декрет вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ноябрьские календы. Рим. Шестьсот семьдесят второй год от основания города».
Я чувствовал, что это был самый удовлетворяющий меня документ и что, несмотря на все превратности, еще не все старые республиканские достоинства погибли.
На следующий день прибыла депеша от Лукреция Офеллы с объявлением сдачи Пренесты. Она сопровождалась головой молодого Мария – взаимный жест, который доставил мне удовольствие. Как я и подозревал, Марий потерял последнюю надежду, когда узнал, что Карбон и Норбан были в изгнании, самниты разбиты, а Рим – в моих руках. Он попытался бежать через подземный туннель и, обнаружив, что выход охраняется солдатами Офеллы, покончил жизнь самоубийством.
Когда пришло это донесение, я читал Аристофана – тренировка, которую я рекомендую любому стремящемуся достичь высот государственному деятелю. Комедия, возможно, больше, чем трагедия, добирается до сути человеческих мотивов, она ловит нас без покровов, ее не обманешь теми сложными условностями, которые поддерживают миф достоинства, коим мы облекаем свою дискредитирующую нас наготу. Аристофан прекрасно понимал, какие животные эти политики. Снимите маску пафлагонца, вы найдете Цинну. Ламах[157]157
Ламах – афинский полководец эпохи Пелопоннесской войны, павший при Сиракузах в 414 г. до н. э.
[Закрыть] и Марий – просто родные братья. Я успокаиваю себя сегодня тем, что знаю, что проблемы, которые стояли передо мной, не были уникальными, это проблемы всех времен; что нет средства, чтобы избавить человечество от природной страсти его к коррупции или от глупости. За исключением, возможно, лишь дикого смеха самого Аристофана.
Я читал Аристофана, точнее, «Всадников». Пока я изучал донесение Офеллы, мои домашние рабы довольно робко столпились вокруг головы Мария, которая стояла теперь на боковом столе, отрезанная шея была грубо перевязана куском тряпки. Смерть лишь подчеркнула гладкую юную неопытность черт его лица, однако его ужасный отец угадывался в квадратном подбородке, широком лбу, в вывернутых наружу ноздрях. Он умер, держась за консульскую власть, на двадцать восьмом году жизни. Здесь была мораль для будущих законодателей, возможно, и для меня тоже. Строчка из пьесы Аристофана выплыла у меня в мозгу: «Прежде чем пытаться управлять кораблем, научись грести».
Я выставил голову Мария на Форуме, прибив к ростре, с этой цитатой, написанной на табличке, свисающей с его шеи. Если подобная литературная шутка и была посредственной, то моральный совет безусловно был настоятельным.
Глава 18
Момент победы, которого так долго добиваешься, выигранный любой ценой, является по самой своей природе преходящим и нереальным. Время не стоит на месте, тень неумолимо ползет по циферблату солнечных часов. Последствия войны содержат больше опасностей, чем сама война: ежедневная реальность зверски разрушенных хозяйств, бездельничающие солдаты без крыши над головой, голод, эпидемии. Нельзя установить мир, подписав мирный договор и отпраздновав его. Мир нужно возводить, медленно и предусмотрительно, на дымящихся руинах. Толпы, которые приветствовали радостными возгласами и бросали цветы из своих окон, когда я въезжал через Коллинские ворота в лавровом венке, венчающем мою голову, скоро почувствуют раздражение от моей строгой дисциплины и станут искать себе менее требовательного героя.
Под мелким слюдяным и серебряным песком, которым был усыпан путь процессии, я мог еще видеть время от времени проступающие через песок темные пятна крови. Я улыбался и махал рукой толпе, но мои мысли были устремлены в будущее. Кровь легче пролить, чем забыть. Трупы можно зарыть в бесчисленные неглубокие могилы, и ты их больше никогда не увидишь, но их духовное наследие останется.
Соблазнительно наслаждаться солнечным светом, пока светит солнце. После речей, пиров, принесения жертв, церемонии на Форуме, головокружительного рева труб, приветственных криков и аплодисментов, серебряных кубков с льющимся через край темным вином в возлияниях, провидцев, предсказывающих славу по пятнам внутренностей жертвенных животных, я, наконец, направил свои стопы к высокому чистому покою собственного дома, Метелла шла со мной рядом, роскошная в переливчатых шелках, пылающих всеми оттенками вечернего южного неба.
Удивительно, но, несмотря на гражданскую войну и конфискации, дом мало изменился, и за это я должен благодарить моего управляющего и домашних рабов. С редкой преданностью – и сами подвергаясь опасности – они спрятали или увезли мои ценности, а когда грянула бесповоротная победа, они трудились день и ночь, чтобы восстановить все, как было прежде, до того как я покинул Италию. Это был трогательный жест, жест, который я не забуду с легкостью, но это было и позорно – ведь рабы и вольноотпущенники, следовательно, превосходят в понятиях о чести наше высокое римское патрицианство.
Мы переходили из комнаты в комнату, чтобы возобновить старые ассоциации, осознавая, как никогда, наше изгнание, разорванные связи, потерянные годы. Медленно дом собирал нас в себе, обновлял нашу индивидуальность. В атриуме крошечные язычки пламени ослепительно мигали, умноженные канделябрами из горного хрусталя, на резном потолке дрожали тени. Реликвии моих последних походов лежали здесь, к ним можно было прикоснуться, понюхать, поласкать. Бронзовый танцующий фавн на подставке: это из Афин. Шкуры пантеры и каменного козла, рог для вина из слоновьего бивня – все это из Марокко и Нумидии. Ларец из драгоценных камней – холодных, как море, сапфиров, рубинов и ляпис-лазури, странных неизвестных разноцветных драгоценных камней из Персии и Востока – это от Митридата. С Делоса[158]158
Делос – один из Кикладских островов с городом того же имени, некогда, по преданию, плавучий, но укрепленный Зевсом, чтобы дать пристанище Латоне, которая родила на нем Аполлона и Артемиду.
[Закрыть] – золотая чаша, с Родоса – вырезанная из слоновой кости кушетка, ножки которой были в форме стоящих на задних лапах грифонов, из Милета[159]159
Милет – ионийский город на Карийском побережье, крупный торговый и промышленный центр, родина Фалеса.
[Закрыть] – темно-красные подушки, гобелены из тяжелой тканой шерсти, теплые при прикосновении. Из Галлии – два варварских крученых золотых ожерелья, энергичное мастерство, с которым они выполнены, до смешного не соответствовало той цивилизованной комнате, где они теперь висели.
А Метелла?
Я смотрел на нее, теперь сознавая, что моя публичная победа если и не положит конец нашему личному перемирию, то, по крайней мере, изменит его природу навсегда. Я со страхом ждал момента, когда наши тайные мысли вырвутся из секретных тайников и будут облечены в слова.
Мне нужно было бы сохранять безразличие, но я не смог. Я должен бы ее ненавидеть, что время от времени я и делал, но все же желание и нежность сквозили через мою ненависть, смягчая их до неровной, обоюдоострой страсти.
Поверх великолепного платья кожа Метеллы была загорелой и обветренной, как у мужчины. От усталости и физического напряжения у нее ввалились щеки и глаза, что еще сильнее подчеркнуло ее длинный, с горбинкой, аристократический нос, с морщинками, залегшими от ноздрей до подбородка, к уголкам ее рта, словно выражая покорность. Метелла пережила в Риме террор, она упрямо проделала свой путь, чтобы присоединиться ко мне у стен Афин, она родила наших детей в изгнании и растила их в военном лагере, как те простые женщины, что сопровождают обоз, разделяя все трудности длинной, упорной военной кампании.
Внезапно растрогавшись, я взял обе ее руки и притянул к себе. Тяжелые, богато украшенные кольца впились в мои пальцы, огромные глаза оценили мои жест с ироничным одобрением. Метелла никогда активно не сопротивлялась мне, но и не уступала моему настроению – само ее безразличие имело положительную сторону.
– О, – сказала она, – значит, ты ожидаешь, кроме повиновения, еще и благодарности. Но власть – это еще не все.
Ее слова укололи обнаженный краешек моей нежности. На сей раз я не воспользовался силой – отпустил ее руки достаточно вежливо. Метелла отошла от меня через атриум, шелк зашелестел от ее быстрых шагов. Пока я наблюдал за ней, обжигая мне внутренности, возникло желание.
Метелла нежно провела пальцем по бронзовому телу фавна, и мне показалось, будто она прикоснулась ко мне. Я медленно пошел к ней.
– Метелла…
Она повернулась и посмотрела на меня:
– Стой на месте, Луций! Твои прихоти могут немного подождать.
Желание вскипело, свернулось, стало черной тошнотой. Я почувствовал, как моя шея налилась кровью от гнева, как будто мне нанесли физическое оскорбление.
Однако все, что я сказал, было:
– Чего ты хочешь от меня?
– Ты полагаешь, – сказала Метелла, – что я должна быть довольна всем этим… – она обвела рукой комнату, – и этим… – Ее рука в кольцах грубо сжала в кулаке складки шелка.
– Но это – не все, что у тебя есть. – Я был растерян, ответил невпопад, не в силах противостоять такому жестокому отказу.
– Да, не все. Я имею власть – потому что замужем за всесильным Суллой. Многие из моих друзей в безопасности – из-за покровительства всесильного Суллы. Будет снова сформировано так называемое свободное правительство – под председательством Суллы. Оно будет принимать законы, но лишь те, которые он одобрит. Они думают… – Она замолкла, ее рот скривился, глаза смотрели с тяжелой ненавистью и отчаянием.
Я злобно выпалил, почти забыв о Метелле как о человеке:
– «Они думают, они думают»! Да разве они имеют право думать? Это я спас их ничего не стоящие жизни, и теперь, когда они снова вернулись в Рим, неужели они могут забыть обо мне? Им нужен хозяин…
– Не сомневаюсь, они его получат.
Кольца на руках Метеллы заскрежетали, когда она сжала их вместе, – резкий, короткий, противный звук, какой издает невидимая крыса, грызущая доску, который часто преследовал меня в утренние бессонные часы моего детства.
– Все будет сделано по закону, – заявил я.
– Ты восстановишь диктатуру?
– С одобрения сената.
На сей раз Метелла направилась ко мне, всматриваясь в мое лицо, и положила руки мне на плечи, заметив:
– Ты говоришь серьезно. Ты действительно вполне серьезен. – Ее голос выдавал потрясение и недоверчивый скептицизм.
– Конечно, я говорю серьезно.
Метелла отступила назад, ее дыхание участилось. Она заговорила со смешанным чувством страха и гнева:
– Ты не в своем уме! Боги коснулись твоего разума!
Огненная ярость взыграла во мне, подобно молнии.
– Боги действительно коснулись моего разума! Но я в своем уме! И Рим скоро поймет, насколько я разумен.
Мы мгновение смотрели друг на друга в молчании. Крошечные огоньки мерцали в канделябрах, каждый язычок пламени отражался от дюжины плоскостей ограненных кристаллов.
Тогда Метелла сказала:
– Если ты столь уж разумен, Луций, то должен понимать мои чувства. Неужели ты ждешь, что я буду тебе благодарна за кости, что ты любезно бросаешь мне? Я – аристократка, и чтобы спасти себе подобных, я вынесу – вынесла – много страданий. Но благодарить… тебя…
Мне хотелось закричать: я не прошу благодарности, я лишь жажду твоего тела и твоего ума – худого тела, в котором больше страсти, чем в теле любой пухлой сладострастной проститутки; ума, который настолько остр, что может поставить в тупик мой ум – едкий, быстрый, нетерпимый!
Но ограничился словами:
– Я не требую никакой благодарности и вообще не доверяю никаким эмоциям. Я воздаю должное своим друзьям и врагам. Этого достаточно.
– Этика торговца. – Метелла была холодна и презрительна, но на лбу под остриженным пламенным ореолом ее волос сияли бусинки пота.
– Возможно, – сказал я, уязвленный, все же не желая доставить Метелле удовольствие видеть мою уязвимость. – Значит, я буду иметь дело с торговцами – богатыми торговцами. Аргентариями, спекулянтами, барышниками. У меня не возникает сомнения, что твои благородные друзья одобрят мои санкции против подобных людишек. Особенно те санкции, что повлекут за собой возврат их финансов.
Тонкая веснушчатая рука Метеллы стала белой, когда она схватила бронзовую статуэтку.
– Да. О да! Они будут вполне довольны.
У нее был такой вид, будто ее тошнит от отвращения.
– Но не ты. Почему?
– Потому, что это – ты, и только ты, сделал это возможным. Потому, что ты выставляешь напоказ наше бессилие и позор, – ответила она.
Ее глаза наполнились слезами – не горя, а ослепляющего гнева. Метелла бросилась от меня прочь и зашагала неистово взад-вперед по атриуму своей неловкой походкой, переливчатые шелка шелестели по черно-белому мрамору.
– Ты пользуешься их коррумпированностью, – сказала она жестоко. Ее слова были отрывистыми, интонационно не связанными между собой. – Тебе нравится их оскорблять.
– Мне приходится иметь дело с людьми такими, какие они есть, а не такими, какими должны были бы быть или когда-то были. Мне плевать на их благородных предков.
– Тебе нравится оскорблять их, – повторила она. – Тебе нравится оскорблять меня.
Ее эмоциональная жестокость была утомительной. Я тяжело опустился на кушетку, уперев локти в колени, а подбородок – в ладони, и молча принялся смотреть на нее. Мое желание к ней было похоже на боль в кровоточащей челюсти, откуда неловко удалили больной зуб.
Метелла вернулась ко мне, рассчитав слова, – гладиатор, который наносит многочисленные уколы своему противнику ради удовольствия видеть кровь и страх.
– Ты – не так толстокож, как хочешь казаться, – заявила она. – Тебе, как никому, известно, что значит унижение.
Метелла намеренно уставилась на мое обезображенное лицо.
– Ты долго ждал своей мести, правда, Луций? И теперь ты получил ее – месть, о которой мечтал. Патриции льстят тебе, сенат эхом вторит за тобой, изменяя законы по твоей прихоти, богатый урожай ты пожнешь с финансистов. Изощренное удовольствие – натягивать нити и смотреть, как пляшут по мановению твоей руки высокопоставленные марионетки.
Метелла, словно тигрица, стояла надо мной, глаза ее налились кровью.
– Все это – эмоциональная чушь, – сказал я. – Сенат состоит из людей практичных, не идеалистов. Просто получилось так, что я предложил разрешение всех их неприятностей. – Я мрачно улыбнулся. – Если все твои друзья думают, как ты, то завтра у нас будет новая война.
Последовала короткая пауза. Я слышал, как бьется мое сердце с возмутительной жестокостью, отчаянно, словно приглушенный молот колотит по ребрам. Комната показалась мне какой-то далекой, чужой, будто отвергала нас. Метелла отвернулась от меня и, наклонив голову, пошла на звук фонтана.
Она стояла спиной ко мне, слегка проводя, снова и снова, по испещренной прожилками поверхности колонны. Потом снова повернулась туда, где сидел я. Теперь она была совершенно спокойна.
– Несмотря на мои слова, я готова тебе помогать. – Ее тон был холодный и официальный, как у посла.
– Благодарю тебя. – Я в ожидании откинулся на спинку кушетки. Тошнота снова поднялась из моего желудка. Я чувствовал себя старым и усталым, слишком старым для той задачи, которую должен был разрешить, невыносимо одиноким. И все же каждое произнесенное Метеллой слово еще яснее подчеркивало мою абсолютную власть.
Она сказала, не глядя на меня:
– Я гарантирую тебе поддержку всего моего семейства и друзей. Я не советовала бы тебе разочаровывать их больше, чем надобно.
– Я буду самой предусмотрительностью.
Метелла на мгновение показалась удивленной.
– Моя дорогая Метелла, я провел столько лет, учась, как льстить благородным ослам. Ты полагаешь, я могу забыть урок, который достался мне так болезненно?
Внезапно она издала свой высокий, визгливый смешок. Казалось, он не имел никакой связи с тем, что было прежде или потом. Она покачала головой и ответила столь же жестоко, как раньше:
– Этого ты, Луций, никогда не забудешь!
Она мгновение стояла в нерешительности.
Я поедал глазами знакомые очертания ее тела под богатым шелковым одеянием.
Тогда она сказала:
– Ты знаешь единственную причину, по которой я остаюсь твоей женой.
– Ты достаточно понятно мне ее объяснила.
Но мои руки дрожали, голос сел, гордость, желание, опустошение горели в моем горле. Единственная причина – стремление, вне всякого здравого смысла, сохранить клановую сплоченность, увековечить традиции, изъеденные червями и подпорченные временем. Однако это не единственная причина, что бы она теперь ни говорила.
Настроение пройдет, но я этого не забуду.
– Естественно, – сказала Метелла, – я не могу контролировать твои поступки.
Ее голос был далекий, болезненный.
– Но предположим, например, что ты захочешь спать со мной. Я не пойду на это добровольно. – Она окинула меня с головы до ног. – Насилие, я воображаю, потеряло для тебя свою привлекательность.
Я онемел от таких слов – смотрел на нее, лишившись дара речи.
Метелла продолжала:
– Имеется нечто, что ты не можешь ни купить, ни получить силой. Человеческая привязанность. Ты всю свою жизнь заблуждался, что в состоянии сделать и то и другое.
Она подошла ко мне ближе, гнев избороздил ее лицо горькими морщинами и впадинами.
– Я буду сотрудничать с тобой, но ради Рима. На людях я буду такой, какой следует быть жене диктатора. И только. Ты не можешь получить силой любовь из презрения и ненависти. Несмотря на всю свою власть, ты не в силах командовать любовью.
Опустошение навалилось на меня, словно смерть.
– Думаю, теперь мы поняли друг друга, Луций, – закончила Метелла.
Потом она удалилась, оставив меня в одиночестве с трофеями и гобеленами, холодными, блестящими канделябрами, траурным фонтаном.
Проскрипции.
Мое перо замерло после этого слова, зная, какие эмоции оно наверняка пробудит во мне. Если я и заслужил ненависть, то, как это ни парадоксально, я заслужил ее из-за своего безжалостного восстановления справедливости, тщательности, с которой я уничтожал врагов Римской Республики. Сейчас, на покое, у меня достаточно времени поразмыслить – чего у меня не было тогда – о лестной для себя нелогичности, которая правит по большей части людскими мотивами. Моральное негодование, например, является странно извращенным в выборе жертв и еще извращеннее в поступках, которые оно готово простить. Будучи иррациональным по натуре, человек милосердно расположен к импульсу, бешенству, всему, что пахнет горячей кровью и неуправляемыми страстями.
Человечество вообще выказывает глубокую антипатию твердому применению логики, закона или доводов, когда результаты, вероятно, оказываются неприятными. Оно воспринимает такое поведение как холодное, рассудочное, зверское, негуманное – как будто достоинство состоит в том, чтобы отвергнуть наследие причины в пользу обычного жестокого инстинкта или эмоционального предубеждения! Однако, хотя повод и может отвергать предубеждение, он не может его уничтожить. Так было и в моем случае. Я показал сдержанность, неизвестную любому тирану, я доводил закон до его логического завершения. Я действовал не из страсти и лишь случайно получал удовольствие от своей личной мести. Это было достаточное удовлетворение в исполнении предписанных мне обязанностей. Тем не менее я, который служил государству и вернул Риму процветание, был ненавидим как убийца, в то время как Марий – не был. Полагаю, это из-за моей сильной беспристрастности, моего презрения к необдуманным поступкам, моего холодного безразличия к похвалам или обвинениям, что больше, чем что-либо другое, распаляло моих противников. Я показал им, какими безответственно сентиментальными они были. Этого, как ничего другого, они не могли мне простить.
Суть в том, что в Риме и в Италии большое количество людей – сенаторов, зажиточных горожан, обыкновенных граждан – либо подверглись преследованию законом, либо лишились собственности, конфискованной в результате исполнения этого закона. Они воспринимались как вооруженные мятежники, восставшие против Республики, за что и были наказаны соответственно. Защищать их – чистая сентиментальность, нельзя позволить, чтобы здравый смысл принимал во внимание эмоции. Мои враги, естественно, не имели таких сомнений, ежедневно писались пасквили, выставляющие меня отвратительным тираном.
Конечно, не обошлось и без прискорбных случайностей. Когда мужа убивают в объятиях жены или сенатора на глазах у всех терзает разъяренная толпа, это производит неблагоприятное впечатление. В самом начале всеобщей чистки головы казненных прибивали около общественных фонтанов. Люди были возбуждены и отчаянно жаждали отомстить своим обидчикам-марианцам.
Доски для объявлений на Форуме, где вывешивались дополнительные проскрипционные списки, стали центральным местом для буйных и истерических демонстраций. Я помню многоликую толпу, шепчущую имена друг другу на ухо, – грубые, испуганные, хитрые, жадные людишки, поглощенные жалостью к самим себе.
«Пусть узнают, что значит римское правосудие, – думал я. – Пусть попотеют от ужаса».
Медленно, конечно, но раковая опухоль была удалена. Возможно, это была болезненная операция, но никакой хирург не может воспользоваться скальпелем без того, чтобы не пролить крови.
Я стремился посвятить свое время более важному делу – пересмотру свода законов, и был рад, когда Хрисогон предложил освободить меня от всей практической административной деятельности, связанной с арестом нарушителей закона, их наказанием и конфискацией или продажей их имущества.
В то же время в знак своей благодарности я дал ему свободу. Он стоял в скромном молчании, в то время как ему на голову возлагалась шапка свободного человека, но на пиру, который я дал позже тем же вечером, чтобы отпраздновать этот случай, он удивил меня, появившись в богатом, почти женском торжественном наряде, шелковые складки которого в своем обилии были на грани вульгарности. На его пальцах сверкали кольца, от него сильно разило духами. Помню, я сардонически изумился, какой пожилой поклонник сделал ему такие подарки или где он их позаимствовал. Но я взял себе за правило на пирах давать отдых своему уму, думать только о приятном – и праздные размышления были вскоре позабыты.
И все же я счел, что слабость Хрисогона, скрытая за его адским терпением, наконец проявила себя. Несмотря на все его умение плести интриги, он так и остался рабом, с грубыми рабскими амбициями, павлиньим тщеславием в обществе. Тот вечер был лишь предвкушением того, что должно за этим последовать.
Но тут возникла насущная необходимость сделать мое положение менее неоднозначным. Я был вынужден согласиться с тем фактом, что больше не могу бороться, к тому же я обладал достаточным опытом с наемниками, чтобы никому не доверять вести свои сражения вместо меня. Мне необходимо было оставаться могущественным, но в то же время и обезопасить себя, а это означало – могло означать – лишь одно.
Я удалился на неделю в свой загородный дом на южном берегу Сабатийского озера и оттуда написал официальное письмо Валерию Флакку как исполняющему обязанности главы сената. Я напомнил ему, что он отвечает за выборы новых консулов, если предыдущие умерли или были выведены из строя при исполнении служебных обязанностей, подчеркнув, что молодой Марий мертв, а Карбон – в изгнании.
«В то же время, мой дорогой Валерий, – писал я, – я буду рад, если ты сумеешь представить народу мое личное настоятельное мнение, что возрождение диктатуры непременно пойдет на пользу городу.
Я знаю, что эта должность не использовалась вот уже более ста лет, и то только в критических ситуациях. Но чтобы быть эффективным, диктатор должен иметь свободные полномочия действовать от имени своих сограждан и вполне достаточный досуг, чтобы выполнять свои задачи. Проскрипции, которые я ввел по обязанности военачальника, конечно же, только начало.
Следовательно, я предлагаю назначить диктатора до того времени, пока он твердо не восстановит заново город и всю Италию, а также правительство, разрушенные междоусобицами и войной. Подобное назначение, конечно, не отменило бы выборы консулов, но они должны подчиняться исключительной власти диктатора…»
Я вдруг почувствовал острую боль, словно меня ударили ножом в живот, – возможно, приступ дизентерии? На слове «власть», где перо дрогнуло в моей руке, образовалось черное пятно. Я осторожно ощупал свой живот. Дряблая плоть там, где прежде были твердые мускулы, на прикосновение отзывалась болью. Мое дыхание стало хриплым и затрудненным, отекшие ноги заныли. Я смотрел на слова, уверенные слова, которые написал, с омерзительным страхом, осознав вдруг, что время идет, что мое тело разлагается, между тем как разум срывает звезды с небес. Неужели Фортуна обманула меня на последнем рывке?
С бесконечной осторожностью я вновь взялся за перо, потея и дрожа.
«По моему мнению, – писал я, сжав челюсти от нового приступа боли, – это та самая должность, в которой я мог бы быть наиболее полезен городу».
Достаточно ли тверд мой почерк? Я покачал головой, и капли пота упали на черные слова.
Пусть боль прекратится. Пусть она прекратится! Теперь! Быстро!!!
«Я, конечно, не оказываю на тебя никакого давления и по этой причине удалился из Рима до тех пор, пока сенат не достигнет согласия по этому вопросу…»
Боль наконец утихла, но я все еще задыхался, мое горло пересохло. Я оперся на свой стол, вцепившись в него обеими руками, – мое тело напряглось, как у эпилептика, – и внушая себе, что силен, как прежде. Смерть – это слово отдавало медью во рту, как медная монета, последний мой враг, тошнотворное слово, которое явилось слишком рано.
Я, Сулла Счастливый, диктатор Рима, проводил аудиенцию. Метелл Набожный вошел сразу же после того, как о нем объявили: будто погруженный в летаргический сон, с заспанными, как всегда, глазами, густые седые волосы в беспорядке рассыпаны над морщинистой кожей лба – сутулый медведь, бочка, а не человек. Он улыбнулся мне едва заметной безразличной улыбкой и налил себе вина.
– Твое здоровье, диктатор, – сказал он.
– И твое.
Мы оба выпили. Несмотря на всю физическую мощь, руки его были изящны и длинны: кровь Метеллов давала о себе знать. Он пристально посмотрел на меня из-под тяжелых, свинцовых век.
– Выглядишь усталым, – заметил он. – Ты не должен позволять эйфории от своего нового назначения вредить здоровью.
Метелл говорил, будто я был непочтительным школьником, чье рвение в усердной работе выдавало его низкое происхождение.
«Черт бы его побрал! – думал я в порыве раздражения. – Он покровительствовал бы мне, будь я родом из сточной канавы, и никогда об этом не узнал бы».
Я сказал достаточно ровно:
– Должен поблагодарить тебя за замечательное развлечение прошлой ночью. Пир был великолепным.
В действительности ничего великолепного в нем не было: ни одно семейное сборище обычно не доставляет удовольствия, особенно собрание длинноносых представителей рода Метеллов.
– Рад услужить.
Метелл откинулся на спинку кресла – само доброжелательное превосходство.
– Я доволен, что мы так славно договорились. Мой род благодарен тебе за службу.
Со мной, римским диктатором, эти презренные аристократы обращались, как если бы я был купленным за деньги наемником, разбойником, нанятым, чтобы разбить для них мятежников. Для них мои полномочия, регалии, пурпурная тога, двадцать четыре ликтора, фанфары, курульное кресло, похожее на царский трон, даже абсолютная власть над ними ровным счетом ничего не значат в сравнении с их вырождающейся родословной. Их чувство собственного достоинства было настолько врожденным, что они не могли осознать, насколько власть, на которой оно зиждется, подорвана. Но в данный момент эта их слепота прекрасно меня устраивала.








