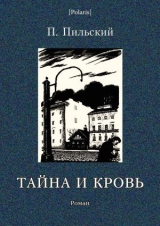
Текст книги "Тайна и кровь"
Автор книги: Петр Пильский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
XXIV. Внезапное освобождение
В камере я лег и долго не мог прийти в себя.
– Несчастный Трунов!
Эта голова в банке, не уходя, стояла предо мной пугающим призраком, и немигающие, открытые глаза смотрели на меня в упор, будто спрашивали о чем-то и удивлялись происшедшей трагедии.
Я ничего не знал, ничего не слыхал о его смерти, и само имя Трунова в последний раз прозвучало в моих ушах на квартире у Марии Диаман в тот злополучный день, когда меня искали и преследовали чекисты, а я бежал и прятался внизу у прачки, а потом под лифтом.
Тогда это имя произнес переодетый матрос, хитро и наивно подосланный ко мне будто бы от Трунова и Данилова. Данилов спасся, улетел, сбросив матроса со своего аэроплана… Где он теперь? Но Трунов погиб.
– Как? Когда? При каких обстоятельствах?
Кто мог рассказать мне об этом! Если б это было известно Лучкову, он, конечно, сообщил бы мне.
Ни в этот день, ни в последующие я не находил себе покоя. Трунов, его судьба, его смерть, его голова в банке тревожили, волновали, измучивали, не давали ни покоя, ни сна. Натянулись нервы, болела левая часть лба, колотилось и ныло сердце.
На третий день, после обеда, в камеру вошел комендант:
– Товарищ Брыкин, собирайте вещи!
Я равнодушно завязал мое скромное имущество в маленький сверток – две смены белья, приобретенного уже здесь, в чека, и без всякого страха, без волнения, покорно побрел с комендантом, понимая, что меня переводят в тюрьму.
Так и было.
Теперь я сидел в одиночной камере Крестов, огромной красной тюрьмы с взлетавшими и спадавшими железными узкими лестницами, крестообразными коридорами, гулким эхом, длинными площадками с выходящими на них камерами.
Я осмотрелся. Все то же! Кровать, привинченный столик, маленькая полка, в углу – то, что скрывают во всех домах, а в отелях обозначают № 00. Тяжелый воздух, пыль, дано не метенный пол – как все было печально, и один вопрос тотчас же вполз в мою душу:
– Надолго ли я здесь?
Единственное утешение сейчас я находил в том, что допросы кончились, возможность внезапного расстрела миновала, что я – один.
Окно камеры было высоко. Я стал на табуретку. Весенний день теплел под солнцем, и весело несла река свои темные, черные с золотом волны.
Хотелось жить. Никогда еще так страстно я не ощущал жажду свободы и не завидовал людям, двигавшимся маленькими точками в дали, так ясно видимой из моего тюремного окошка.
По утрам прилетали, били крыльями, садились на выступе зарешеченного окна воркующие голуби, и это было тоже грустно и трогательно и тоже напоминало о жизни, о воле, о каком-то погибшем счастье, далеком от этого красного здания, этой одиночной камеры, этого унылого порядка медленно уходящих часов.
Так миновал день, потом другой, проползла неделя. Ко всему можно привыкнуть, и я стал привыкать к моей тюрьме.
И вдруг неожиданно, без всяких предупреждений меня вызвали в приемную и объявили, что я свободен.
Поймете ли вы, сумею ль передать я, возможно ль вообще рассказать, и кто может почувствовать, какая пестрая, радостная вереница мыслей, смесь острых ощущений наполнила все мое существо, как сладко забилось сердце и затихла душа при одном этом слове:
– Свобода!
– Куда теперь?
Я шел, как пьяный, глядел по сторонам, улыбался встречным людям. На Литейном мосту я остановился, облокотился на перила и, онемелый от счастья, от охватившей меня радости, смотрел на выросшие у берега барки, на эту реку, на пропадавший голубовато-серый, бледнеющий горизонт, на милое небо. Так стоял я в этот весенний день, в эти первые минуты моей свободы.
Внезапно вспомнилась угроза Урицкого:
– Мы будем знать каждый ваш шаг…
Я оглянулся. Кругом меня не было никого. Я решил пойти к сестре.
Все еще боясь, что за мной следят, что кто-то должен идти за мной по пятам, наблюдая и ища, я запутывал след, выбирал то большие улицы, то замершие безлюдные переулки, останавливался на углах, закуривал папиросу, зорко осматривался и ждал своего преследователя. Нет, его не было.
Женя встретила меня молчаливо и спокойно. Ее поцелуй был холоден и чужд. Она осунулась и побледнела. В дорогих глазах я прочел мертвое равнодушие ко всему.
После первых незначащих слов, вопросов, коротких ответов я сказал:
– Ты мне не нравишься, Женя. У тебя какой-то приговоренный вид.
Она безнадежно махнула рукой:
– Все надоело… Не стоить жить.
Я хотел, пробовал, почти решался и не смел спросить ее о том, что ее мучило, произнести имя Варташевского, упрекнуть ее, раскрыт страшную истину, успокоить ее бедное девичье сердце, потому что ничем нельзя успокоить сердце, опечаленное любовью.
Двое суток я провел у сестры. Невеселы были наши беседы, такие скупые, осторожные и чужие! И между нами двумя стояла грозная тайна, и ни один из нас не осмеливался раскрыть другому ее простой и страшный смысл.
Не только чувствовал – я всем моим существом понимал, что Женя знает, кто убийца Варташевского. Знает и молчит. Я угадывал, что происходит в ее душе.
Женя рассуждала так:
– Ее брат, может быть, и прав с точки зрения своих политических интересов. И все-таки, даже если прав, он не должен был поднять руку на своего вчерашнего друга!
Да, да, именно так она про себя и говорила. Заметьте: я не смел убивать моего «друга», а не человека, которого она любила. Этого она не выговаривала даже самой себе. И отсюда возникли все наши недомолвки и эта скрытность и молчаливая, спрятавшаяся вражда.
Наконец я решил увидать своих. Для этого надо было только зайти в Гвардейское экономическое общество и подняться наверх, в буфет. Так я и сделал.
Трофимов обнял меня и расцеловал.
– Очень, очень рад. Ну что? плохо было?
Я вкратце, бегло рассказал ему о главном, о всем, что слышал и пережил, и о мертвой голове Трунова.
– Его убили на финляндской границе, – ответил Трофимов. – Но давайте от воспоминаний перейдем к делу. Вы появились очень кстати. Вас прислала к нам сама судьба. Именно сейчас мы нуждаемся в таком человеке, как вы.
– В чем дело?
– А дело в том, что организация должна получить три с половиной миллиона золотых рублей..
– Получить? Откуда?
– Ну, если не получить, то… добыть… Эти деньги предназначены к перевозке в Москву. Они сейчас находятся в особом вагоне скорого поезда. Поезд стоит на путях Николаевского вокзала… Поняли?
Трофимов огляделся.
– Вот что… Почему-то мне кажется, что здесь нам говорить неудобно. Перейдем в номер… Знаете, где было наше первое собрание? Сделаем так: я пройду вперед, вы с полчаса посидите тут, посмотрите, не следят ли за вами. Буду вас ждать…
Я остался. За одним из дальних столиков сидели трое. Они живо о чем-то беседовали, не обращая на меня никакого внимания. Я сошел вниз, обогнул угол здания, еще раз осмотрелся. Опасности не было.
В запертом номере Трофимов мне объяснял:
– Прежде всего, я хочу вам напомнить о нашей общей клятве. Все, что я вам сейчас скажу, вы должны сохранить в полной тайне.
– Я не забываю клятв.
– Вам поручается разведка. Как можно скорей вы должны узнать, где стоит этот вагон, как он охраняется, сколько там людей и какой части… Затем вы должны установить, есть ли там бессменные представители власти. Кажется, там все время дежурят банковский чиновник и комиссар из Смольного… Точно определите – далеко ли стоит вагон от выездных ворот Николаевского вокзала.
– Слушаюсь!
– Беретесь?
– Берусь.
– Еще раз: осторожность и тайна! Я полагаюсь на вас. Когда вы думаете доставить сведения?
– К вечеру.
– Завтра явитесь на Пороховые, номер дома 16, в 7 часов утра. А сведения передадите мне здесь. Я буду ждать вас в этом номере.
Мы расстались.
XXV. Опасные дела
На прощанье Трофимов сказал, чтоб я зашел на Лиговку – дом № 47 – и там нашел Василия Арбузова. Это – его бывший унтер-офицер, георгиевский кавалер, тяжело раненый, теперь служивший на железной дороге. У него надо получить форменную одежду. Так я и сделал.
Я пошел по путям. В этом железнодорожном костюме я не обращал на себя ничьего внимания. Вагон сразу бросился в глаза. Только около него одного взад и вперед ходили два часовых. Запасные пути были пусты. Я сказал охраняющему красноармейцу:
– Вызови товарища разводящего!.. Скоро надо перецеплять вагон.
Разводящий провел меня внутрь. Там, действительно, были и чиновник и комиссар. Я сосчитал охрану. Она была невелика. В служебном отделении находились шесть солдат и караульный начальник. Задняя дверь была запечатана пломбой. Моя разведка оказалась легкой. Ее я закончил в несколько минут. В тот же день вечером Трофимов получил от меня все необходимые сведения.
Я отправился к Кириллу. Он лежал на диване, курил и тихо напевал полковой марш. Мне он очень обрадовался. Мы поцеловались, и, отступив на несколько шагов, он долго рассматривал меня радостными глазами, будто я появился в его квартире прямо с того света. А впрочем, ведь, это так и было. Уже раз мысленно ощутив и пережив всем моим существом, телом и душой смерть, я умер у стенки в подвале чека, и сколько раз за это время я стоял на узкой грани, отделявшей меня от вечного могильного мрака.
Кирилл все знал. С Лучковым у него были установлены правильные и постоянные сношения.
– Очень я беспокоился за тебя, – сказал Кирилл. – Сведения о тебе были неважные… Могли угробить. Прямо скажу: здорово тебе повезло!
Мой рассказ о голове Трунова необычайно возмутил Кирилла. Дрожа от негодования, он грозил:
– Ничего!.. Когда-нибудь на этажерке будут стоять две банки с головками Урицкого и этой девки… Яковлевой.
Рано утром кирилловский рысак нес меня за Охту, на Пороховые. Северное солнце всходило, но не грело. Было светло и холодно, и сильный конь бодро летел вперед, звонко цокая подковами по камням мостовой.
На повороте мы остановились. Я вылез. Кирилл завернул и шагом поехал обратно. Я стал отыскивать № 16, нашел и через двор, через узкое крыльцо, по лестнице поднялся наверх, пихнул дверь, и она отворилась с чуть слышным стоном.
Ни в первой, ни во второй, ни в третьей комнате не было никого. Я в недоумении остановился. Дом казался необитаемым. Тишина, закрытые ставни, густой полумрак, скрипящие под ногами половицы невольно заставляли чего-то остерегаться, ждать опасности, быть готовым к какой-то роковой внезапности.
Из средней комнаты тоже закрытая ставнями дверь со стеклами в своей верхней половине вела на веранду.
Я тихо отворил ее – и отступил.
Предо мной стояли, сбившись в угрюмую кучу, человек двадцать красноармейцев, а впереди них – комиссар со значком на груди и орденом Красного Знамени.
Мгновенным порывом я схватился за карман, где лежал револьвер, и быстрым движением вынул его. Еще один миг – и я стал бы стрелять.
Но тотчас же из этой небольшой толпы людей, притаившихся у правой стены веранды, раздался веселый смех. Красноармейцы хохотали, и лукаво улыбался комиссар. Я взглянул на них и рассмеялся сам.
Кто-то крикнул:
– Рано, товарищ, схватились за оружие. Немного попозже было бы полезней.
Я ответил шутливо:
– И на старуху бывает проруха.
Это были наши. Они окружили меня, и вопросы посыпались один за другим. В комиссаре я сразу узнал Рейнгардта. Его внимательные голубые глаза быстро смерили меня с головы до ног. Он увел меня с веранды в комнату.
– Кто вас прислал?
– Трофимов.
– Какие до этого получили поручения?
– Разведку на запасных путях Николаевского вокзала.
– Были внутри вагона?
– Был.
И я рассказал Рейнгардту все, что видел и узнал. Он остался доволен.
– Дело-то мы оборудуем, – задумчиво говорил он, – почти наверно. Штука нетрудная! Думаю, что не обойдется без жертв, но, может быть, все кончится и совсем благополучно. Красноармейские часовые не из храбрых. Какое они на вас произвели впечатление?
– Да никакого. Ходят около вагона, как нанятые удавленники. Да и остальные – такие же. Вот только караульный начальник, должно быть, – кадровый унтер-офицер… Тот – настоящий солдат.
– И это тоже не страшно. Самое трудное – уйти. Может подняться такой шум, что…
Мне захотелось узнать, кто участвует в этом рискованном, дерзком и опасном предприятии. Большинства я не знал. Но все были из нашей новой организации.
– Трофимовцы, – пояснил Рейнгардт.
Я сказал:
– Ведь, я только несколько дней, как выпущен из чека и Крестов. Мне решительно ничего не известно об организации. Скажите: это – ваша первая «операция»?
– О, нет. Были и до этого.
И он стал посвящать меня в дела и события. Отчаянный народ! Что натворили они за это время! Особенно врезался мне в память один эпизод:
– Видите ли, – рассказывал Рейнгардт, – это было даже как-то странно. В сущности, мы не имели даже определенного плана. Просто одному из нас взбрела мысль: «Айда, ребята, на картежников».
– Идет!
– Куда?
– В клуб.
– Какой?
– Палас-театр.
И вшестером пошли, заперли швейцара, ворвались в зал:
– Руки вверх!
И все покорно, как малые ребята, подняли.
Наш приказывает им:
– Спокойствие! Смирно! Ни звука! Если хоть один из вас шелохнется – уложу на месте.
В зале – ни шороха. Слышно, как люди дышат. Этакое трусливое стадо – людишки!
Наш им опять:
– Сию же секунду вынимайте и кладите все деньги, все драгоценности и револьверы! Если кто-нибудь затаит – моментально к стенке!
Трое из наших берут подносы и с благосклонной улыбкой обходят присутствующих. Галантность сверхъестественная, вежливость необыкновенная! Отобрали все. Отвратительная подробность: по грязному ковру с вытаращенными глазами кто-то полз на четвереньках. Наши ему:
– Будьте любезны, встаньте на ноги: так передвигаться гораздо удобней.
Встал. Смотрит, но не понимает абсолютно ничего. Бел, как его манишка. Обыскали, а у него – какая-то тысяча керенок и дешевенькие часы. Было из-за чего дрожать и униженно ползать, тьфу!
Рейнгардт презрительно улыбается.
– Ну, молодец Кирилл, – продолжает он. – Выносил он нас на своем рысаке, как на крыльях. Недели три тому назад мне указали на одну квартиру… на Николаевской улице. Подкатили мы. Вхожу через черный ход. Из кухни – аппетитный запах: пекут блины. «Ах, черти! Кругом – голод, а у этого толстобрюхого – масленица!» Врываюсь. У плиты – кухарка, а на табуретке в счастливом блаженстве восседает волосатый красноармеец. Кричу:
– Ни с места! Руки вверх!
Кухарка как заголосить – и все на одной высокой ноте:
– Ай-яй-яй-яй-яй!
– Молчать!
Она еще пуще.
Как не услышали ее визг на лестнице и у соседей, не понимаю до сих пор. Я на нее с револьвером – она бух на пол и давай кататься. Ну, что тут делать? Приказываю ее красноармейцу:
– Сейчас же прикажи ей замолчать. Не замолчит, уложу обоих.
Та сразу и стихла. Я им:
– Марш вперед!
Загнал в какую-то комнатенку и запер. Иду в кабинет. Мне уж было известно, что деньги – в среднем ящике письменного стола. Этот толстобрюхий скот спекулировал сообща с чека. Конечно, ящики заперты. Не раздумывать же! Схватил за угол верхней доски стола, изо всех сил дернул, и стол оказался открытым сверху. Не очень прочная мебель, – прибавил он иронически. – Забрал деньги, выбегаю на парадную лестницу и вижу, – о, человеческая наивность! – швейцар расставил ручки: он, видите ли, желает меня не выпустить! Вынул револьвер, направил на него, и ручки сразу упали. Распахиваю парадную дверь – смотрю: у ворот гомонят бабы. Да ведь как! Ну, с ними разговор короток. Погрозил пальцем:
– Тссс! И они все попрятались сразу… Эх, подлое животное – человек, подлое и трусливое!
Рейнгардт взглянул на часы:
– Скоро пора и двигаться… Пойдемте вниз!.. Вам нужно переодеться.
Мы сошли. Я быстро пригнал себе красноармейскую форму. Рейнгардт мне вручил винтовку и пять обойм.
На веранде он отдал нам приказ:
– Выйдите отсюда по одиночке, разными путями… Сойдетесь на шоссе! На выезде построитесь вздвоенными рядами!
Солнце уже поднялось и золотило стекла окон, купола церквей, лужи мостовой.
Через Охтенский мост, через Пески, мы в ногу шли к Николаевскому вокзалу. Наш шаг был нетороплив.
Среди бела дня, в центре столицы, на глазах тысячи людей 25 человек готовили нападение на вагон с золотом, охраняемый стражей, часовыми, вооруженным чиновником, комиссаром из Смольного.
Я шагал в рядах, и мне было неясно только одно:
– Почему на такое страшное, опасное, безумное дело мы идем днем, а не ночью?
XXVI. «Руки вверх!»
Огромная сила, непонятная и радостная, толкала наши ряды вперед на это безумное и страшное дело. Окруженные равнодушием одних, злобой других, презрением третьих, мы шли в этой красноармейской одежде под предводительством человека в ненавистной для всех форме, в кожаной желтой куртке с ярко красневшим орденом Красного Знамени на груди.
Мужчины, женщины, дети с голодными лицами тоскливо-умоляющим, испуганным взглядом провожали наше загадочное и уверенное шествие.
Пороховые остались далеко позади. Мелькнули Пески. Рейнгардт подвел нас к тихой улице, носящей имя «Полтавской победы». Путь шел вниз. Странная дорога! Ведь можно было пройти прямо.
– Взвод, стой!
Голос Рейнгардта:
– Смирно!
Пред нами – Трофимов:
– Сколько у вас винтовок?
– Одиннадцать.
– Н-да… Надо бы побольше.
Молчание. Трофимов обходит строй. Всматривается в лица. На ходу быстро жмет руку. Задает отдельные вопросы:
– Гардемарин?
– Есть.
Так вот о какой организации он говорил мне в номере гостиницы нашего Экономического общества!
Трофимов отозвал меня и Рейнгардта в сторону:
– Сколько винтовок у вас на квартире?
– Тридцать две, – ответил Рейнгардт.
– Сейчас я отряд распущу. Но раньше я должен вам обоим сообщить, что произошли некоторые изменения. Последняя разведка принесла новые сведения. Во-первых, теперь вагон стоит на третьем пути. Вся охрана помещена в железнодорожной будке. Часовых по-прежнему – двое. Но посты их изменены: сегодня один часовой стоит у будки и другой – у вагона. Все это вы должны запомнить отчетливо.
– Слушаюсь.
Трофимов подошел к отряду. Он улыбнулся и начал:
– Товарищи!
И та же улыбка пробежала по всем лицам.
– Прошу вас сейчас разойтись. Весь сегодняшний день старайтесь быть незамеченными, нигде не собирайтесь вместе. Сюда, вот на это самое место, вы прибудете в 10 часов 30 минут вечера.
Он вынул часы:
– На моих без 10 минут час. Проверьте ваши часы!
Он оглядел отряд и бросил отрывисто и ласково:
– С Богом!
Втроем мы медленно шли и говорили о плане нападения. Трофимов был уверен, что все пройдет без осложнений, без крови и жертв. Рейнгардт держался другого мнения. И он полагал, что охрана не очень надежна, и красноармейцы не будут подставлять свой лоб и рисковать жизнью. Но Рейнгардта смущало другое: в вагоне находились чиновник и комиссар. Эти могли оказать сопротивление.
– Я не говорю, – объяснял он, – что это опасно. Я только предвижу возможность жертв. Впрочем, и это – пустяки. Лес рубят – щепки летят….
Рейнгардт обратился ко мне:
– А за винтовками придется съездить вам. Сам я должен сейчас отправиться по делам. Приходите ко мне в Манежный переулок. Там заберете недостающие винтовки и привезете их сюда. У моей квартиры вас будет ждать Кирилл.
Мы простились. Рейнгардт вскочил в трамвай, а я несколько минут стоял и внимательно следил за тем, как тихо и задумчиво шел к Николаевскому вокзалу Трофимов, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы солдатской шинели без погон.
И в этой походке, как раньше в отдельных словах, взгляде глаз, ласковом похлопывании по плечу я улавливал, я чувствовал какое-то волнение за нас и нашу судьбу.
Я невольно улыбнулся:
– Милый, странный человек! Он думает о нас, как будто сам он застрахован от кровавых случайностей, от ареста и смерти.
В 10 часов вечера мы выносили с Кириллом винтовки и клали их в пролетку. Кирилл сел на козлы, и легкой рысцой мы покатили по Знаменской.
Вдруг кто-то схватил лошадь под уздцы. Мы остановились.
Пред нами стоял человек в красноармейской шинели, в папахе, заломленной совсем назад, а из-под нее выбивались пряди длинных волос. Я опустил руку в карман за револьвером.
– Куда везете оружие, товарищи? – спросил красноармеец.
– А вам какое дело?
– Если спрашиваю, значит, есть какое-то дело.
– Да вы сами-то кто такой?
– Я-то?
– Да, вы-то.
Я чувствовал, как во мне разгорается раздражение. В голове мелькнуло решение:
– Уложить на месте!
Красноармеец стоял, расставив ноги, и поглаживал вытянутой левой рукой круп лошади. Потом он пристально взглянул на Кирилла, на меня, приблизился ко мне вплотную, заулыбался и тихо произнес пароль:
– Сабля.
И, обрадованный, ему откликнулся я:
– Сердце!
Я сошел с пролетки, и мы пожали друг другу руки. Этот был тоже из нашей организации.
– Да, – сказал он, – там уже собираются.
– Почему вам вздумалось разыграть всю эту комедию?
– На всякий случай… Для проверки… Мало ли кто мог ехать с оружием. Да еще тут, поблизости от вокзала. Все может быть.
– Ну, если бы, действительно, ехали вместо нас настоящие красноармейцы, что бы вы могли сделать? Вы же – один…
– Ну, это… как вам сказать… Две-то пули может выпустить и один человек.
Темный вечер спустился на Петербург, и везде была тьма. Не видно было огней. Когда-то сверкавший электричеством вокзал бедно освещался немногими лампочками. Чрез Знаменскую площадь Кирилл промахнул во весь дух крупной рысью, и мы остановились на том же самом месте, в маленькой улочке близ церкви, построенной в древнерусском стиле.
Подошел Рейнгардт:
– Никто не заметил, как вы выносили винтовки?
– Никто. Да в такой час теперь никого на улице и быть не может.
– Квартиру заперли?
Я возвратил ему ключ. Потом Трофимов взял меня под руку, и мы прошли вперед:
– Вам придется первому пойти и завязать дело. Вы должны, во что бы то ни стало, проникнуть в помещение охраны и все подготовить так, чтоб нам было легко ее обезоружить.
– Понимаю.
Я направился к Николаевскому вокзалу, обогнул его и вошел в широкие ворота. Была пуста Знаменская площадь, пусто было около вокзала, и только несколько человек служащих торопливо проходили по этому большому каменному двору.
На третьем пути я увидел вагон-микст первого и второго класса. Около него тихо похаживал часовой. Я приблизился к нему и небрежно попросил:
– Товарищ, нет ли спички? Мне бы прикурить…
Часовой остановился и опустил винтовку к ноге:
– Спичек нет у меня, товарищ.
– Экая жалость!
Я протянул ему папиросу. Он взял и сказал:
– Спички-то можно достать. Вот спросите, товарищ, там – в сторожке. Это – наша же охрана.
Я прошел туда. Шесть человек солдат сидели, курили и разговаривали. Приткнутые, в углу стояли винтовки. Я наклонился к первому же красноармейцу охраны и начал прикуривать, все время стараясь продлить и выиграть время.
С секунды на секунду я ждал подхода остальных на помощь мне.
Наконец папироса зажглась. Я пустил густой клуб дыма и тотчас же услышал голоса наших, раздававшиеся за будкой. Сразу же остервенелым криком, как сумасшедший, я исступленно заорал:
– Руки вверх! Приказом чрезвычайной комиссии вы арестованы за небрежное несение караульной службы. Смирно! Ни с места!
Я выхватил револьвер и навел его на этих оторопелых и растерявшихся людей.








