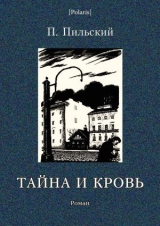
Текст книги "Тайна и кровь"
Автор книги: Петр Пильский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
XVIII. Похороны Варташевского
В то утро большой сад Петропавловской больницы, белый от снега, всегда молчаливый и мертвый, стал наполняться людьми.
Вдвоем с Леонтьевым мы вошли в один из подъездов и наблюдали за теми, кто пришел проводить несчастного, нас обманувшего Варташевского. Черный катафалк, запряженный черной четверкой, стоял у противоположного входа. Леонтьев закурил.
– Читали, как они его превозносят?
– Да.
Газеты были полны хвалениями погибшему советскому летчику. Этому убийству хотели придать характер обширного заговора. Ненависть, проклятия, ругательства были во всех статьях, фельетонах, заметках. Но чувствовалось и большевистское бессилие. Было ясно, что нас боятся. Власть трусила.
Я об этом сказал Леонтьеву. Он горько усмехнулся:
– Да, обидно. Нас испугались тогда, когда нас не стало.
– Организация будет. Нас еще вспомнят.
– Давай Бог!
Из подъезда вышло духовенство. Отпевали два священника, и их серебряные облачения ярко искрились и производили впечатление какой-то особенно важной торжественности. За духовенством показался передний край металлического гроба.
Я сказал:
– А это уж совсем непонятно. Почему они его хоронят по церковному обряду? Надо бы уж по-граждански… Большевик – так пусть и в могилу сойдет большевиком! Кого они обманывают? Все ясно.
– Так-то так, да не совсем.
– То есть?
– Лучков рассказывал… Конечно, и тут не обошлось без маленькой подлости. Маленькой и глупой… Дело в том, что это они поступили по совету и настояниям Марии Диаман.
– Неужели у нее, действительно, такое влияние?
– Видите ли, сами большевики хотели сначала устроить гражданские похороны. Конечно, внушительные и рекламные. Но и тут выскочила на сцену эта опереточная дрянь: «Как гражданские? Ни в каком случае! Варташевского надо хоронить по-настоящему, по православному, с духовенством, по всем правилам обряда». Нужно же это для того, чтобы публично демонстрировать… уважение большевиков к своим преданным спецам и даже к их религиозным убеждениям!
Он зло прибавил:
– Чувствуете, как зарывают собаку?
Что-то похожее на тошноту поднялось в моей душе. Я брезгливо повернулся спиной к поблескивавшему гробу, который в эту минуту вдвигали в катафалк.
– Какой жалкий конец нашел себе Варташевский! Оставленный всеми обманщик сходит в могилу, как советская марионетка! Удивительно, как они не обвесили этот гроб и катафалк и черных лошадей своими лозунгами. Это было бы достойное завершение земного пути предателя!
Процессия тронулась. По растоптанной грязной дороге мы шли в толпе вослед возвышающейся, мрачно покачивающейся колеснице.
– Еще три дня тому назад Варташевский сидел у себя в Новой Деревне, читал шиллеровских «Разбойников», целовал Марию Диаман и был уверен в том, что никто ничего не знает, ни о чем не догадывается, все скрыто тайной, что так можно жить и дальше… Думал ли он, что так все просто, быстро раскроется, и его уже стережет не только кровь и гибель, но и публичный позор! Сейчас везут предателя, и все знают, кто он, как мерзка была эта жизнь, как торговал он чужим доверием, любовью, клятвами, – наконец, родиной.
– Да, в мире нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Я спохватился:
– Как? А вчерашнее совещание? А новая организация? Значит, и они тоже будут открыты и преданы?.. Не может быть!
Но внутренний голос зловеще подсказывал:
– Все может быть, и все будет!
Процессия шла, растянувшись змеей, изгибаясь на поворотах, привлекая удивленное внимание прохожих. Осиротелый, притихший Петербург давно отвык от пышных похорон и умирал бедно, стыдливо и жалко, будто тайком.
Куда везут тело, я сразу не мог понять. Мы двигались в странном направлении. Наконец, вышли на Каменноостровский.
– Куда же это его тащат? – спросил я Леонтьева.
– Как куда? А! понимаю! Тут тоже хитрый расчетец. Большевики решили отпеть и похоронить Варташевского, так сказать, в его усадьбе… В Новой Деревне…
Я вздрогнул. Мне показалось, что меня ведут той самой дорогой, которой я ехал в ту ночь на убийство.
– Не хватило еще, чтоб они проследовали и на Елагин. Картина была бы полней.
Злоба докончила во мне:
– Но тогда надо было бы прокатить это тело по другим улицам и сделать остановку у места службы покойного. Хорошо было бы, например, покадить ладаном у дома на Гороховой, 2…
Я шел в закипающем смятении борющихся чувств, и глухой гнев, тоскливое уныние, душевная усталость, недовольство собой мучили и замедляли мой шаг.
Как дико и страшно! За гробом жертвы идет ее палач, тело убитого провожает убийца!
В этом было что-то странное и ненормальное, приводящее в ужас здравый рассудок простого человека. Но уже давно все смешалось, спуталось и исказилось в уродливой гримасе жизни.
На крутом завороте я приостановился. Мне захотелось вглядеться в эту толпу сопровождавших катафалк.
Кто они? Что привело их сюда?
Я стал всматриваться и кое-кого узнал. Это были люди из нашей прежней организации. Впереди и сбоку от них медленно выступал задумчивый человек среднего роста с темной бородой. Все время он шел, опустив голову, но и поступь и весь его вид дышали уверенностью.
Я спросил Леонтьева:
– Кто это?
– Ах, этот!.. Подвойский…
– А!..
Конечно, я о нем слышал. Он играл большую роль в красной армии. По крайней мере, этот действовал открыто. Кроме того, он был один из горячих защитников привлечения офицеров в строй.
Вполголоса Леонтьев мне объяснял:
– Он вам будет полезен.
– Он? Нам?
– Да.
– Каким образом?
– Кое-кому из наших удалось его убедить в очень важном вопросе.
Я удивленно взглянул.
– Но ведь он – искренний большевик?
– Кажется, да.
– Ничего не понимаю… Мы и он!..
Еще тише Леонтьев продолжал:
– У Трофимова родился счастливый проект. Состоит он в том, что при штабах должны быть образованы своего рода военные чека. Ну, конечно, они будут называться иначе… Например, особыми отделами или, скажем, разведкой… безразлично. Вы догадываетесь, что из этого может выйти?
Я улыбнулся:
– Война красной и белой розы или два паука в банке – кто кого?
– Совершенно верно.
– Ну, и что же? убедили?
– Еще как! Подвойский съездил даже в Москву к Троцкому.
– Да что вы?
– Представьте… И ведь, знаете, уговорил.
– Проект хорош… Но…
– Опасаетесь нового предательства?
– Нет, тут уж не предательство. Здесь может быть самая настоящая провокация.
– Вы думаете, что Подвойский лицемерит?
– Пока ничего не думаю… Я его просто не знаю. Но если он искренний большевик, то…
– А если б даже искренний?.. Пусть только создаст хоть одну офицерскую чека, и тогда для нас все двери отперты. Чуете, чем пахнет?
– Отлично чую. Но в таком случае самому Подвойскому не сносить головы…
Вдруг процессия замялась, задержалась, скомкалась, остановилась. Дорогу перерезал обоз. Мы вышли из толпы. Я взглянул вперед.
Первой за гробом в глубоком трауре шла Мария Диаман под руку с другой женщиной. Я узнал ее сразу. Это была Изабелла Дуэро, красавица, испанка, любовница известного богача Рулева. Теперь она делала новую карьеру – у комиссаров.
Унылый, медленный, замирающий звон редкими ударами проливался в холодном воздухе пасмурного, неживого дня. Понурая четверка черных лошадей остановилась у небольшой коричневой церкви. Кругом все было бело.
Издали слабо доносилось похоронное пение.
Из остановившегося автомобиля поспешно вышел человек и снял шляпу. Сквозь золотые очки остро поблескивали наблюдательные, беспокойные глаза. Он провел рукой по рыжей голове, заторопился впереди и остановился у входа в церковь.
– Смотрите, – сказал Леонтьев. – Вот этот рыжий… в стеклах… Знаете, кто?
– Кто-нибудь из них?
– Это – Урицкий.
Прищурившись, я придвигался к нему, всматриваясь в эту фигуру, стараясь подойти вплотную.
– Вы с ума сошли, – тревожно заговорил мне на ухо Леонтьев. – Куда вас несет?
– Любопытно.
– Остановитесь! Разве вы не знаете, как сейчас чекисты наблюдают за всеми нами.
Я остановился.
В ту же минуту почти рядом с Урицким я увидел Женю. Она стояла печальная, вся в черном, тоже в трауре, как и Мария Диаман.
Какая-то сила рванула меня вперед, и в тот же миг я почувствовал, как чья-то рука крепко схватила мою руку.
XIX. Разговор по телефону с чека
– Арестован! – мелькнуло в голове, на короткий миг приостановилось сердце, напряглись мышцы, и, стараясь высвободиться из схвативших меня железных тисков, я дернулся – напрасно!
Тотчас же я обернулся. На угловатом лице Леонтьева двумя выдавившимися буграми выступали и двигались крепкие скулы. Он смотрел на меня в упор. Я услышал его голос:
– Ни с места! Ни шагу!
– Что с вами? – спросил я с удивлением.
– Не пущу!
– Вы бредите… Что вам показалось?
– Это неважно. Но вы забыли, что вы здесь не одни.
– Неужели вы предположили, что я…
– Ничего не предполагал.
Мы прошли несколько шагов. Леонтьев начал:
– Вы ведете себя, как заговорщик. Зачем вы бросились вперед?
– Уж, конечно, не для того, чтоб убивать.
Оскорбленный его силой, все еще чувствуя боль в покрасневшей браслетом кисти руки, я недовольным тоном ворчливо бросил ему вопрос:
– Да и какое вам дело до моих решений и поступков?
– Ну, нет-с!.. Это касается нас всех. И прежде всего меня. Имейте в виду, что вы – член организации, а затем официально находитесь в моем распоряжении. Так вот, я вам приказываю быть осторожным. Поняли?
– Слушаюсь!
Потом, успокоившись, я объясняю Леонтьеву:
– Не понимаю, отчего вы взволновались. Я просто хотел подойти к сестре.
– Евгении Ивановне? А где же вы ее видите?
– Вон там… Около него…
– Так эта дама в черном – она?..
Мне показалось, что он чего-то не договорил. Неужели он догадывался или знал о любви Жени к Варташевскому? Да и была ли эта любовь? Что вообще произошло между этими двумя людьми? И почему ничего не видел я, не подозревал, никогда не сближал в моем уме этих двух имен?
– Боже мой! Чистая, святая Женя и он!..
Урицкий продолжал стоять при входе в церковь. Печально, прощальным звоном, медленно зазвонили колокола. Старушка около меня сказала:
– Сейчас будут выносить.
Я прошел вперед и выбрал место поодаль.
Могила для Варташевского была вырыта тут же вблизи, в церковной ограде. Снижаясь на толстых веревках, металлический гроб последний раз блеснул серебряным отливом и опустился в могилу. Стали закапывать, и среди нетронутой, блаженной белизны скоро вырос маленький рыжеватый холмик. Пред ним в рыданиях билась женщина, а ее поддерживали, будто стараясь поднять с земли, две других: Женя и Изабелла Дуэро суетились над рыдавшей Марией Диаман.
Потом я видел, как в холм вбили крест. Он был тоже бел, и на его перекладине неясно виднелась какая-то надпись.
Незнакомый мне человек в военной шинели прошел от могилы, остановился около Леонтьева и, что-то прошептав ему, заторопился дальше.
Леонтьев объяснил:
– Они ему даже заранее приготовили крест и надпись… Знаете, какую? – «Полковник Константин Варташевский, павший от предательской руки убийцы за свободу и дело народа»… И тут не удержались от лжи!
– Да… Пригвоздили даже на могильном кресте…
И вдруг пудовая, несказанная, томящая тяжесть легла мне на грудь. Душа сжалась от темной тоски, что-то подступало к горлу и сдавливало дыхание.
Я подошел к сестре, слегка обнял ее и тоном дружеского и грустного совета еле мог выговорить:
– Успокойся, Женя!.. Ты заблуждаешься… Ты не все знаешь… Он не стоит твоих слез.
Она мягко отстранилась:
– Оставь меня! Уйди! Мне хочется побыть одной… Христос с тобой!..
И она медленно поплелась в сторону. Я ничего не понимал.
– Узнала она о том, что убийца – я? Угадывала? Наконец, какое ей дело до Варташевского, до нас, до тайны его смерти? Но если ей сказали – я знаю, кто это сделал.
Я отправился к Кириллу. Был пятый час дня. Щемящие, серые сумерки невидимо переходили в пустынный и тревожный вечер. Кирилл меня встретил, будто ждал моего прихода.
– Ну, что, зарыли? – спросил он равнодушно.
Я кивнул головой. Он с сожалением взглянул на меня:
– Нервы гуляют?
Я молчал.
– Ну, ты тут делай, что хочешь, а мне надо на работу…
– Куда?
– Дельце одно наклюнулось. Надо довезти, а главное, потом удрать.
Едва ли я искренне чувствовал хоть какой-нибудь интерес к тому, что говорил Кирилл, и все-таки тайное, скрытое, полумертвое любопытство заставило меня спросить:
– Разве уже наши начали?
– Обязательно!.. Велел подавать сам Трофимов… Этот не шутит.
Кирилл уехал. Я остался один.
У меня пока не было никакого назначения, не было ни желания, ни нужды кого-нибудь видеть. Я лежал, засыпал, пробуждался, вставал, ходил, снова ложился. О чем я думал весь этот день? Не знаю. О чем-то вспоминал, о чем-то рассуждал. Все было неясно!
Наступила апатия. Сердце не хранило ничего.
Кирилл приехал поздно, мы не успели сказать друг другу ни одного слова, – так он был утомлен, а у меня не было к нему никаких вопросов. Спросонья я только бросил:
– Кирилл?
– Я.
Рано утром он уехал снова, а к полдню вернулся, встревоженный, взволнованный, обеспокоенный и, не успев ввалиться в комнату, громко и нервно стал рассказывать пресекающимся голосом, все время проглатывая слюну и бестолково теряя слова:
– Ужасно. Ты не можешь себе вообразить… Надо сейчас же подумать!
Я вскочил.
– О чем ты? Что произошло?
Тогда, дернувшись, он топнул ногой и вскрикнул:
– Арестован Леонтьев!
– Что-о-о?
– Вот тебе и «что о-о».
– Где?
– В штабе.
– Откуда ты знаешь?
– Да ты-то только сейчас родился? Понятно, от Лучкова. Через Лучкова же мы узнали, что Урицкий спрашивал Леонтьева на допросе, ушел ли ты в Финляндию или еще обретаешься здесь. Конечно, Леонтьев ответил: «Не знаю». Тогда Урицкий спрашивает: «А что, Брыкин не может дать каких-нибудь показаний?..». Леонтьев опять: «Не знаю».
Мы зашагали по комнате. Наконец, я воскликнул:
– Надо идти на все, но Леонтьева спасти – во что бы то ни стало.
Мы стали думать.
Лихой человек Кирилл – лихой человек и плохой советчик. Его проекты были дерзки и смешны. Какой детской романтикой веяло от этих предложений:
– Напасть на чека!.. Отправить делегацию!.. Заявить протест!.. Убить Урицкого.
– Нет, Кирилл. У тебя – большое и смелое сердце, но насчет этого – я постучал по лбу – не богато.
– Ну, так изобретай сам.
У меня созрело решение… Оно было просто и, как мне казалось, не только логично, но и не предвещало никакой опасности.
– Я думаю поступить так… Сначала переговорю с Урицким. Конечно, по телефону. Из разговора будет ясно, серьезен ли арест Леонтьева, или нет… А там посмотрим.
У Кирилла загорелись глаза:
– А ведь и верно! Молодец же ты!
Я оделся и вышел. Первая мысль была:
– Откуда говорить по телефону? Ни из аптек, ни из магазина, ни из частных квартир нельзя было: во-первых, услышат, во-вторых, зачем навлекать подозрение на неповинных ни в чем людей! Откуда же?
Я вспомнил.
Когда-то мне приходилось звонить по общественному телефону в Пассаже. Хорошо, если уцелел!
Я взял извозчика.
Гулко раздавались мои шаги по пустому, каменному, обнищалому и холодному, когда-то многолюдному Пассажу. Какое счастье! Телефон работал. Я соединился:
– Попросите по телефону председателя чрезвычайной комиссии.
Отвечают:
– Сейчас.
Вслед за этим:
– Говорю я.
– Кто?
– Урицкий… Кто у телефона?
– У телефона – секретный сотрудник главного штаба петроградского военного округа Брыкин.
В телефон говорить иронический голос Урицкого:
– Какой, однако, у вас громкий титул!
Я с достоинством парирую:
– Титул дан рабоче-крестьянской властью.
– По какому поводу вы звоните ко мне?
– В штабе мне сказали, что арестован Леонтьев и вы ищете меня.
– Ну, и что ж?
– А так как я знаю, что за мной никакой вины нет, я и звоню сам.
– В таком случае, приезжайте. Я велю вам выдать внизу пропуск.
Тогда я задаю лукавый и многозначительный вопрос:
– Скажите, товарищ Урицкий, брать ли мне с собой одеяло и туалетные принадлежности.
– Незачем. Можете не брать. Будете выпущены сразу.
В раздумье я выхожу на Невский.
– Чем я рискую? Ничем и всем! Кого разыскивают? Только Зверева. Да, он действительно убил и Томашевского, и полковника-летчика Константина Варташевского… Да, Звереву с Урицким встречаться не следует!.. Но Брыкин?.. Кто знает Брыкина? Кроме убитого Феофилакта, это известно одному-единственному человеку – Леонтьеву. Он один хранит тайну о том, что Брыкин и есть тот самый Ззерев, который…
Еще раз я спрашиваю самого себя:
– Значит, идти?
И отвечаю:
– Без сомнения, потому что теперь уже нельзя не идти. Ведь не Зверева уже, а теперь именно Брыкина ждет в эту минуту Урицкий.
Сажусь в трамвай. Доезжаю. Вхожу в подъезд. Называю себя.
– Проходите в приемную!
По двухъярусной лестнице с железными перилами подымаюсь во второй этаж, открываю дверь: я – в середине коридора. Предо мной – приемная бывшего петербургского градоначальника, теперь это – тоже приемная, но уже не градоначальника, а председателя чрезвычайной комиссии.
Рядом с ней – угловая дверь, ведущая в кабинет Урицкого.
Приемная наполнена людьми, и, скользнув взглядом по лицам, я ясно ловлю на них нечеловеческий ужас, животный страх, робкие надежды, рабскую покорность и трепет, трепет.
Я подхожу к дежурному чекисту и называю себя:
– Брыкин!
– Сейчас.
Меня проводят в угловой кабинет.
И сразу я узнаю рыжего человека с наблюдательными, прищуренными глазами, колюче смотрящими из-за больших золотых очков. Рядом за столом сидит другой. Я его не знаю.
Урицкий откидывается на спинку кресла.
XX. В кабинете Урицкого
– И до сих пор я все помню так, как будто это случилось вчера. В жизни бывают неизгладимые впечатления, незаживающие раны. Есть неизлечимые потрясения нервов.
Скажу вам больше: чем дальше отходит от меня этот день, когда я переступил порог чека, тем отчетливей становится вся эта картина, эти мгновенные переживания, это смешение чувств испуга, дерзости и приговоренности. Всякий раз при воспоминании об этом мое сердце сжимается и бьется взволнованно и часто. Представьте себе, сейчас я многого не понимаю в самом себе:
– Как мог я решиться на это свидание с Урицким, войти в берлогу зверя и захлопнуть за собой дверь? Кто в мире добровольно устраивает себе западню? Никто! Простите меня, если и сейчас, рассказывая вам об этих часах, я не сумею скрыть мое волнение…
Стол Урицкого стоял прямо передо мной, внутри, у стены, в углу, освещенный окном. Заслоняя второе окно, за другим столом сидел спокойный человек неопределенной наружности. Это был следователь чека по особо важным делам.
Зеленые глаза Урицкого пронизали меня сквозь блестящие стекла золотых очков, и в этом взгляде таился хитрый и хищный зверь. По всем его мягким и цепким ухваткам я сразу почувствовал, что он готовится к прыжку и сейчас бросится на свою жертву. Жертва – это я.
Я набрал воздуха, как это бывает с человеком, кидающимся в морскую глубь… Сзади меня закрывается дверь… Я делаю общий поклон. Молчаливо и вежливо они отвечают тоже поклоном. Жестом руки Урицкий приглашает меня сесть. Я опускаюсь на стул против следователя.
Две пары внимательных, настороженных, сверлящих глаз впиваются в меня, будто разрывая преграды и заглядывая в самые сокровенные тайники моей души.
Урицкий произносит:
– Ну, вот и отлично… Как вы скоро пришли! Должно быть, спешили?
Из большого серебряного ящика следователь предлагает мне папиросу. Я закуриваю, выпускаю дым и весь сжимаюсь в крепкую, скрученную пружину.
– Очень рад с вами познакомиться, – говорить следователь.
Он смотрят на меня спокойным и ждущим взглядом.
– Так вот, начнем беседу, – тянет он слова. – Скажите: вы давно состоите секретным сотрудником главного штаба?
Стараясь придать моему голосу тон правдивой простоты, я отвечаю:
– С самого начала большевистской революции.
– Это очень хорошо. Ну, а что вы делали до нашей революции?
На один пронесшийся миг у меня возникают колебания. Что сказать? Конечно, я был помощником Варташевского. Но ведь то был Зверев, а я – Брыкин. Что же я делал? Я говорю:
– С февраля месяца я был очень тяжело болен.
Оба – Урицкий и следователь – настораживаются. В комнате наступает тишина. Я выпускаю изо рта три кольца дыма, они плывут, качаются, тают и расплываются синеватой лентой.
Следователь прерывает молчание:
– А скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Леонтьевым?
Я равнодушно говорю:
– Был.
– Как вы познакомились?
– По делам службы.
Будто хватая меня и желая поразить внезапностью вопроса, следователь бросает:
– Как настоящая фамилия Леонтьева?
– Леонтьев.
– Только?
– Да. Я знал его только как Леонтьева.
– А вы разве не знаете, что его настоящая фамилия Горянин?
– Первый раз слышу!
Тогда вкрадчиво мне задают страшный, грозный, роковой вопрос:
– Но, может быть, вы знали, что Леонтьев является агентом умершего английского капитана Фрони?
Наступает торжественная пауза. Рыжий человек пригибает голову и прищуривает правый глаз. Все ждут. Сейчас я их поражу.
– Да, я это знал, – произношу я так, как будто заявляю о том, что сегодня утром пил чай.
От удивления Урицкий привстает с места. Правою рукой он опирается на стол. Левая рука в перстнях медленно проводит по рыжей голове. Он подается вперед. Он удивлен и ошеломлен. Я весь напрягаюсь в последней решимости казаться равнодушным.
Урицкий раздельно, словно ничего не понимая, растерянно, со скрытой злобой выдавливает из себя:
– Как так? Вы знали, что он – агент Фрони? И вы с ним работали?
– Да.
– Почему же вы не донесли мне? Значит, вы с ним заодно?
Я прошу:
– Разрешите встать.
Я прохаживаюсь по огромному, великолепному ковру взад и вперед, потом останавливаюсь пред Урицким и сам задаю ему вопрос:
– Скажите, товарищ Урицкий, кто я такой? Вы знаете?
– Знаю.
– Я был секретным сотрудником главного штаба. Как вы думаете, мог я в этой должности не хранить секретов?
Урицкий слушает меня с напряженным вниманием. Я продолжаю:
– Я не только знал, что Леонтьев – агент Фрони, но я был этим очень доволен. Посудите сами: наши враги сами идут в наши сети, а я этому препятствую. Леонтьев их заманивает, и я иду и выдаю его. Разве это возможно? Мне, как, конечно, и Леонтьеву, нужно было прежде всего использовать этих заговорщиков…
Я пожимаю плечами:
– Хорош бы я был секретный сотрудник, если бы сообщил об этом даже вам! Ведь это значило сорвать дело на половине.
И заканчиваю:
– Интересно, как бы вы поступили на моем месте, товарищ Урицкий?
Урицкий медленно и тяжело опускается на стул, повертывает голову к окну и долго сопит.
– А знаете, вы – талантливый человек!..
В голосе его слышится не то ирония, не то признание. Он доканчивает с усмешкой:
– Я многое дал бы, если б вы стали… моим сотрудником.
Следователь перебил его:
– Как вы относитесь к рабоче-крестьянской власти?
– Это показывает моя работа.
– Вы – партийный или беспартийный?
Тоном, в котором чувствуется пренебрежение к незначащему вопросу, я отвечаю:
– После того, что я сделал для рабоче-крестьянской власти, совсем неважно – партийный я или нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что, если бы я был даже партийным и не сделал того, что я должен был сделать, это было бы гораздо хуже…
– Что еще вам известно о Леонтьеве?
– Ничего… Знаю только, что он всегда был ярым сторонником советской власти… по крайней мере, так мне казалось.
Следователь потер руку об руку, откинулся на спинку кресла, – очевидно, допрос был окончен.
У меня пронеслось:
– Вот. Наступило! Что будет сейчас?
Сладким, ласковым и подлым голосом заговорил Урицкий:
– Дорогой наш товарищ Брыкин! Хотя вы стоите, конечно, вне всяких возможных подозрений, вы все-таки можете нам еще понадобиться и – кто знает? – даже очень скоро, и мне искренне не хотелось бы с вами расставаться. Поэтому я готов вам предложить остаться у нас…
Он позвонил. Тотчас же послышался стук в дверь. Урицкий сказал:
– Войдите!
Весь в желтой коже, с наганом за поясом, высокий, черный, сухощавый комендант чека вытянулся, ожидая приказания. И Урицкий его отдал:
– Товарищ комендант, будьте добры, препроводите моего дорогого знакомого, товарища Брыкина, в кабинет № 7.
Я встал и поклонился. И они тоже ответили поклоном. Вежливость необыкновенная! В эту минуту мы были похожи на прощающихся джентльменов, только что окончивших важный деловой разговор.
Не проронив ни слова, мы шли с высоким черным человеком по коридорам, по лестницам, встречали людей и, наконец, остановились пред запертой дверью.
Комендант любезно объявил:
– Вот и ваши апартаменты!
На двери чернела цифра «7», и по коридору около камеры медленно расхаживал часовой.
Комендант щелкнул ключом, дверь отворилась – в камере стоял арестованный.
– Входите, – предложил комендант.
– Я не войду.
Меня охватило упрямство. Я почувствовал прилив тихого бешенства; в эту последнюю минуту, отделявшую меня от неизвестности, от неволи и заточения, я с нечеловеческой жадностью, с животным упорством хватался за мою уходящую свободу.
Едва ли ясно понимая, что я говорю, что делаю, я громко заявил:
– Я не арестован. Я занимаю пост повыше вашего. Я – не обвиняемый и даже не подозреваемый. Я никуда не сяду. Я – секретный сотрудник.
Пораженный комендант смотрел на меня широко раскрытыми глазами. С минуту помявшись, он решился:
– Ну что ж, пойдемте.
И опять теми же лестницами, теми же коридорами, по тому же пути мы вернулись в приемную…








