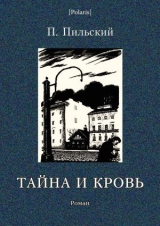
Текст книги "Тайна и кровь"
Автор книги: Петр Пильский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
XII. Судьба Варташевского
Леонтьев говорил, и с каждым его словом для меня открывалась все глубже и глубже безжалостная и горестная пропасть. Я испытывал тот последний ужас, который называется разочарованием.
Как только Леонтьев начал объяснять поведение Варташевского, я уже знал, в чем дело, и предвидел конец. Сейчас я переживал такое чувство, будто приехал издалека на похороны любимого человека, стою у его гроба и с трепетом и съежившимся сердцем смотрю, как отдернут покрывало и я увижу дорогую мертвую голову.
Все было ясно. Я мог не дослушивать.
Леонтьев продолжал:
– Варташевского и не пытали. Даже чекистам было понятно, что Данилов действовал самостоятельно. Если б Варташевский был соучастником, он мог бы скрыться тем же самым способом: улететь на аэроплане. Да, вероятно, и улетел бы, но… куда ж подниматься к небу, если не пускает земля. А его уже тогда своими цепкими руками захватила эта проклятая Мария Диаман. Уж лучше бы он улетел, чем… Ну, что толковать: человек сдался. Ясно, как 2 x 2 = 4. В том-то и опасность нашего дела, что мы все время стоим на этой дьявольской грани, качаясь то в ту, то в другую сторону, работая на две лавочки. Это не всегда проходит даром…
– Что же делать? – спросил я тихо.
– Подождите! Вы еще не все знаете… Слыхали вы о гибели английского капитана Фрони? Ну, того изумительного Фрони, которого убили чекисты, ворвавшись в английское посольство?
– Мельком слышал.
– Подлейшая история! Вот был человек… Другого такого не найти!
Я вяло сказал:
– Может быть, расскажете?
– Долго… да и какие тут рассказы! Все мы долго не могли понять, как его поймали. А теперь уже не может быть никаких сомнений.
Я нетерпеливо вскрикнул:
– В чем дело?
И тотчас же почувствовал, что задаю совсем ненужный вопрос.
Не рассудком, не сердцем, а всей кожей моего тела, волосами, концами моих ногтей я в эту минуту остро понимал, что случилось с несчастным и замечательным английским капитаном Фрони, с этим героическим борцом, искренним ненавистником красных советов.
– А дело в том, что и он явно был предан тем же Варташевским. Двух мнений не может быть.
Как странно! Какая непонятная сила заключается иногда в слове! Ведь вот, я сам в эти минуты уже знал это новое чудовищное преступление моего близкого когда-то друга, а теперь самого злостного и презренного врага. Знал! Но Леонтьев произнес вслух два слова:
– Варташевский – предатель!
И внутри у меня все сразу захолодело и оборвалось. Хотелось стонать, кричать, кататься по земле, стать на четвереньки, зарычать и завыть. Это желание я ощущал жадно и остро, и его я помню до сих пор с совершенной отчетливостью: да, стать на четвереньки, грызть землю и выть.
И в последней беспомощности, сразу ослабевший, ощущая только железное напряжение мышц, сквозь стиснутые зубы я задал тот же самый ненужный вопрос:
– Что же делать?
Леонтьев взял меня под руку, встал со скамьи, будто приподняв меня. Мы прошли несколько шагов. Крепко сжав мой локоть, он вымолвил равнодушно, ничего не выражающим голосом:
– Прикончить!
Еще раз мы обошли маленький, круглый Пушкинский скверик. Красное здание «Пале-Рояля» медленно проплыло перед моими невидящими глазами. Когда-то я жил здесь.
Сюда однажды пришла ко мне Мария Диаман. Зачем она это сделала? До сих пор для меня это было загадкой – этот вечер с вином, эти часы ласк, эти неповторимые слова признаний, потому что слова любви никогда не повторяются, потому что для меня этот сон не повторился и теперь уже не повторится никогда.
Все обнажилось грубо, пошло, подло: она просто взвешивала и соображала – кто из нас двух полезней, я или он, Михаил Зверев или Константин Варташевский? Вот и все… Ах! Ах!
Мы простились с Леонтьевым.
Уходя, он сказал:
– Только не откладывайте! Что решено – должно быть сделано скорей.
И в эту минуту я вспомнил обращение Христа к Иуде:
– Что делаешь, делай скорей.
Но я и сам сознавал, что медлить нельзя. Кошмар давил. То, что я едва смел предполагать, оказалось самой ужасной, раскрывшейся и неоспоримой правдой… Наводил на след, указывал, заманивал, предавал, шепчась за нашей спиной, человек, которому я так беспредельно верил, кого я любил больше, чем брата, уважал глубже, чем отца, на кого в своей наивной вере я готов был молиться!
Этого храброго, твердого, азартного, двадцатитрехлетнего Варташевского я носил в своем сердце, как образец самоотвержения, как пример подражания. На войне, по первому его слову, я готов был пойти на смерть. И нас, действительно, спаяла не только дружба, но и кровь…
Потом между нами стала эта женщина. Теперь встал ужас.
Я шел, и теперь я знал, куда иду и зачем. Сразу пропал страх быть узнанным. Я не чувствовал никакой боязни. Если б за мной гналась вся чека, то я не ускорил бы шага. Мысль работала в одном направлении. Душа ныла, но сердце толкало вперед:
– Скорей! Скорей!
Я шел, как в железном сне. Все было напряжено во мне: мускулы рук и ног, нервы, ясность распаленного рассудка.
В эту минуту во мне горели холод и огонь.
Только бы застать Кирилла! В этом все…
– Вы спрашиваете, кто такой Кирилл? А Кирилл – это член нашей организации, уланский ротмистр. Отличный наездник. Когда-то владелец единственной конюшни. У нас он был «подающим». Кирилл выезжал лихачом и, когда он был экстренно нужен, ему говорилось только одно слово: «Подать!»
– Ах, если б его застать!
Я вошел трамвай, доехал до Каменноостровского. Кирилл был дома. Не вдаваясь ни в какие подробности, я рассказал ему в двух словах о нашей задаче.
Кирилл даже не удивился.
Он сидел пред зеркалом и брился. Красное, крепкое, мускулистое лицо лентами освобождалось от белой мыльной пены. Тщательно и спокойно ведя бритву вверх по левой щеке, подперев ее изнутри языком, он сказал:
– Как будто и мне это казалось… Только я думать об этом не смел.
Потом спросил:
– Куда подать?
– Да хоть сюда.
– В котором часу?
– Вечером. В и.
Мне никуда не хотелось идти. Какой страшный день!.. Это бегство, эти поднимающиеся потолки, скользкие крыши; вся эта эквилибристика, фокусничество, какой-то безумный авантюризм… Это было похоже на американскую фильму. Потом потрясающий разговор с Леонтьевым.
Как трудно! Как больно! Как холодно и страшно!
– Я останусь у тебя, – сказал я Кириллу. – Мне некуда идти…
– Ну что ж, пожалуйста. Отдохни! Захочешь поесть, возьми из этого шкапа. Только вот что: раз уж ты пришел, не выходи! А впрочем, я тебя запру, а ты сиди и жди меня.
Я остался один.
Только измученные люди понимают эту радость остаться в четырех стенах наедине с самим собой. Я прилег. Сна не было.
Я встал и прошелся по комнате. Горела голова. Пляшущие, треплющиеся нервы заходили, опережая шаг, будто я не шел, а бежал, скакал, мчался, летел.
Через минуту я поймал себя на том, что говорю вслух. И я, действительно, говорил.
Да, убить Варташевского для меня все еще казалось величайшим преступлением. Этот момент его убийства я не мог себе представить. Казалось, в последний момент у меня опустятся руки…
…Вот я уже занес револьвер, но он взглянул на меня своим ясным, теплым, таким знакомым взглядом… Решусь ли я?
Я подходил к графину, наливал воду и снова вышагивал комнату по диагонали, от угла к углу. Наконец, изнемог.
Сжав голову обеими руками, я бросился на кровать:
– Надо забыться! Попробую уснуть!
В 11 часов вернулся Кирилл.
– Лошадь подана, – сказал он, вваливаясь в комнату в толстом, тяжелом и щегольском армяке лихача.
Он поправился на козлах, подвернул под себя полу, застегнул фартук, разобрал вожжи, напружинился и подался вперед. Рысак рванул.
Маленькая пролетка-одиночка мягко катилась, чуть-чуть вздрагивая и подпрыгивая на неровностях камней. Мы оба молчали. Мыслей не было. Ничего не было! Я ехал, как пустой, и минутами мне казалось, что я не еду, а меня куда-то везут.
Темная, немая ночь, темное, немое небо легли на Петербург. Вдруг исчез камень. Мы катились по немощенным улицам.
– Подъезжаем, – бросил, повернув голову, Кирилл.
По обеим сторонам тихо спали небольшие деревянные дома. Это была Новая Деревня.
Здесь жил Варташевский.
XIII. Казнь
На мягком грунте рысак пошел шагом. Покачивалась пролетка. Я смотрел на толстый кучерской зад Кирилла, обводил глазами уснувшую деревню и ни о чем не думал. Не хотелось думать.
Кирилл спросил:
– Подать к самому дому?
Машинально и нехотя я ответил:
– Подавай!
Я шел на убийство. Такие акты обдумываются заранее. Мало ли что может случиться!
…Ну, прежде всего: Варташевский сейчас один или не один? Если в квартире никого больше нет, его можно уложить тут же, сразу, без разговоров, без объяснений, без кощунства добрых и заманивающих слов, без змеиных поцелуев.
Но если там еще кто-нибудь, – тогда?..
Я ничего не предрешал.
Вероятно, во всем мире с самого дня его возникновения не было более пассивного убийцы, чем я. Без мысли, без плана, без всяких предосторожностей, как дикарь с камнем, я шел на этот страшный акт мести и искупления. Но я даже не волновался.
Удивительно!
Даже профессиональные убийцы испытывают колебание, трепет, боязнь. У меня не было ничего.
Как молнии, как вспышки, как невесомые воздушные птицы, пролетали то далекие, то близкие воспоминания, спутывались, пропадали и возникали вновь.
Вставали видения:
– Вот, в этой Новой Деревне я когда-то весело кутил. Пели цыгане, журчала гитара, пенилось вино, на счастье табору мы бросали золотые монеты в бокалы шампанского, черноокая Паша с полными красными губами затягивала песню привета: «Как цветок душистый…» И, наклонясь к моему уху, звенело ласковым призывом, убаюкивающей радостью и разгулом: «Выпьем мы за Мишу, Мишу дорогого…»
Милая Паша! Если бы ты видела меня в эту минуту…
Тогда она гадала «Мише» Звереву на картах и по руке, – что предсказала бы она сейчас ночному убийце Владимиру Брыкину, идущему на новый ужас, окруженному тенями, опасностями, тайной и кровью?
Кирилл подался назад, натянул вожжи. Конь остановился.
Я вылез.
За оградой, в палисаднике стоял деревянный домик. В двух последних окнах светился огонь: горела керосиновая лампа.
Кирилл лениво сказал:
– Буду ждать здесь. Там на пролетке не проедешь…
Я открыл калитку.
На одну короткую секунду меня объяло уныние. Уныло и безропотно торчали тощие, короткие деревья палисадника, уныл был трехступенчатый вход, уныло и криво свесилась проволока звонка.
– Ну, готовься же! – говорил мне кто-то велительный и строгий.
– С чего ты начнешь? – спрашивал неумолимый голос, и в нем говорила решимость и воля, последняя воля усталого палача.
И ему отвечали не сознание, не рассудок, не обдуманность, а что-то другое… Что? Может быть, сердце? Нет! Это, отмахиваясь и заслоняясь от грозных призраков кровавой неизбежности и терзаний духа, откликалась моя сонная, изнасилованная совесть.
– Надо только войти! Так просто! Поздороваюсь… Почему не поздороваться? Это так естественно. Потом все произойдет само собой.
– Иди же! – подталкивал я сам себя.
– Ну, вот, одна ступенька… другая… третья…
Надо было браться за ручку звонка.
И вдруг я сразу встряхнул себя. Так когда-то я вытягивался на смотрах.
Внутренне я командовал себе:
– Смирно! подтянись! Возьми себя в руки!.. Так! Правильно!.. Теперь дерни звонок!
За обгрызенную, жалкую деревянную рукоятку я дернул сильным движением правой руки и почти тотчас же стукнул в дверь согнутым указательным пальцем – раз и другой.
Затаил дыхание и ждал.
– Кто там?
Голос Варташевского.
– Это я.
Произношу эти два таких простых, таких коротких слова, но сам слышу, что хриплю. Осекается мой голос, мое сердце нервно и трепетно бьется, мне кажется, что я готов упасть, так слабы и неверны мои ноги.
– Смирно!
Я напрягаю мускулы, я чувствую, какими выпуклыми сразу становятся мои икры.
– Кто?
– Зверев.
Из-за двери – приветливый возглас:
– Ах, это ты, Миша?
Ах, почему он сказал «Миша»? Зачем эти теплые ноты? Почему не «Зверев»?
– Я.
– Эк, когда тебя занесло… Сейчас отопру.
Легкие, быстрые шаги удаляются. Он пошел за ключом.
В темной ночи у двери человека стоит его убийца. Убийца – это я. Моя жертва сейчас мне отворит эту дверь. Варташевский доверчиво впустит меня к себе… Он ничего не ждет. Он ничего не предчувствует.
– Ну что ж!
В голове мелькает:
– Можно обманывать некоторых все время. Можно обманывать некоторое время всех. Но все время обманывать всех нельзя!
Это меня ободряет моя память. Когда убиваешь, надо оправдываться!
Секунды кажутся вечностью.
Наконец: те же быстрые шаги, два быстрых, энергичных поворота ключа, дверь – настежь.
– Миша, почему так поздно?
Он протягивает мне руку, тянет к себе, целует. Немыми концами замороженных губ я прикасаюсь к его горячему рту.
– Раньше нельзя было.
Обняв, он ведет меня в комнату. На ходу чиркает спичкой.
– Осторожнее, – говорит он. – Здесь порог.
Как смешно! Меня он должен беречь!
В комнате горит лампа. Пахнет керосином. На столе – развернутая книга. Я быстро бросаю взгляд: Шиллер – «Разбойники». Уж не я ли Моор?
– Ну и исхудал же ты, – говорить Константин, пристально вглядываясь в мое лицо.
Он берет лампу, поднимает, освещает меня:
– Да, брат, подгулял…
Мы садимся.
– Говори скорей, в чем дело, – просит Константин, стыдливо опуская глаза, и тихо прибавляет:
– Я – не один.
Конечно, он – не один!.. Она – тут! Тотчас же я улавливаю легкий запах духов и еле слышный шорох за стеной.
Она слушает. И твердо я говорю себе в эту минуту:
– Ничего не услышишь! Нет, mademoiselle Диаман, вы ничего не подслушаете!
– Так в чем же дело?
Я отвожу глаза.
– Да как тебе сказать… Во всяком случае, дело серьезное. Вопрос идет о судьбе организации…
Он незаметно поднимает внимательно глаза, смотрит на меня настороженно, в его взгляде пробуждается любопытство.
Еще бы оно не проснулось у тебя – у тебя, предателя!
Волна тихой злобы охватывает сердце. Я боюсь выдать себя. Покорно ли мое лицо? Верно ли оно передает мою предательскую игру?
– Разве так серьезно? – спрашивает Варташевский.
– Очень.
– Ну?..
– Здесь неудобно говорить. Да и душно у тебя. Я устал. Хочу воздуха. Пройдемся…
Варташевский потягивается и зевает:
– А может быть, лучше завтра?
– Завтра я уезжаю.
Мы выходим.
– Ах, Кирилл!..
Варташевский протягивает руку нашему «подающему».
– Здравствуй, Кирилл!
Кирилл – хороший лихач, но плохой актер, и в его ответе не слышится «здравствуй», а «здравствуйте». Ох уж эта мне кирилловская искренность! В этот момент какой это ненужный багаж!
– Кирилл, может быть, немного провезешь?
Почти шагом мы доезжаем до Елагина острова. Выходим. Константин берет меня под руку:
– Рассказывай!
И я начинаю говорить.
Я плету ему всякий вздор, я сообщаю ему какие-то ничтожные мелочи, я ни разу не решаюсь выговорить слово «предатель».
Мы удаляемся вглубь елагинского парка. Мертвенно, тихо, темно…
Константин говорить:
– Ты просто подозрителен!
И этим сразу разрубает узел. Я загораюсь. Нервы отказываются мне служить. Я чувствую, что уходят последние силы. Высвободив руку из-под его руки, будто разомкнув последнюю связь, я бросаю ему в лицо:
– У нас есть предатель, и он состоит в нашем центре.
И вдруг из его горла вырывается позорный, подлый и (я слышу) трусливый вопрос:
– Кто?
Да, трусливый. Это «кто» он произнес, словно поперхнувшись, и выходит:
– Кях-то?
И это «кях-то» было похоже на звук, который издают подавившиеся кошки.
Тогда я придерживаю его, потом вдруг отстраняю, становлюсь пред ним, как внезапно выросший враг, и ударяю, как пощечиной, последней и страшной правдой:
– Ты!
Он откидывается назад, поднимает левую руку: так заслоняются от удара!
Но я доканчиваю:
– Да, ты! Ты – предатель! И ты – осужден!
Он молчит.
Тень предателя на снегу предательски обнаруживает дрожь в его коленях.
И это – Варташевский, это – наш храбрый, наш безукоризненный и светлый Константин! Он дрожит!
– Маски сорваны! – повелительно кричу я. – Ты должен умереть!
Варташевский делает два шага назад, останавливается, скрещивает руки.
Я слышу нежданное, потрясающее, ужасное признание.
Константин медленно выговаривает:
– Стреляй!
Я крепко сжимаю рукоятку среднего маузера, я слышу, как тяжко и часто дышу. Мне больно, пустынно и тоскливо.
О, если бы он оправдывался! Но он доканчивает:
– Я заслужил этот конец.
Глухим, раздавленным голосом он произносит последнюю фразу:
– Передай моим товарищам, что я не так виноват, как они думают. Стреляй!
Никогда, никак, ни на словах, ни на бумаге, даже самому себе я не в силах рассказать, что я почувствовал, что я пережил в тот момент, когда он упал на снег.
Один за другим, два выстрела до сих пор звучат в моих ушах, и ясно, но и смутно я вижу сейчас эту темную ночь, темное небо, глухой парк, следы двух людей, шедших сюда.
Мне кажется еще, что я вижу собственную тень удаляющегося убийцы.
XIV. Игра
Не глядя, не разбираясь, ступая, как попало, без дороги, я торопливо шел от места убийства, будто убегая от этого ужаса в желании скрыть следы моего мучительного преступления.
– Ну что ж? – спросил Кирилл. – Окончено?
Я кивнул головой.
– Да.
– Теперь куда?
– Поезжай прямо!
Рысак понес. Так мы летели несколько минут. Кирилл сдержал коня, перевел на шаг, бросил вожжи, обернулся.
– Ну что, Константин струсил?
– Признался.
Я рассказал Кириллу, как произошло убийство. И неясная, скомканная, затемненная картина понемногу стала светлеть в моем рассказе и моей памяти. Еще всего четверть часа тому назад эти вопросы, быстрые ответы, шаги, выстрелы, падение тела сливались в одно. Но уже сейчас я разбирался во всем.
Отчетливо всплыло последнее завещание Варташевского. Он сказал:
– Передай Мари, что я ее люблю… Да, еще: у нее сейчас нет денег. Помогите ей…
Я приказал Кириллу:
– Поезжай в Новую Деревню.
– Куда-аа?
Я повторил.
– Вот я еду к ней, – говорил я сам себе. – Как все странно! Что я ей скажу? Что я с ней сделаю? Да, сделаю!.. Мария Диаман не должна жить!
Мысль работала быстро, логично и неумолимо.
В эту минуту я анализировал свое положение, роль Марии Диаман, судьбу Варташевского с холодным спокойствием, с бесстрастием все потерявшего человека, с жестокостью палача, для которого количество жертв уже не имеет значения.
– Кто для меня в эту минуту Мария Диаман? – спрашивал я себя. И отвечал:
– Твоя гибель!
Я вслушивался в этот немой ответ и чувствовал всю его правду, гнев и точность.
– Да, она – твоя гибель… Она еще не привела тебя к краю могилы. Но ничтожная оплошность, малейшая податливость, легкая слабость или уступка – и эта женщина тебя сбросит в пропасть.
В то же время, сердце мужчины рвалось вперед. Зачем? Я этого не понимал.
– Для мести?
Может быть. Но также из предосторожности. Сейчас это была единственная свидетельница, знавшая, что темной ночью я увел куда-то Варташевского и после этого он не возвращался.
– Но она не только опасна, она еще и подла. Прощенья нет для предательниц! Пощады нет для изменницы! А Мария Диаман изменила мне, она обманывала Варташевского, она предала организацию.
Я позвонил. Ответа не было. Я снова дернул, и чудесный, мягкий голос спросил:
– Это ты, Константин?
– Это – я.
– Кто?
– Михаил Иванович.
– О Боже мой! С Константином случилось что-нибудь?
Отсюда мне вспоминается, как будто бы я слишком долго тянул ответ. Должно быть, поэтому в ее глазах мелькнула тревога. С дрожью в голосе она тихо сказала:
– Вы скрываете что-то? Произошло несчастье?
После секундного молчания:
– Почему мне так страшно с вами?..
Она растерянно оглянулась кругом, и свеча задрожала в ее маленькой руке. В эту минуту она как будто искала выхода, словно я ее завлек и захлопнул в какую-то страшную и тесную ловушку.
Я ясно ощущаю, чувствую, слышу внутреннюю борьбу, происходящую в моем сердце, во всем моем существе. Должно быть, я был похож на сумасшедшего. Путаница мыслей, странность решений, готовность на все и горестное бессилие охватили меня.
В темно-зеленом капоте, с колеблющейся свечой в руке, как потерянная, как приговоренная, она шла по черному коридору в ту самую комнату, где несколько часов тому назад сидел Варташевский.
Мария Диаман поставила свечу на стол и, смотря на меня, ловя ответ в моих глазах, еще раз спросила:
– Что случилось? Я знаю, что-то случилось… Что? Что? – повышала она молящий голос.
Но слова застревали в моем горле. Я не в силах был выговорить страшную правду. Мне не было жаль ни его, ни ее. Я был как в полусне и только понимал одно – то, что больше нельзя медлить и невозможно молчать. Но как поступить, не знал.
Вдруг она вскочила. Ее глаза расширились. В каком-то внезапном презрении она громко закричала:
– Вы убили его. Да! Да! Да!
И бросила мне в лицо бешеное, бьющее, оскорбительное слово:
– Мерзавец!
И ко мне тотчас же вернулись мои силы. Поднявшаяся злоба мгновенно затуманила мозг, сдавила горло, залила огнем мое лицо, и, легко схватив эту обезумевшую, кричавшую женщину, я швырнул ее на пол.
Она упала в ужасе. В остановившемся взгляде я прочел последний испуг. Загораживая выход, вплотную приблизившись к ней, я выхватил мой маузер и направил на нее. Но тотчас же она вскочила и цепко повисла у меня на руке:
– Не смеешь! – кричала она, очевидно, даже не понимая смысла своих слов и только защищаясь от меня, как от ужаса, как от бледного призрака неминуемой смерти.
– Не смеешь! Не имеешь права!
Голос прерывался, тяжело поднималась ее грудь, слова звучали решимостью, требовательностью и отчаянием. И вдруг, будто обессиленная, она тихо и слабо замолчала, молитвенно сложила руки на груди и просяще зашептала:
– Пощади! Не убивай меня! Вспомни, что я была твоей!
И это напоминание меня обезоружило.
Только теперь я понял, как горячо, страстно, жадно она хотела жить, как любила эту жизнь, ее сладкие, обманчивые утехи, ее тающие радости и свою молодость.
И уже не злоба и не мстительность наполнили мою душу, а смешанное чувство жалости и презрения к этой погибающей женщине бросило в это красивое лицо измятую пачку бумажек, мои последние финские тысячи, и они упали мягко и беззвучно.
Я вышел.
– Ступай!
Кирилл спросил:
– Что ты там делал?
– Ничего.
– Ну да, так я и поверил.
– Замолчи, Кирилл!
– Куда теперь?
– Куда хочешь…
– А может быть, сыграем?
Какая удачная мысль! Только бы не остаться одному!
Хотелось азарта, шума, людей. Уйти! Забыться!
– Вези!
Рысак рванул, мы мчались, летели мысли.
Я рассуждал с самим собой:
– Конечно, Мария Диаман донесет. Все ясно и неопровержимо. Труп Варташевского будет найден завтра. Может быть, уже через два, три часа, на рассвете. Убийцу не надо будет искать. Его имя известно… Не все ли равно?
Точно угадав, о чем я думаю, Кирилл медленно произнес:
– Напрасно не убил… Продаст баба.
– Пусть!
– Глупо! Не погибать же из-за этих двух негодяев… Потом пожалеешь, да поздно…
Он задержал рысака и остановился.
– Вылезай!.. Приехали.
Мы стояли у подъезда ресторана «Эрнест». Каменноостровский был пуст. Дом был темен. Только в двух окнах верхнего этажа слабо и бледно мерцал свет, затененный и завешанный тяжелыми, почти непроницаемыми драпри.
– Я подожду, – сказал Кирилл, слезая с козел. И прибавил с веселой удалью:
– Наше дело маленькое. Это вам, господам, играть. Нам, кучерам, зябнуть. Но если выиграешь, вышли бутылочку вина…
Я поднялся по лестнице по темно-малиновому ковру. Слышны были возбужденные голоса.
Кто-то крикнул:
– В банке – 47.000.
Несмотря на то, что в эту минуту я был без денег, что я хорошо это знал, какая-то невидимая, взмывающая сила безумного азарта выкрикнула во мне на весь зал:
– Banco! Крыто!
С руками, глубоко заложенными в карманы, весь – напряжение, весь – ожидание и почему-то весь – уверенность в выигрыше и победе, неподвижный, я смотрел, как крупье аккуратно, быстро и легко разбрасывал карты.
Банкомет открыл свои. У него были шестерка и двойка.
Он торжествующе, твердо и громко выговорил:
– Восемь!
Я повернул свои. Предо мной лежала дама треф и около нее девятка.
Небрежным движением руки я бросил обе карты на середину стола:
– Девять!








