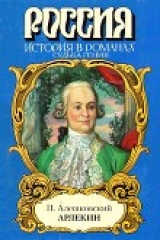
Текст книги "Арлекин. Судьба гения"
Автор книги: Петр Алешковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
2
Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик; Степана же след простыл. Исчез не только выигранный двугривенный, но и полтина денег, данная на прощание Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было и его.
– Письма!
Он с содроганием залез за пазуху, но свёрток, сильно мятый, отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись стащить, то ли он был не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колене мятый пакет: в нём заключалась вся его надежда.
– Господи! – испуганно выговорил Васька. – Как же в таком виде в академию идти?
– А, проснулся, – сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. – Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, дай, думаю, затащу под кровлю, не ровен час, ограбят.
– Да и ограбили всего, – пожаловался, чуть не плача, Васька.
– Ну, ничего, цел сам, и ладно, – наставительно произнёс нищий. – Откуда в Москву пришёл?
– Из Астрахани.
– Уй ты, – удивился собеседник, – своих где потерял?
Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко:
– Один я.
– Ага, – смекнул старик. – Богомольствуешь или так, Христа ради?
– Да нет, в академию Спасскую приехал учиться, и вот…
– Значит, так, Христа ради, знаем вашего брата, – непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. – На вот, подкрепись, школяр, да пойдём. Я со здешними конюхами хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдём, проведу тебя к академии, а там уж действуй по разумению. Москвы небось не знаешь ещё?
– Теперь знаю, – хмуро ответил Васька, жуя всухомятку варёное яйцо.
– И-хи-хи, – зашёлся нищий. – Ну, с приездом тебя, сынок, с московским крещением.
И он замотал головой, давясь от смеха.
3
Из письма Феофана Прокоповича своим бывшим коллегам в Киево-Могилянскую академию, писанного из Москвы. После 1716 года (перевод с латыни)
«…Вы очень хорошо знаете, разве кто нарочно закроет глаза, чтобы не видать истины, как мы честно и радушно обращались с Гедеоном Вишневским, когда он был профессором в нашей коллегии, несмотря на то, что он с гордостию отказался от назначенной ему кафедры поэзии и занял риторический класс, отнявши эту кафедру у назначенного на неё Иосифа Волчанского. Блаженной памяти архипастырь снисходительно посмотрел на это; по любви к миру уступили и мы этой наглости. Не неизвестно вам и то, с какою дерзостию он в наших собраниях поносил ругательствами достопочтенного отца Сильвестра, префекта коллегии, и тщеславился своим, недавно полученным, иезуитским докторским беретом, то есть ослиным украшением, и как часто мы с кроткой душой снисходили к этой его надменности. Известно всем и то, как он выбыл из нашей корпорации, когда черниговский полковник, имея преувеличенное понятие о его учёности, проламывал, как говорится, камни, чтобы добыть его в учителя риторики своему сыну; с своей стороны, и Вишневский с равным усилием стремился к предлагаемой ему должности. Знаете также, с каким сумасбродством причину выбытия своего в провинцию сложил он на нас, как будто мы выжили его, да и после того под рукою распускал об нас разныя вести. Это видел всякий, кто только нарочно не закрывал глаза».
4
Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-латинской академии готовили классы, перетрясали бельё, кололи дрова, складывая их высоченными аккуратными горками, и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Тредиаковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу келарю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор: старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, – проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нёс их на зады, к ограде, в глубокую яму. Попадавшиеся жёлуди он пересчитывал, как чётки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора.
Место для ночлега ему указали в холодном вытянутом зале, где залетевший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днём терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы. Топчаны стояли прислонённые к стенам или валялись, сползшие с них, на полу поблизости: видно, как их оставили с начала вакаций, так к ним и не прикасались. Убирать зал распоряжения не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту.
Всё время он старался думать о будущем – то, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо, но в голову лезли воспоминания, вернее даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи. Он был один, а одиночество и пустота настраивали, нашёптывали, пугали, будили память. Назойливые мысли не оставляли его и днём, нёс ли он корзину с мусором на свалку или, прогуливаясь по узеньким дорожкам сада, здоровался с незнакомыми встречными монахами. Постоянно размышлял он о своём, и никто, никто не был ему нужен тогда. С ним не заговаривали, а он с расспросами не лез, считая неудобным первым заводить беседу, сам тщился разгадать непонятную ему пока тайну академии. Он ещё и дичился, а потому больше глазел, подмечал здешний быт, считал ступени на длиннющей церковной лестнице, как жёлуди-чётки, не зная, когда и зачем сможет это ему пригодиться.
С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот – архимандрит спешил к карете и Василия попросту не заметил. Он мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей молельне – все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал повсюду, всё видел, всё знал, во всё вникал, распоряжался, грозил, приказывал, помогал советом. Ваську он полюбил с первого дня и всегда встречал и провожал тёплой улыбкой, и была она, эта улыбка, дороже многих слов. Но даже с ним не решался заговорить новоявленный школяр, да и о чём? Как? Что бы он мог спросить? Сперва это предстояло хорошенько понять самому.
Всё сложилось хорошо, неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Тредиаковский решительно вступил на двор академии, и монах-привратник отвёл его в покои префекта отца Илиодора Грембицкого.
– Как там наш Иван, не забросил ли свои вирши? – поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся с живым любопытством, как о близком, но давно не виденном человеке, и с удовольствием выслушал об Ивановом житье-бытье, даже припомнил к слову потешный стишок, сочинённый Ильинским ещё в академии. Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему всё про петушиный бой, про гулянку в роскате и про полтину, но отец Илиодор не ругал, а лишь слегка пожурил.
Василий совсем оттаял и пустился в воспоминания об Астрахани, и монах, вызнав, что было ему нужно, перевёл разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил прочитать. Василий читал по-латыни, а отец Илиодор пояснял, дополняя смысл греческими цитатами из «Одиссеи», и иногда просил Тредиаковского перевести – проверял его знания; когда же Василию случалось сбиваться, префект поправлял, но мягко, выдавая экзамен за обычную приятную беседу. Скоро Васька распалился и читал в полный уже голос, выразительно, с придыханием, как это делал астраханский патер Антоний.
Откинувшись в кресле, префект долго слушал, не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил:
– Так говоришь, пел в хоре? Это хорошо, ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи… Лишнее, лишнее.
Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток, вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис назубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и Апостола. Отличная память, школа отца Иосифа, да и отцовские наставления очень теперь пригодились.
Так прошло часа три или больше того – экзамен прервал колокол, сзывающий к трапезе. Они спустились в большую столовенную палату, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек, велев следовать за ним, повёл его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжёлой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл её и, пропуская Тредиаковского вперёд, учтиво поклонился и затворил её за ним с наружной стороны.
Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошёл в глубину, к окошку, оставив их один на один. По почёту и богатому убранству покоев Васька догадался, к кому попал.
Ректор академии архимандрит Гедеон Вишневский был уже в летах. Его тяжёлое, грузное тело прочно покоилось в глубоком жёстком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжёлые и властные, под стать всей фигуре, жгучие чёрные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Ещё с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, и затем заговорил тихо и размеренно – архимандрит страдал одышкой.
Он поинтересовался житьём у Кантемиров и сокрушённо качал головой, слушая о последних днях старого князя. В Москве мало ещё знали о его кончине – Василию предстояло разнести траурные известия.
Всем своим обликом ректор академии вызвал сперва в Ваське глубокое почтение, и он старался отвечать вдумчиво, боясь потревожить и оскорбить ненужным словом святость его сана. Каково же было ему слушать, как ректор, без видимого стеснения, со стариковским любопытством принялся вдруг выспрашивать и даже уточнять течение болезни и способы лечения, опробованные лекарями на князе Кантемире. Особенно заинтересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность, отсутствие всяческого смирения покоробили Ваську, огорчили и оскорбили излишней любознательностью – почему-то главный пастырь академии в мыслях рисовался ему иным, сродни был первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучающий его недуг. Но архимандрит словно не замечал робости сидевшего перед ним и так же неотрывно и внимательно сверлил его взглядом своих властных, жгучих глаз, привыкших наводить смятение на подчинённых. Васька вконец опешил и замолчал.
– Хорошо. Ты, кажется, родом из Астрахани? Расскажи-ка нам поподробней о тамошних латинских школах, мне доводилось о них слышать, – подбодрил он юношу.
Ректор и тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведывал об армянах и индусах, её посещающих. Про русских же пытал особо и, когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкрадчиво спросил:
– А ты не обливанец ли, случаем?
Тредиаковский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского Послания – хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания:
– Сказано же у Павла: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».
– Что же, у тебя хорошая молодая память, это похвально, но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский[14]14
Стефан Яворский (1658–1722) – русский церковный деятель, писатель. В 1700–1721 гг. – местоблюститель патриаршего престола и президент Московской духовной академии. Реформы Петра I не поддерживал. С возвышением Феофана Прокоповича (см. примеч. к с. 31) был отстранён от церковной деятельности. Главное полемическое сочинение Яворского «Камень веры» (1718) направлено против лютеранства и излагает православное вероучение.
[Закрыть], есть яко меч обоюдоостр, его же может кто употребити и на доброе и на злое, – спокойно сразил Василия ответной цитатой отец Гедеон. – Ты ещё юн, а посему тороплив, – добавил он и погрузился в молчание.
Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбраняли, а, наоборот, поощряли его учение у капуцина. И даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский – ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут неизвестно зачем, для пущей важности он приплёл, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия, и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, помянуть о наказе, данном ему Великим Петром.
Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только больше посуровел.
– Страшно, страшно попасться в тенёта лжеучителей, – непонятно, но гневно начал он. – Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу Русскую землю, пагубны, ибо столь сладки для молодых ушей. Тот же Волынский, как нам известно, притесняя Православную Церковь, много сотворил зла истинным христианам, и, как бы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, воздано бы было астраханскому управителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословия ради ссылаться на волю царя и его губернатора. Что ж Волынский, часто ли ты имел с ним беседы?
– Никогда, ему ли опускаться до бесед с простым школяром, – честно признался Василий.
– Ну-ну, – кивнул ректор. – Я славлю Творца, вовремя приведшего тебя к нам, направившего твои стопы по дороге праведной.
Тредиаковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имён Волынского и Прокоповича, и мысленно бранил себя за бахвальство. Он растерянно молчал, не понимая, чем вызван неожиданный гнев архимандрита. Тот же, поборов одышку и справившись с собой, продолжал вещать важно и спокойно.
– Учиться должно, кариссимус, – он сделал ударение на «должно», – опасно и пагубно злу учиться, дьявольской вере еретической. Католические школы в начальной стадии я никоим образом не порицаю – сам в годы оны пребывал в иезуитском коллегиуме и даже почтён был докторской степенью, кою не многие из наших церковников имеют, но твёрд остался в вере отцов наших. Взять у латинских богословов полезное и не оскоромиться – вот цель православного подготовленного, но вовремя, вовремя следует зерно отделить от плевел. Кроме малоопасного учения католического много народилось ересей, мечтающих о реформации истинного православия. От них, от них в первую голову надлежит уберечься смолоду, а посему следуй завету, поданному тебе нашим государем, – познавай истину учения Христова и спасёшься, а по окончании курса станешь полезен своей стране, ибо служить ей и её христианам – есть главная цель наша. Хорошо, что познал ты италианский и начатки древних языков, они помогут в твоих студиях, но знай – учиться следует прилежно, все силы отдавая. Помни это, кариссимус. – И наставительно добавил: – Корень учения горек, но плоды его сладки!
– Конечно, доминус, – в тон ему постарался ответить обнадеженный Василий.
– Доминусом не зови, – строго приказал ректор, но видно было – доволен, что Васька так легко попался в расставленные сети. – Придётся нам дурь, в голове твоей угнездившуюся, выбивать смирением, больно ты остёр на язык, как я погляжу. – Он опять ударил «смирением», словно бы Василий не расслышал, что отец Гедеон считает первее всего в школьной жизни.
Архимандрит поднялся с кресла.
– Сходи в дом к Головкиным, снеси письма, как тебе велено, да возвращайся: станешь учиться в риторике – фару, инфиму и грамматику ты уже заочно познал, – провозгласил он торжественно и вышел из-за стола.
Васька понял, что от него требуется, подошёл к руке. Ректор перекрестил, благословляя, и Тредиаковский, смиренно склонив голову, поцеловал холодный серебряный крест.
Радостный, до конца ещё не осознавший удачи, свалившейся на голову, Васька пронёсся по широкому крыльцу архимандричьих палат и вылетел на улицу, в Белый город к головкинскому подворью. Он был принят, не пропал в суетной и опасной Москве, и потеря полтины не казалась уже невосполнимым несчастьем, а воспринималась как дань удаче.
Управитель большим головкинским хозяйством, к которому Ильинский послал с депешей о смерти князя Кантемира, оказался человеком совсем не строгим и не страшным, как выглядел с первого взгляда – издалека от калитки. Он выступал в окружении многочисленной челяди – что-то объяснял, когда заметил гостя. Васька смешался тогда и, пробурчав под нос приветствие, протянул письмо. По расчёту Ивана, Коробов, старый его московский знакомец, должен был пустить Тредиаковского ночевать и пристроить к работе, коль вдруг не удалось бы поступить в учёбу. Поэтому, проглядев послание, управитель начал расспрашивать, что Васька собирается делать дальше, но, уяснив, что тот уже зачислен на академический кошт, похлопал снисходительно по плечу и, отметив сияющее лицо юноши, сказал с улыбкой:
– Студиозус, значит. А жаль, тут бы тебе дело нашлось. Ну да ладно, приходи, однако, как постные щи приедятся, дам тебе переписывать работу – секретарь Кантемиров твой почерк хвалил.
Но просто не отпустил, повёл в горницу, велел накормить и выведывал: про Ивана и особенно про старого князя. Видно, в Москве все были охотники до сплетен. Когда же Васька поел, управляющий сам проводил его до двери и ещё раз вздохнул напоследок о смерти князя Дмитрия, словно знал его лично. Потом только отпустил с миром.
«…Добро не ангел, зло не дьявол, а есть простое понимание человеком их сути», – говаривал покойный князь Дмитрий, отрываясь от работы и глядя куда-то поверх Васькиной головы, будто разучивал рисунок на штофных обоях. Василий часто теперь вспоминал время, проведённое у Кантемиров.
Старый князь любил рассуждать вслух. Когда же боли стали всё сильней досаждать ему, он часто прекращал диктовать и переключался с привычного хода мыслей на какие-то побочные, словно вдруг возникшие в голове. Грешно говорить, но Васька полюбил такие остановки. Князь клал тогда руки на подлокотники, обитые мягким войлоком и тонкой коричневой кожей поверх, или сцеплял их на груди, немного откидывался назад и думал, смотрел вперёд себя, иногда проносящимся взором лаская Василия, иногда же надолго смыкал глаза, но никогда не засыпал и так же неожиданно, как начинал, кончал рассуждение. Затем своим обычным, слегка нерусским выговором спрашивал, на чём он кончил диктовать. В такие минуты Василию становилось тепло, словно он, а не старый князь, был укрыт тёплым верблюжьим одеялом. Глаза увядающего полны были света и знали, казалось, что-то такое, чего даже язык был не в силах произнести. Они напоминали глаза деда, так же вызывали сострадание и возникавшей в эти мгновения таинственной связью особенно роднили с добрым его господином. Так сидели они в тишине, и Кантемир нарушал её, размышляя вслух, и замолкал, и снова говорил. Васька внимал молча, боясь потревожить мысли князя скрипением своего рассохшегося стула: он застывал на нём, недвижимый, как статуя в парке. Ноги часто немели, и после, уже во время диктовки, он сжимал и разжимал пальцы, гоняя по икрам приятные почему-то колючие иголки.
Так спокойно, так радостно ему бывало только вдвоём со старым князем. Иван редко тогда работал с Кантемиром, переложив свои обязанности на плечи Тредиаковского, – он был занят какими-то особо важными делами, подолгу запирался в отдельном кабинете.
Васька поджидал каждого утра с замиранием сердца. Но по вечерам, когда удавалось всем собраться в гостиной, тоже было хорошо, всем было весело и приятно: сперва обычно читали вслух «Илиаду», а затем Иван играл на флейте, или княжна Марья пела духовные канты, или молодой князь Антиох, заразительно смеясь, рассказывал разные истории из своей великосветской московской жизни. Васька прятался в уголке, наблюдал; из другого угла на присутствующих смотрели благодарные очи несостоявшегося государя Молдавии и Валахии. Но таких вечеров становилось всё меньше и меньше.
В бездельные дни в академии размеренная жизнь в Дмитриевском постоянно всплывала в памяти. Не только образ князя, но и Иван вставал перед глазами, особенно в полусумраке перед сном. Ильинский, улучив свободное время, обычно посередине дня, когда князь почивал, любил пройтись со своим подопечным по пустынному парку усадьбы. Прогулки эти совершались по велению души – он любил смышлёного переписчика, и пестовал, и наставлял к новой жизни несмелого пока и застенчивого астраханского поповича. Стволы тополей главной аллеи были ещё молоды, и они забирались в глубину, в лес, рассечённый прямыми тропинками, и там, в тёмной прохладе, вели беседы, ступая по мягкому, запорошенному сухой пожелтевшей сосновой иголкой белому песку. Иногда они прятались в беседке у пруда, где свежий ветер от воды и тень спасали от летнего зноя, а блики солнца на свежеоструганном дереве, гудение насекомых и шелест высокой прибрежной травы не мешали, а, наоборот, настраивали на отдохновение; и Иван говорил, говорил, а Васька больше слушал и восхищался – он обожал, боготворил дарованного судьбой чудесного старшего друга.
Он просил, и Ильинский рассказывал ему о Петре.
– Я верю в разум, он победит, – восклицал Иван и славил императора и иже с ним, восставших против ветхих российских устоев. Опять и опять в его речах возникал образ Прокоповича, отважившегося вступить в борьбу с самым опасным и самым сильным противником реформ – православным духовенством.
– Они не принимают новой жизни и оттого яростно сопротивляются: клеймя Феофана Прокоповича как главного глашатая, главного певца нововведений, обвиняют в еретичестве, в протестантизме, в неверии и Бог ещё знает в каких грехах, мечтают о восстановлении патриаршества. Они при этом уверены, что пекутся о благе Отчизны, но их попечительство пагубно, ведь нельзя повернуть время вспять. Некоторые их сторонники и теперь поучают в академии, но тебе они не принесут вреда, ведь ты будешь простым школяром.
Теперь, обдумывая в одиночестве наставления Ильинского, Василий, казалось, понимал причину ректорова гнева, но он боялся судить об отце Гедеоне прямо, не хотел ошибиться, да и, честно сказать, не совсем понимал суть раздоров. Наверное, со временем всё прояснится, теперь же чем больше он размышлял, тем только больше запутывался в своих домыслах. И гнал их прочь, полагаясь на будущее, на судьбу.
Много приятней было думать об Иване, о том, как он читал ему на прогулках стихи. О! Как же полюбил он их совместные уединения! Но под конец свободного времени стало оставаться всё меньше и меньше. Князь требовал работы, работы, работы, и днём, и по вечерам – он торопился жить, а умер в одночасье.
Васька вспоминал гроб и похороны – в снах они его, кажется, не мучали, или он всё успевал позабыть к тому моменту, как открывал глаза. Виделись ему отчётливо чёрная тафта на барабанах, гулкие их звуки и опущенные по немецкому обычаю дулами вниз ружья солдат из караула, ружья, перевитые траурными лентами. Бледный Ильинский вёл, придерживая под руки, княжну Марью по песчаной дорожке парка к новой ещё, красного кирпича семейной усыпальнице. Отворенная решётка открывала доступ к склепу – последнему пристанищу его первого посетителя и устроителя. И много людей вокруг: зелёное и красное сукно с потёртыми серебряными галунами на длиннополых кафтанах, и, словно пена в вырезах камзолов, накрахмаленные белые шейные галстуки, уже выходящие из моды у молодых московских щёголей, и серая крепкая крестьянская ткань. Но воспоминания, приди они вечером, пугали бы, а утренние, дремотно-сладкие, только умиляли. И пустой зал не казался мрачным, а козлы уродливыми и противными.
Со всех сторон, со всех сторон окружили его добром и заботой, а он пока только готовился всем дающим воздать за это добро хорошим учением – тем немногим и желанным, что от него требовали взамен. И по утрам все вечерние страхи казались мнимыми, и он тепло вспоминал добрую улыбку отца Илиодора и пастырские наставления ректора – они научат, они станут теперь заботиться о нём. Иван зря предостерегал, он просто беспокоился о Василии, любил его. И он мечтал, мечтал приступить скорей к учению, доказать своё рвение, непоколебимость в вере, усердность в выслушивании всеведущих наставников, призванных помочь ему в постижении премудрости, заложенной в древних книгах. Он спешил окунуться в мир звуков чёткой и строгой латыни, певучего греческого и прекрасной, сильной своими медленно рокочущими согласными славянской поэзии, которую он по-новому услыхал, познал и ещё больше полюбил на пустынных и прохладных тропинках кантемировского парка. Политики же он решил сторониться – тем более что область эта была опасная и для него совершенно неведомая и чуждая. Он верил в Петра, в одного Петра, и этого казалось предостаточно.







