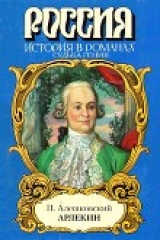
Текст книги "Арлекин. Судьба гения"
Автор книги: Петр Алешковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
14
Ждать Тредиаковскому пришлось долго: неожиданно грозный император встал между ним и префектом. Встал не сам, а тень его, и был в ней перст судьбы.
Двадцать восьмого января одна тысяча семьсот двадцать пятого года скончался император Пётр Первый. Великая и печальная новость с колокольным гулом облетела всю Россию с легконогой курьерской скоростью, словно неслась на крылатых колесницах. И пошли гулять отголоски: запричитали кликуши на папертях, застонала толпа, молчаливо уважавшая, трепетавшая от одного его имени при жизни и вмиг осиротевшая, с полубезумными стеклянными глазами слушающая траурные молебны. И сразу покатились слухи – кто взойдёт на престол: императрица ли, её цесарево величество, или дочь, или внук? Гадалки собирали обильную прибыль. Восстали огнепальные духом раскольники: подговаривали целования крестного женщине не принимать. Прикатил из Петербурга генерал Дмитриев-Момонов, а за ним вслед стылым февральским утром промчались по улицам верхами снятые с вечных подмосковных квартир три с половиной сотни конных драгун, а пешие – тысяча, что должна была отойти под Нарву, – призадержались до поры до времени в Первопрестольной: генерал опасался выступлений.
Но их не было, как и не было тишины. Был плач, истеричный русский плач до крика, исступлённый, многослёзный, и толпы грозили затолкать и затоптать, и, случалось, затаптывали слабосильных, облепивших московские церкви, где шли заупокойные, совершавшиеся по самому долгому и полному величия и скорби чину, завезённому на Русь из давно пленённого турками второго Рима – падшего неверием Аполлинариевой ереси неблагочестивого Константинополиса.
Академия стояла в московском предсердии, в двух шагах от Кремля[16]16
Академия стояла в московском предсердии, в двух шагах от Кремля… – Славяно-греко-латинская академия находилась в Заиконоспасском монастыре в Москве, в Китай-городе.
[Закрыть], а значит, её не миновал налетевший с балтийских берегов шквал печали. Отец Гедеон собрал их на монастырском дворе, говорил заупокойную речь, но слова не долетали до потрясённого сознания, не успокаивали, а пугали грядущей неизвестностью. Следом за объявлением потянулась вереница бесконечных печальных дней: творили нескончаемые молитвы в помин души, задыхаясь от дыма кадильниц, пряного ладана и духоты, и хотелось бежать на свежий воздух, бежать от однообразного бормотания дьяконов в животрепещущий город, на улицы, и жадно ловить слухи: как? что? кто?
Наконец свершилось: целовали крест самодержавной императрице Екатерине Алексеевне[17]17
…целовали крест самодержавной императрице Екатерине Алексеевне… – Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684–1727), российская императрица с 1725 г.
[Закрыть], и постепенно, постепенно оседала в душе нервная горячка – первый порыв скорби и официальных церемоний уходил в небытие.
Малиновский после присяги стал мрачнее тучи: на престол взошла законная супруга, коварная немка, а не дочь от первого брака, и не сбылись давно лелеемые надежды, опять выходило немцам царствовать на Руси, и снова, а точнее по-прежнему, волкохищный Феофан Прокопович, ненавидевший Москву и её священнослужителей, заправлял в Синоде – продавшийся дьяволу лютеранин, богомерзкий поэт и неистовый проповедник, и его «Слово на погребение», незамедлительно доставленное во все уголки России, волей-неволей пришлось зачесть перед юношами, и оно запало им в души – префект видел, как тяжело дышали школяры, как блестели их глаза, когда неслись над замершими шеренгами громкозвучные слова новгородского архиепископа. Как в песок вода, утекала надежда на восстановление былых церковных устоев, исконных, российских, а не военных, барабанно-шутовских, лживых. Слово грозило карой ревнителям прошлого благочестия, прочно утверждало заведённые порядки, страстным призывом завлекало всё новые и новые заблудшие души. О! что ни говори, оратор Прокопович был могучий – тем опаснее звучали его прежние наговоры Петру и зазвучат теперь новой государыне, тем и страшен был поэт, влияющий своим неравнодушным, но в корне неверным, губительным голосом на судьбы страны, проповедующий новины в кощунственных выступлениях перед паствой.
Неисповедимы пути Господни, но за что, за что караешь так сурово? – вопрошал небеса префект. Что хочешь сделать ты с Русью, пронёсшей сквозь века истинную веру и теперь всё более и более поддающейся учению лютеран?
Велик был государь, создавший небывалую дотоле империю: могучую, сильную, крепкую, но страшное совершил он зло, лишив Церковь исконного главы-патриарха, углядел в нём не помощника, а соперника. Тут он поддался наговорам с детства окружавших его немцев, и теперь, когда нет больше его грозной власти, держащей всё в своём кулаке, страна обречена на гибель, на растерзание, ибо изменила заветам, лишена духовного своего руководителя.
Отец Платон готов был на любую жертву, даже на союз с иезуитами, лишь бы оградить души православных от вседозволяющей немецкой ереси. И мнилась ему Церковь воинствующая, грозная, необоримая, огнём и мечом и новым словом карающая отступников, но то были мечты, мечты – на улице наступала весна, падали ледяные слёзы бессилия, вызванные обжигающим дыханием надвигающихся испытаний. Префект стал неукротимо строг – лишь дисциплина и подчинение могли оградить стены академии от всепроникающего, язвящего душу времени.
Отец Платон почуял правильно: в числе прочих, внимающих загробному величанию Феофана Прокоповича, был и Тредиаковский, и как всех пронзила юношу его сила – вселила уверенность, приободрила, обнадёжила. «Что се есть? до чего мы дожили, о Россияне! что видим? что делаем? Петра Великого погребаем!»
Кратка была речь, но точно, как стрелы в цель, падали накалённые пылом слова. И нельзя было удержать слёз, вместе с заполошно стучащим сердцем рвались они вон, к отсутствующему на монастырском дворе оратору, к его крепким и печально-мудрым словам-заветам. Что-то важное свершилось в его душе, и так не хватало теперь рядом Ивана Ильинского – лишь он один смог бы окончательно поставить всё на место. Академическая муштра вмиг стала тяготить, сковывала просыпающееся чувство воли.
От окружающего мира спасали библиотека и Тит – за столом обреталась неведомая ранее свобода, и он писал, писал, но драма не клеилась, потому что Василий спешил, мечтая справиться в одиночку, боялся снова попасть в кабалу к Малиновскому.
А тот весь долгий февраль не обращал на Тредиаковского никакого внимания, казалось, позабыл о его существовании – видимо, кончина государя затмила все помыслы префекта. Лишь в самом конце марта появился он в библиотеке и, подсев к Василию, принялся разбирать новую пьесу. И снова опытный глаз сразу же узрел главную ошибку. Ритор приказал возвысить мудрого правителя, отмёл листы излишних пояснений, показал, как добиться схожести римлянина с великим, почившим в бозе императором. Правление умеренного Тита, собравшего погрязший в суевериях и раздорах Рим в один кулак, а не громогласные победы необходимо было выпятить в повествовании, боевую славу оставив лишь как бряцающий фанфарами фон. Ведь Пётр лепил страну не ради войны, но ради мира, хотя войны и прославили его имя на века, возвеличили и укрепили Россию.
Васька урок усвоил. И снова трудился над драмой, но теперь великая и ужасная тень стояла за спиной – везде таились оплошности, действительные и мнимые, каждое слово надлежало проверять, дабы не приобрело двойной смысл.
Скончался март, побежал апрель. Холода отступили, и весеннее солнце вселило уверенность в скором наступлении очередного лета. По-прежнему отец Платон наказывал розгами, а Родьку, видно решив сломить вконец, отдавал экзекуторам чаще других. Шило долго крепился, но, когда ушла прочь морозная зима, решился на побег. Он подбивал целую группу недовольных, замученных придирками и побоями Василиска: хотел напоследок досадить начальству, увести за собой многих. В их число входил и Алёшка Монокулюс. Во-первых, он плохо учился, во-вторых, легко поддавался уговорам, в-третьих, был непоседлив и склонен к переменам.
– Два года я не вынесу, это точно, я здесь сдохну, – жаловался он Ваське, а тот, как ни была ему и самому противна академия, старался отговорить: стращал, убеждал подумать о будущем. Ведь беглецы не знали даже, что с ними станется потом, после побега, они хотели свободы, но, как был уверен Васька, обрекали себя на погибель.
– Перетерпи, перетерпи, – молил Тредиаковский друга. Но тот, кажется, решился окончательно.
И момент настал. Видно, подслушали о побеге фискалы, но они не знали точно ни сроков, ни количества заговорщиков. Они донесли префекту, и Малиновский, подловив Ваську наедине, сказал, что знает, что он знает и переживает за несчастных, собравшихся покинуть кров.
Почему Василий рассказал ему? Потому ли, что отец Платон назвал Родьку как зачинщика и всё равно не сбежать ему было? Хотел ли он его защитить? Если б хотел, дал бы уйти, промолчал. Или пожалел Алёшку? Он и сам не знал почему. Рассказал всё как есть, предал, иными словами, как бы ни убеждал себя в правильности поступка, как бы ни просил не казнить жестоко, как бы ни надеялся вымолить прощение, как бы ни обещал отец Платон быть снисходительным.
Как бы то ни было – предал.
И, что самое страшное, никто тогда не узнал о предательстве.
Последствия были ужасны. Беглецов схватили, посадили в тёмный чулан. Допрашивали их по одному префект и сам ректор. Высекли всех, а затем унесли в спальную палату и лишь одного, Родьку, зачинщика и бунтаря, прогнали прочь. Исключили. Публично осмеяли. Прокляли. И всей академией молились ввечеру, испрашивая прощения за его грехи.
– Ну, гад, знал бы, кто сказал, убил бы, ей-богу, убил, – скулил ночью Монокулюс, а Василий заботливо менял ему примочки и страдал больше преданного им друга.
Он направился было в покои к префекту, собираясь требовать ответа, сгорая от стыда и ненависти. Но остановился на полпути: был жалок и сам себе смешон и отвратителен. Вынести нравоучение или издевательство отца Платона он был не в силах.
И тогда Василий отважился не замечать Василиска, перестал здороваться, отводил глаза в сторону при встречах, забросил библиотеку, стал играть в свайку и, как ни уговаривал его Васята Адодуров принять участие в разучивании им же написанной драмы, твёрдо решил отстраниться от всего, чем заправлял ненавистный префект.
Малиновский заметил его строптивое поведение, попытался было увещевать, но Тредиаковский – неслыханная наглость! – молча всё выслушал и, не сказав ни слова, удалился. Теперь он не верил ни одному слову наставника.
Неповиновение должно было быть наказано, и Васька ждал, но учитель, вопреки ожиданиям, не казнил, а драму о Тите начал разучивать со школярами, как бы подчёркивая даруемое прощение. И Василий испугался, что выдаст себя, и пришёл, но роли были розданы, он получил самую незначительную, самую маленькую, бессловесную. Тита играл Адодуров.
Получилось так, что он снова продался.
Отца Платона не мог видеть. Не мог слышать его голос, но был вынужден улыбаться и внимать. Такова была расплата. Но она оказалась ничтожной по сравнению с тем, что ещё предстояло пережить.
15
Слух распространился мгновенно. Василий заметил, как его стали обходить стороной, перестали здороваться. А когда вечером в спальне за ним захлопнули дверь, наложив запор изнутри, понял, что пришла настоящая расплата.
«Неужели сам префект?» – подумал он, отступая в угол, куда теснили напирающие суровые лица однокашников.
– Ребята, я не верю, – раздался голос Монокулюса, но никто Алёшку не слушал.
Он молчал, затем начал оправдываться – мелочно, гаденько – вина давила, и мучители-мстители ещё больше убеждались в своей правоте.
Не было ответа на их вопрос: «Зачем?»
– Мы знаем, знаем, сам Василиск сознался, оговорился случайно, – кричали они, выталкивая вперёд сжавшегося в комочек фискала Ромку Яковлева…
– Не плачь, я всё равно не верю, – шепнул ему ночью Алёшка.
Васька только отвернулся к стенке и сжал зубами подушку. Вот так же было обидно в детстве, когда отец наказал за краденый виноград. Но только он был невиновен, а сегодня…
Утром отец Платон заметил синяк под глазом и приказал сечь его за драку до тех пор, пока не выдаст участников, – драки в академии запрещались. «С кем дрался?» – вопрошал экзекутор, но Василий молчал, искупляя свой и его грехи одновременно.
Розги принесли облегчение. Но розги убедили ребят в его невиновности и многому научили. Он стал спокоен, тих, неприметен и продолжал отлично учиться. Разговаривал теперь только с Васяткой и Алёшкой – эти были проверенные друзья. Остальных избегал.
Он ждал лета и понял, что в академию не ступит больше ни ногой, проклял себя, что не сбежал сразу, но потом успокоился, убедился, что не трусость, а гордость заставила его окончить год и поспешить к Коробову. Только Прохор Матвеевич один во всей Москве мог дать работу где-нибудь подальше, мог пристроить так, чтобы никогда не видеть этих ненавистных стен.
Он их увидел, пришёл в сентябре назад. То, что он замыслил, было выше самих помыслов. Следовало смириться и ждать.
Розги префекта Малиновского приучили к терпению.
16
Он работал у Коробова, но к решающему разговору не приступал. Оттягивал, поджидал удачливый день, тем более что торопиться теперь было некуда. Сибилев по Васькиной просьбе пристроил Адодурова и Монокулюса в переписчики к купцу из Замоскворечья, и, малозанятые, работавшие лишь полдня за харчи и ночлег, в послеобеденные часы они неизменно появлялись на головкинском подворье. Трёх друзей объединило новое общее увлечение – Васька читал им вслух «Аргениду», героическую повесть, сочинённую знаменитым шотландским мыслителем и поэтом Иоганном Барклаем. Книгу эту он ещё в прошлом году подметил в графской библиотеке, и нынешний интерес к ней был не случаен. Неоднократно на уроках Василиск поносил Барклаев «Сатирикон» как творение, возносящее хулу не только на отцов иезуитов, но и на всю Церковь вообще. Запретность крамольного автора и ненависть к Малиновскому лишь острее разожгли любопытство Василия к творениям скончавшегося в прошлом столетии шотландского сочинителя. Но, вопреки ожиданиям, «Аргенида» оказалась не ехидной сатирой, а могучей эпической поэмой, начертанной мерной и отточенной латинской прозой.
Глаз, привыкший к ритмическому струению виршей, к чёткой симметрии тактов канта, впервые оценил достоинство неспешного рассказа, с первых же аккордов тысячестраничного фолианта Тредиаковский очутился в его сладком плену и, поспешив поделиться своим открытием с друзьями, решил ежедневно читать повесть вслух. Так родились их совместные вечерние бдения. Верх мастерства, верх искусства поэтического являла сия плавнотекущая история о великой любви и верности царевича Полиарха и царевны Аргениды. Столь досконально продуманное, столь красивым и пышноречивым языком расцвеченное нескончаемое повествование, которое французы называли романом, переполняли нескоро поддающиеся разгадке тайны и неожиданности – не было сил оторваться от листа, не было сил захлопнуть доску обложки. Васята, Алёшка и совращённый ими Филипп внимали взволнованному голосу сказителя, вместе с ним переживая поразительные злоключения героя. Книга казалась бесконечной, как застывшее в моменты чтения время; Полиарх и Аргенида и в середине увесистого тома ни на йоту не продвинулись к единению, они лишь рвались друг к другу, словно стояли по разные стороны разбушевавшейся реки и тянули с мольбой руки, а бурный поток событий, направляемый хладнокровным замыслом автора, всякий раз пресекал порывы их мечтаний, ледяными брызгами насылаемых испытаний остужал их пылкие души, поворачивал колесо Фортуны, направляя верного царевича на путь новых, ещё более опасных и увлекательных скитаний. Стремительно, с неимоверной быстротой разворачивались события в книге, но в то же время, вот чудо, одна история наслаивалась на другую, за ней следовали вторая и третья – течение романа уподоблялось течению могучей реки, которая задолго перед впадением начинает дробиться, отстреливая от общего ствола густоветвенные, переплетающиеся русла, втягивающиеся лишь через сотни вёрст в общий, кажущийся безбрежным поток. Но как и река не оканчивает бег свой, продолжая спешить неведомо куда в подводных глубинах океана-моря, так и ниточка главного действия в «Аргениде», ни на миг не прерываясь, продвигалась, сворачивала попутно в сторону, в сторону и, по кругу возвращаясь назад, размывала по всем канонам риторики хитросплетённую пятиактную драму, с завязыванием узлов и развязыванием сюжета, и медленная быстрота или быстрая медлительность авторской речи служила высшей задаче – попытке, всегда и у всех тщетной, разгадать и выявить тайну времени, тайну блуждания в его лабиринтах человеческих судеб. Здесь были собраны все известные уловки эпического мастера: таинственные похищения, переодевания, путешествия, битвы, схватки, поединки, победы над тиранами и узурпаторами-престолодержцами, служение идеалу – прекрасной царице, и посему, когда подошли к концу, все радостно и облегчённо вздохнули, довольные и ублажённые торжеством добра, свершившимся браком героев, но расставаться с ними было жалко – так привыкли к ним слушающие историю их необычайной жизни, кратковременной по человеческим меркам, уложившейся в целых два месяца напряжённого сопереживания, – и в результате всем хотелось вновь погрузиться в странствие по книге – увлекательной, даже затягивающей, и великой, возвышающей души, как «Одиссея» слепого Гомера, «Энеида» Вергилия или «Фиваида» пышнословного Стация.
Прохор Матвеевич в непонятных ему «ляшских чтениях» участия не принимал, но в библиотеку заглядывал часто, словно проверял, не прискучило ли друзьям-единомышленникам их занятие, и, послушав с минуту-другую и поглядев пытливо на главенствующего тут Тредиаковского, успокоенный уходил – вечерние собрания не грозили нарушить заведённый в доме порядок, скорее наоборот, превратились в его сознании в подобие некоего ритуала. Не одобряя предмет, управляющий смирился, ибо благословлял привычное и торжественное чтение вслух. К чтецу – Тредиаковскому – даже стал относиться почтительнее. Василий уловил перемену и совсем было решился открыться и просить у Коробова помощи, как неожиданно приехал из Петербурга Иван Ильинский и всё изменил.
Иван умел бывать всяким: и покладистым, и мягким, и излишне деликатным, но тут, налетев как ветер – жизнерадостный, свежий, петербургский, своим душевным напором, решительностью, яростным темпераментом и подвижными огненными глазами сразу задал компании настрой, взорвал её, как праздничная петарда притихшее ночное небо, расшевелил, воспламенил, вырвал из пут одиночества, порождённого окончанием «Аргениды».
Говорил он, как всегда, сознавая свою силу, но был прост, не рисовался, не поучал и, оскалив зубы, заразительно смеялся, чудил, покорил не знавших его открытым обаянием, и вот Адодуров и – о диво! – даже Монокулюс разговорились, включились в общие рассуждения.
Уже год как служил Ильинский переводчиком в Академии наук, и только прямое поручение президента Блюментроста заставило его оторваться от новой и, как он считал, полезной для России работы. Но Иван был рад поездке, сам в неё напросился – давно хотелось лицезреть стародавних московских друзей и родную Первопрестольную – богомольно-колокольно-крамольную, оскорблённую на приклёпанный сваями к болотам быстро растущий Петербург.
Вечерами стало не до чтения – ещё по привычке пообсуждали с вновь приехавшим «Аргениду», но так как на её счёт мнения у всех были одинаковы, то больше шутили и пели, сдвигая кубки, протяжную «Всегда есть в свете Фортуна пременна». Враз, словно повернулась к ним судьба благосклонным боком, друзьям стало весело и хорошо: они беспрерывно смеялись, на разные лады величая воцарившегося за столом Ильинского. Обычно под конец вечеринки Василий принимался потешать их коротенькими сценками – вставал посредине комнаты и исполнял школярскую песенку вроде всем полюбившейся «За что, Купида, стрелами стреляешь?» Он пел с такой искренней весёлостью, с таким задорным лукавством и ловкостью подчёркивал комизм мелодии ужимками, щелчками языка и резкой сменой дикции, становился вдруг в такую смешную позу любовника растерянного или отчаявшегося, подтверждая движениями рук движения смущённой души, что заставлял хохотать всю компанию, и припев не пели, а выкрикивали с надсадным стоном и слезами и долго дышали после, махая руками – как бы загребая ими ускользающий воздух.
Коробов с нескрываемым удовольствием посещал их «богохульственные куртаги» и тянул во всё горло старую московскую:
Пейте, братцы, попейте,
А на землю не лейте!
Друг друга возлюбите,
Лукаво же не творите!
С приездом Ивана слетели с него остатки чинности.
И шатались свечные тени по стенам, и Ильинский рассказывал петербургские сплетни без опаски – все здесь были свои, все любили друг друга, лукавства же не творили.
Бурно приветствовал Иван поэтические успехи Тредиаковского и, прочитав обе драмы, остался ими доволен. Узнав же Василиевы опасения по поводу странной привязанности к нему Малиновского, ничуть не удивился.
– Отец Платон – политик, ты правильно сторонишься его. Он и ему подобные цепляются за способных учеников, пытаются одурманить их красивыми словами, перетянуть на свою сторону. После смерти великого монарха они вновь воспрянули духом и плетут нити нового заговора, но их карта бита. В Москве по старинке ещё имеют они прежний вес, но российские судьбы решаются теперь на берегах Невы.
И Иван рисовал перед ними светлое царство знаний, которое начнёт насаждать в России Академия наук под эгидой просвещённых профессоров, лучших знатоков своего дела, выписанных из европейских университетов.
– Наука и разум решат всё, изменят всё к лучшему, продолжат начатое Петром, дайте только срок! – Иван кипятился, теребил по обыкновению обшлага старого кафтана. – Только наука и разум. У вас в Москве всё умерло. Кроме богословия и риторики, которые признают заиконоспасские учителя, существуют ещё и физика, и геометрия, и натуральная история, и близок день, когда они преобразят отсталую в науках Россию, сравняют её в знаниях со всем передовым миром. Следует учиться обогащать себя новейшими достижениями, а не корпеть над одними только теологическими трактатами. Конечно, они ухватились за талант Тредиаковского, им он необходим именно сейчас, когда все здравомыслящие бегут от них, как от зловредной чумы. Нет, не архимандриту Вишневскому и Платону Малиновскому, помешавшимся на восстановлении патриаршества, Аристотеле и Симеоне Полоцком, суждено вести страну вперёд. Спросите у них, что такое страус, и с уверенностью, им свойственной, ничтоже сумняшеся процитируют вам то место у Плиния, где римский историк высказывает чудовищное на сегодняшний взгляд утверждение, что редкая птица – результат любви жирафа и африканского комара. Знания они черпают из освящённых древними устоями книг, но никогда не понять им, что время не замерло на месте, что натуральная история потому так и названа, что более всего походит на историю человечества, нежели на физику например, – ведь прошлое с его просчётами и ошибками, разного рода случайностями (благоприятными и неблагоприятными) во многом определяет настоящее. Во многом, но не во всём, ибо верх природы – человек, призванный при помощи разума и опытов познать законы божественного творения. Новый человек, а не принимающие на веру рассуждения давно ушедших в небытие философов древности. О! Я нисколько не отрицаю их заслуг, но ведь пора, пора трезвее глядеть на вещи, а не замыкаться в дебрях одной лишь схоластики!
Рассказывая, какие интриги замышляют московские церковники против Прокоповича, стремясь погубить осенённые его разумом добрые начинания, Иван весь дрожал от гнева. Не раз возвращался он к этой больной теме, и даже Коробов, кажется, что-то уяснил себе и начал потихоньку соглашаться, переубеждённый страстными проповедями-монологами вспыльчивого Ильинского.
Раз приехал Иван, то вмиг всё и решилось. Не зря, оказалось, приглядывался Коробов к Ваське – граф Головкин наказал в письме подыскать ему в Гаагу на секретарскую должность молодого, способного к языкам человека. Сватом выступил Ильинский, и Прохор Матвеевич тут же дал своё согласие. Иван бросился убеждать Тредиаковского, не замечая, что понапрасну тратит время, – Василий готов был ехать хоть в адское пекло, лишь бы удрать из Москвы. Но не таков был Ильинский – его сложно было остановить: он говорил и говорил – о Голландии, стране, почитаемой покойным Петром Великим, о Париже – столице знаний, манер, поэтов – и откровенно завидовал своему подопечному, ему самому не довелось побывать дальше Франкфурта, где он недолго учился в университете. Он рассказывал и о немцах, обожающих музыку, о песнопениях-концертах, о мессе, звучной и чрезвычайно пылкой, сулил многочисленные поездки по свету с дипломатической миссией: «Жизнь у тебя станет райская. Выучишь языки, поглядишь Европу, а там, может, вернёшься в академию переводчиком. Только книги откроют глаза России, прекрасные новые книги!»
И снова жизнь, как вот-вот готовая лопнуть почка, была молода, свежа, и чувствовал Василий себя счастливцем, и мысленно пред взором вставала таинственная Голландия, Голландия, знакомая и неведомая с детства. Что было ему теперь до заманчивых посулов Малиновского!
Но человек был нужен только с весны следующего, двадцать шестого года, а посему решили графу отписать, а Ваське пока учиться дальше, затаиться и не подавать виду.
Он и не подозревал, что ректор и префект не забыли талантливого ученика и по-своему собрались устроить его грядущую судьбу.







