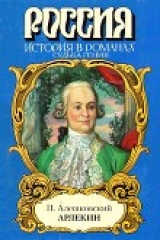
Текст книги "Арлекин. Судьба гения"
Автор книги: Петр Алешковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Наливай, Васька, – приказал Артемий Петрович ординарцу и подвинулся поближе.
Лицо мичмана, ранее такое надменное и наглое, теперь посерело от страха и вызывало только отвращение.
– Ну что, шут гороховый, прокатился на лошадке? – Сам не замечая, он сорвался в крик: – А? Авось теперь-то язык научишься попридерживать! Отвечай!
Арестованный с трудом разжал губы:
– Так точно, ваше превосходительство!
Простой ответ его не удовлетворил, показался подозрительно дерзким, но униженность позы вызвала острую брезгливость – он решил не срываться.
– А ты, я вижу, замёрз! Так разгорячите его! Пусть пьёт моё здоровье!
Желая проделать с ним известную шутку, Артемий Петрович метил не только унизить, но и обпоить, обогреть проклятого глумливца, а то, не ровен час, загнётся.
Кубанец с поклоном поднёс Мещёрскому здоровенный рог, в который влили большой штоф перцовой водки, и произнёс угодливо:
– Извольте, князь, отведать!
Штык-юнкеры хихикнули с деланной завистью: мало кому под силу было проглотить такое количество огневого напитка. Мещёрский принял рог и, не сказав ни слова, покорно принялся пить. Руки его дрожали, водка протекла за воротник рубахи. Он только начал отклоняться назад, но подвели намученные гирями ноги, и мичман, не сдержав равновесия, рухнул на спину. Рог выскочил из рук, водка, сразу распространив отвратительный запах по всей комнате, пролилась на пол.
– Я, я, – стал оправдываться Мещёрский, – стоять не могу, ваше превосходительство.
Он заспешил, пытаясь взгромоздиться на колени, но трясущиеся, натруженные гирями ноги разъезжались по мокрому паркету.
Тут Волынский не выдержал – нет, не суждено было этому дню закончиться хорошо.
– Врёшь! Нарочно разлил! Значит, мало ещё поостыл, горячительное не приемлешь? – закричал не своим, высоким голосом. Войдя в раж, он затопал ногами, свалил стул и зашиб ногу, отчего только больше распалился. – Мало тебе, так погоди же!
Штык-юнкеры замерли как истуканы, боялись даже бровью повести; Мещёрский же, наоборот, растянулся во всю длину на полу: не в силах пошевелиться, мичман покорился судьбе, и только красные, обветренные глаза пристально глядели на разбушевавшегося генерал-губернатора. Это надменное, как показалось Волынскому, спокойствие и решило исход дела.
– Васька! – заголосил Артемий Петрович в полном уже исступлении. – Васька! На лёд его! На лёд! Стоять не может, так пускай же насидится всласть! Голым задом на час, чтоб знал, как шутки шутить! Да соли, соли насыпь под хвост – пускай ему и холодно и горячо станет!
– Вон! С глаз вон! – обрушился он на штык-юнкеров, и те, счастливые, что гнев не перекинулся на них, схватили несопротивляющегося Мещёрского под микитки и потащили прочь.
Он долго ещё метался по кабинету, круша мешавшуюся под ногами мебель, и что-то бессвязно выкрикивал. Волынский отходил не скоро, но тут навалившийся стыд привёл его в полное изнеможение. Он рухнул на диван.
– Чёртова страна! Чёртова страна! – шептал, перебарывая одышку. – Чужие проворней своих! Позор! Позор!
Спустя какое-то время ум выискал утешительный довод: «Хорошо хоть, армяне про разбой не спросили», – но, поразмыслив, понял, что и довод позорный, и всё кругом, всё кругом…
И долго ещё сидел Артемий Петрович в глубине широкого дивана, погруженный в сумерки интимного рабочего кабинета, и не зажигал свеч. Слуги боялись зайти к нему навести порядок – опасались тревожить господина генерал-губернатора астраханского в такие минуты.
12
«Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество; на них бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великаго народа житие, целость, безпечалие…»
Феофан Прокопович.
Из «Слова о власти и чести царской».
1718 г.
13
Пётр. Пётр Великий. Отец Отечества. Император. Странно звучащие, почти кощунственные новые титулы. Сколько раз на дню ловило их ухо. Громкое, грозное, далёкое имя. Вошло в привычку слышать его, удивляться, восхищаться, робеть, затаивать страх. Имя его – Россия, но связать его с Астраханью… кому бы пришло в голову? И вот пришло кому-то. Покатилось, понеслось. Понеслось по домам, базару, торжкам, словно ветром надуло. Задолго до посещения уже знали – замышлен Персидский поход[6]6
…замышлен Персидский поход. – В 1722 г., 15 мая, Пётр выехал из Москвы в Новгород, Казань и Астрахань. 18 июля он отправился из Астрахани в Персидский поход. Персидский поход 1722–1723 гг. – поход русской армии и флота во главе с Петром I в принадлежавшие Ирану (Персии) Северный Азербайджан и Дагестан, которые были присоединены к России (в 30-х гг. XVIII в. возвращены Ирану).
[Закрыть]. Цены полезли вверх. Ничего ещё не произошло, а одни уже надеялись, другие дрожали, и ожидание подогревалось ежедневно разноречивыми слухами, и на базаре, а значит, и в городе бурлило всё, бурлило, мнения оспаривались, высказывались новые; самым оригинальным, чтоб не сказать лживым, верили и не верили, рвали глотки и рассуждали, рассуждали… Астраханское солнце перерождает кровь и даже в русских будит вспыльчивый, восточный темперамент.
Васька рано вставал тогда, но ещё раньше, с солнцем, точнее ещё в предрассветной мгле, начинали работу подрядившиеся на выгодный заказ плотники, – казалось, топоры стучат всю ночь. Спешно ремонтировали кровлю над губернаторскими покоями, меняли рассохшиеся ставни, перебирали половицы, белили внутри потолки, а московская артель скипидарила и доводила до блеска зелёными оселками уснувший было ложный мрамор парадной лестницы.
Площадь перед дворцом покрылась пятнами извести, кучами песка, жёлтой кудрявой стружкой. По Волге, груженные лесом, плыли из Казани дощаники – Артемий Петрович Волынский возводил за Кутумом загородную резиденцию.
Васька кончил терцию – последний класс школы. В спокойном, добром, уравновешенном капуцине появилась нервность; школа была чрезвычайно дорога старику, и, зная ненависть отца Иоакима, Марк Антоний, ожидая высочайшего визита, томился. Губернатор задолго наперёд предупредил, что, возможно, император сам захочет осмотреть школы, и монах, много постранствовавший по свету, а потому научившийся презирать опасность, вдруг понял, что боится, попросту боится ожидаемого посещения. Здесь, в Астрахани, старик решил остаться навсегда – город стал ему дорог, и школа, и костёл – детища его рук. Страшно было лишиться последнего прибежища и снова отправляться в неведомое странствие. Бесконечные дороги опостылели Божьему служителю – здесь и только здесь хотел бы скончать он свои дни: в тишине, окружённый нуждающейся в нём паствой, среди жизнерадостной, вечно кипящей суетными страстями детворы. Марк Антоний привык к России – тут, в варварском краю, он с полной силой ощутил важность и ответственность своей нелёгкой миссии. Он преклонялся перед русским монархом – из всех известных ему властителей Пётр внушал большее почтение своей силой, уверенностью, поражал грандиозным размахом свершённых им перемен. Капуцин старался и детям привить преклонение перед государем и, рассказывая о нём, всегда немного волновался, и волнение это передавалось детям. Да, слишком, слишком многое зависело от ожидаемого приезда…
Ученики разучивали новые песнопения, завезённые из далёкой столицы, твердили наизусть орации Цицерона, оды Горация, распевно качали в такт головами, – Марк Антоний готовил их тщательно, как никогда прежде. И как никогда прежде доставалось лентяям – долго молчавшая линейка доброго капуцина часто теперь свистела в классах.
Душой пастырь отдыхал со своими любимцами – Василием и Сунгаром – друзья были много способнее остальных: итальянский, латынь и даже древнегреческий они освоили легко. Монах подолгу гулял с ними в школьном саду, беседовал для пользы дела на родном ему языке и прятал улыбку, когда они, перебивая друг друга, рвались читать выученные помимо школьных занятий стихи. Мальчишки упивались поэзией.
Это возраст такой, думал капуцин. Он остужал немного их пыл, направлял в чтении, объяснял начатки пиитики и риторики. Он поощрял желание русского учиться дальше: учёба и дела красят человека. Он давал им книги, а они помогали ему, возились с малышами-приманами[7]7
Ученики первого класса латинской школы.
[Закрыть] и скоро стали вместо него вести у них занятия.
Теперь они стали почти полноправными членами школьной общины и втроём готовились к встрече. Они трое и весь город. Город, и отдельно, особо – три его жителя.
С той печально закончившейся виноградной вылазки Сунгар с Василием не расставались. Индиец принёс на следующий день какой-то пахучий бальзам, наложил на ранки – всё зажило как на собаке.
Они дружили, но цели были у них разные: Сунгар готовился заменить отца в лавке, Васька мечтал учиться дальше. Их роднили Вергилий, Гораций, Цицерон и ещё – комедии Теренция и Плавта. Марк Антоний дал им историю Рима Аппиана Александрийского, изложение греческих мифов Аполлодора Афинского, поэмы Гомера, и они впервые задумались, как велик, красив и мудр мир. Сколь он сед, славен и удивителен.
Но стихи, которыми было написано большинство книг, волновали особенно. Чёткая латынь, певучий греческий не казались тяжёлыми, как в первый год обучения, и теперь одаривали за усердие несказанным счастьем. Боги, цари, герои, сражения, дальние странствия, неведомые народы – ах, как мерно звучало в голове, кружилось, пролетало перед глазами, как Голландия детства, манило, как псалмопение, – бередило душу.
Отец воспрянул, вышел из своего сонно-подавленного, самоуглублённого состояния. Он интересовался Васькиными успехами, выспрашивал, обсуждал и много рассуждал вслух. Это они вместе с отцом Иосифом сговорились определить Василия к капуцинам. У них появилась цель – сделать из него архиерея, а отец даже, заговариваясь, мечтал о большем. Отец Иосиф, Васькин духовник, поощрял латинство, он сам учился когда-то в Киево-Могилянской академии, правда, не окончил её, но хорошо понимал, что учение у капуцина не повредит его духовному чаду. Он и сам занимался с мальчиком: гонял Ваську по катехизису, пояснял примерами из Писания возникавшие вопросы, а в хорошие минуты распевал Псалтырь Симеона Полоцкого[8]8
…Псалтырь Симеона Полоцкого… – Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович; 1629–1680) – белорусский и русский общественный и церковный деятель, писатель, проповедник. Полемизировал с патриархом Никоном и вождями раскола. Наставник царских детей. Просветитель. В 1680 г. участвовал в составлении проекта организации в Москве Славяно-греко-латинской академии. В конце 1678 г. организовал в Кремле типографию, где печатал книги, привлекая к работе художников и мастеров гравюры. Талантливый поэт, драматург, перевёл стихами Псалтырь («Псалтирь рифмованная», 1680), пользовавшуюся популярностью до середины XVIII в. Симеон Полоцкий вошёл в историю литературы как основоположник силлабического стихосложения и создатель поэтических и драматических жанров, до него почти не разработанных в русской литературе.
[Закрыть], коего ценил больше всех живших на земле поэтов.
тянул, блаженно сощурив глазки, отец Иосиф перед концом занятий, и Васька с удовольствием ему вторил. Он любил неспешность духовных кантов. Они давали время на раздумье: певучее, словно истаивало на глазах, слово сливалось с протяжным напевом, подкупающим своей простотой и глубиной, покачивающейся, как равномерное биенье ублажённого покоем сердца; голос диктовал силу звука, и слова накатывались друг на друга, словно тихие предзакатные волны. Чуть возлетая на едва заметных горках ударений, плыли слова и лепили тот первозданный природный ритм, от которого, стоит ему только зазвучать, вмиг рождаются милые сердцу сновидения. Упоительно растекались гласные по тихоструйному движению напева, и не будет, казалось, конца канту: «Лист его не отпадает; и всё ещё де-ет…» Музыка погружала в сладкую грёзу, и, когда, вопреки желанию, этот удивительный музыкальный круг замыкался и наступал конец, он не сразу приходил в себя – недолгое время приятно было посидеть молча, словно заново повторяя в уме привороживший напев.
– Вот, вот, нечестивцы, яко прах с земли, исчезнут, а добродетель, яко сам содетель, пребудет вовеки, – заключал отец Иосиф, вставая со скамьи и лобызая его на прощание.
Он любил вот так рифмовать и при этом изображал мнимое изумление, словно созвучие получилось вопреки его воле. Васька быстро раскусил эту хитрость и скоро сам полюбил невинные словесные забавы, часто прибавляя к сказанному учителем и свою рифмованную строчку.
Отец Иосиф обещал дать письмо в Киевскую академию, где остались у него знакомые. Василий даже подал челобитие товарищу губернатора с прошением о паспорте для учения в Киеве. Канцелярия паспорт выписала, но неожиданно всё сорвалось…
Он давно задумывался о смерти. О ней много говорили и дед и отец, но она не казалась похожей на злодейку с косой, какой её рисовали в книгах. Смерть была в закатившихся глазах птицы-бабы из Лебрюновых склянок. Она была серая – смерть, бестелесная и, как покойники в соборе, пахла ладаном.
Сначала он боялся, что умрёт дед. Но проходили годы, а он всё не умирал, и Василий привык: казалось, это немощное тело знало особый, отпугивающий секрет. Но вот дед умер. Умер среди дня, спокойно, никого не позвав, ни с кем не простившись. Закрыл Минеи, положил на крышку голову, задремал. Василий хотел вынуть книжку, подложить подушку, но дед пробурчал спросонья: «Отстань, Васька, не мешай думать», – словно помогала ему эта книга, ведь так и не отпустил её. Когда мать принесла ему обед, он уже окоченел. Смерть была безболезненной, счастливой.
Мать умерла по-другому. Она давно-давно стала копить на приданое дочке. И скопила. Чего ей это стоило, только она одна знала. Скопила, дождалась весеннего мясоеда, выдала Марию замуж. Расстаралась на славу, много народу гуляло тогда у Тредиаковских. Много больше, чем вскоре на её поминках. Мать он всегда вспоминал, когда ел пироги с визигой. Она напекла их на свадьбу, в последний раз хлопотала у печи, а как Мария ушла в мужнин дом, быстро стала худеть. Стоять у огня стало ей тошно. Однажды она слегла и больше не вставала. Ни настои, ни отвары не спасли. Смерть её задушила. Смерть была тяжёлой.
Отец после похорон ходил потерянный, дома стало пусто, два мужика да печь. Он переменился, стал высказываться против латинских школ, против отъезда, даже против собственного друга – отца Иосифа. Против всех, против всего. Он торопил Ваську с дьяконством, настаивал, кричал, даже плакал, чего раньше за ним не водилось.
– Что ты знаешь о жизни? – это стало его любимой поговоркой-причитанием.
Он заставлял Ваську ходить только в рясе, хотел видеть сына орарным, служащим, и, хотя архиерей даровал Кирилле Яковлеву епитрахильную грамоту как вдовому, разрешая служить литургию, стал поговаривать о постриге. Он согнулся ещё больше и вмиг выстарелся: ежедневно стал ругать католиков, смакуя ругательства, – думал так досадить сыну, но помешать учёбе у капуцина не смог и тогда, боясь, что Васька его покинет, решил во что бы то ни стало женить. Был тут и далёкий, тайный смысл – женив, он закрывал для сына монашество, а значит, и архиерейство, о котором недавно ещё так мечтал. Отец всегда мыслил крайностями.
Сватовства особого не было, он давно приглядел хорошую невесту. Сходил к Фадею Кузьмину: потолковали, выпили водки, ударили по рукам. В год приезда императора, в следующий мясоед, седьмого января, первый дозволенный день, отец Иосиф обвенчал их в Троицком соборе. Свадьбу справили тихую, только семейным кругом.
Молодые подчинились родительской воле. Федосья – большая и уже немного грузная для своих восемнадцати лет, пышущая здоровьем – была хорошая хозяйка, Кирилла Яковлев наглядеться на неё не мог; думал – посадит сына на цепь, привяжет к дому. Но не случилось. Не слюбились. В душе Васька восставал против отцовского произвола и предательства и потому не мог полюбить работящую и покладистую, ни в чём не повинную жену. Трогательная её опека на первых порах только больше злила, растравляла сразу же возникшую неприязнь. Он был упрям и втайне решил: учиться он будет во что бы то ни стало. А пока приходилось затаиться и ждать. Федосья, увидев, что муж её сторонится, перестала навязываться, терпела, отмалчивалась, делала вид, что не замечает его угрюмости, и всю нерастраченную энергию пустила на дом и огородное хозяйство. А он пропадал в церкви, в школе у капуцина или в келье отца Иосифа, старался бывать дома как можно меньше: уходил чуть свет, приходил поздно и сразу ложился спать.
Он жил сокровенной мечтой, оберегая её от домашних. Только Сунгару посмел признаться, и вдвоём они любили представить себе, как всё это произойдёт. Приезд императора – вот на что надеялся Васька: только он мог изменить жизнь, ставшую невыносимой в опостылевшем астраханском пекле. Теперь, когда приоткрылась дверца в большие миры, Васька не мог уже и думать о тихой семейной жизни, все помыслы его были там – в Москве, в далёком, ослепительном, снежном Петербурге, и он, растревоженный рассказами Марка Антония, верил, что приезд императора всё перевернёт, всё изменит в лучшую сторону. О! Он любил его, заведомо преклонялся перед ним – достойным самых пышных песнопений. Он не знал, как всё будет, но верил. Боялся и любил – он грезил наяву. До дрожи в коленях.
…Девятнадцатого июня тысяча семьсот двадцать второго года, в полдень, он был в толпе на пристани. Солдаты теснили народ: второе кольцо, взяв ружья на караул, стояло чуть поодаль, вокруг причала. Наконец вдалеке показалась галера с развевающимся флагом, и от пристани сразу же отвалила шлюпка, убранная цветами, – императора ждали с супругой. С крепости ударила башенная пушка.
Он знал, что император высок. Среди гребцов и свиты действительно один выделялся своим ростом. Василий не спускал с него глаз и по почёту, каким окружили высокого на берегу, понял, что не ошибся.
Он кричал, кричал вместе со всеми, но император лишь мельком взглянул на толпу и быстрым шагом направился к крепости.
Со стен троекратно салютовали из всех орудий, как и полагалось по воинскому уставу. Толпа потянулась на главную площадь. На паперти Успенского собора ждал архиерей со священниками, отец был в их числе. Забили в колокола. В солдатской слободе, в стане генерал-майора Кропотова, трижды отозвалась салютами полковая артиллерия. Затем затрещали ружья. Он тогда пожалел, что не пел в Успенском. В новом соборе были свои певчие.
14
Потом был дождь. Сильный, необычный для астраханского июня. Книгу он заложил досками, чтобы не намочило, а сам спрятался под навесом сарая на пушечном дворе. На него немного попадало, но по сравнению с солдатами он был сух, как тростник для растопки. Это после он намок, а тогда стоял под навесом и глядел на площадь. Если была книга, значит, он спешил в школу к приманам. Марк Антоний упросил общину приплачивать ему за занятия, и теперь его стали называть учителем.
Государь стоял на нижних ступеньках Успенского собора вместе с Волынским, свита расположилась чуть в стороне. Войско проходило чётким парадным шагом, мокрый песок летел из-под сапог. Играли флейтщики и гобоисты. Что есть силы бил барабан, с ним перекликались маленькие барабаны в строю.
Дождь зарядил сильнее. Свита сбилась в кучу, но Пётр не обращал на неё никакого внимания – он весь был поглощён действом. Василий понял, что теперь никто уже не в силах отменить намеченных экзерциций.
Волынский взмахнул рукой. Оркестр замолк, послышалась барабанная дробь. В дальнем углу площади показался прапорщик с пикой. За ним маршировала шеренга и ещё, и ещё – второй и третий взводы. Прямо перед императором прапорщик замер, солдаты топнули ногой – встали. Пётр не выдержал, сбежал со ступенек. Сам давал команды. Солдаты чётко перестраивались, брали ружья наизготовку, вставляли в дуло байонеты – кололи, отступали назад, снова замирали. Поворачивались кругом, припадали на колено, целились. Ложились в мокрый песок. Целились. Вскакивали. Замирали.
– А-ах! – доносилась до него команда, поданная резким государевым голосом.
– А-ах!
Солдаты взяли ружья в левую руку, опустили стволы вниз, спрятали замки под мышку, чтобы не намочить порох. Приклады одинаково выглядывали из-за плеч.
Пётр обходил шеренги. Все лица тянулись к нему. Василий и не подозревал, что скоро вот так же император поглядит на него и ему станет нестерпимо страшно от грозного царственного взгляда.
Пётр повернулся, подошёл к ступенькам, давая понять, что смотр окончен. Оркестр заиграл немецкий марш – шеренги двинулись. Одежда солдат набухла от воды, была испачкана в песке, латунные лядунки с патронами били по бокам, по ним текли жёлтые капли. Василий неотрывно глядел на Петра, не ощущая холода и тяжести промокшей рясы, – давно уже, сам он того не заметил, как вытянуло его из-под навеса на улицу ближе к плацу, под дождь.
О! Такой царь, каким был его кумир, он был теперь уверен, завоюет любой, и не только Дербент, а любой город мира, любую страну, и он был счастлив, счастлив несказанно, что сумел углядеть, как командует войском сегодняшний Александр Великий.
Он так и стоял до конца. Даже когда последний человек скрылся в воротах и часовые у кордегардии немного расслабились в будках. Словно очарованный пением сирен Одиссей у мачты корабля, он долго не смел шелохнуться и глядел на пустые, омытые дождём ступеньки соборной паперти.
15
Марк Антоний не стал ругать его за прогул. Наоборот, обрадовался, увидев. Схватил за локоть.
– Василеус! Иди домой, вымойся, надень лучшее, что у тебя есть. Сегодня занятия отменяются – завтра нас посетит государь император. Приходи пораньше!
Никакой особой одежды у него не было – отец не покупал ему немецкого платья. Теперь, узнав о торжестве, он сходил к келарю монастыря, принёс новую рясу. Пошёл с ним в мыльню и после заставил пропеть «Виват», как учил присланный месяц назад от Волынского офицер. Васька с гордостью исполнил его тогда домашним, и теперь отец проверял – не забыл ли? Федосья подстригла его. Словом, все готовились к необыкновенному и, пугаясь этого необыкновенного, возлагали на него надежды, втайне ожидали чуда. Васька так волновался, что заразил домашних, – ночью спали плохо все трое.
Отец освободил его от заутрени, благословил с надеждой, и Василий побежал в школу, но на дверях дома, где находились классы, ещё висел замок – Марк Антоний молился в костёле.
Стараясь унять дрожь, он принялся ходить по саду, повторяя заученную орацию Цицерона. Слова путались, голова была пуста, он с ужасом пытался, ухватившись за обрывок фразы, вспомнить, вспомнить… но не мог. За этим занятием его застал капуцин. Он только мельком взглянул на Василия и тут же крепко сжал ему запястья, встряхнул, и Васька успокоился. Вмиг всё прошло – слова всплыли в памяти.
Но затем, затем накатило снова и ещё хуже, как столбняк, сводило горло и болел живот. Кажется, пришли ученики, чистили помещения, плели цветочный венок на дверь и устраивали спевку. Занятия начались, но никто не мог сосредоточиться на правилах. Наконец в класс заглянул бойкий секундан[10]10
Ученик второго класса латинской школы.
[Закрыть]: «Патер зовёт выходить».
Василий стоял со своими малышами-приманами, выделяясь ростом, церковным облачением – все, и армяне и русские, были в кафтанчиках, штанишках, башмаках с бантами – их родители расстарались ради такого важного случая.
Через полчаса, когда стало совсем уж невтерпёж, около ворот церковного двора остановилась коляска. Не дожидаясь запаздывающей свиты, с неё соскочил высокий человек и быстро зашагал к школе. Вслед за императором поспевали Волынский и ещё двое вельмож. Чуть сбоку семенил Мамикон Ваграпов, глава Джульфинской компании – он-то и вёл великого гостя. Пётр по приезде утвердил армянам льготы, а теперь пожелал взглянуть на латинские школы Марка Антония.
Монах заспешил навстречу, шаркая по дороге сандалиями. Верёвка от пояса путалась в складках рясы. Он согнулся в поклоне, и хор, как договаривались, на этот знак радостно грянул «Виват». Это было новое в Астрахани пение, собственно, всего одно-то слово и пели, но получалось удивительно: слово раскладывалось на двенадцать партий двенадцатиголосого хора, и оно менялось, перекрещивалось, добавлялось повторами, дробилось, множилось, разбухало, росло, росло, росло до бесконечности, подчиняясь законам распева, оно рвалось из усердных юных уст, это слово «виват», и слава, и медь, и грохот, слившись воедино, летели к Нему, облекая Его ореолом, – и трясся нагретый дневной воздух, столь всё было оглушительно, победоносно, мощно, и Васькин ликующий дискант был заглавным в этом громкозвучном приветственном гимне.
Затем кто-то из старших учеников читал оду Горация. Пётр прохаживался перед шеренгой, было непонятно, знает ли он латынь.
Государь заглянул ему прямо в глаза так неожиданно, что Василия обдало огнём, как от плётки Кубанца. Он сразу уставился в песок дорожки, примятый большим грубым сапогом.
– Кто таков? Почему не по возрасту стоит? – раздался над ухом резкий, лающий голос.
Надобно было сразу отвечать, но он не мог. Это и было чудо, которое он упустил. И никакого счастья, страх сковал его. Выручил патер Антоний:
– Лучший ученик, ваше величество, Василеус Третьяковиус. По окончании школы занимается с приманами грамматикой.
– Должно учиться дальше! – отрезал Пётр. – Что же ты не печёшься о своих дарованиях, значит, только на словах горазд?! – бросил он ехидно генерал-губернатору и зашагал дальше вдоль замерших учеников. Больше ничего он не сказал.
Над свитой пронёсся шепоток – было известно, что государь император по приезде уличил Волынского в казнокрадстве и очень им недоволен – положение астраханского генерал-губернатора было сейчас весьма и весьма ненадёжно.
Подняв голову, Василий заметил, как зло стрельнул по нему глазами уязвлённый градоправитель, и оттого, вконец растерявшись, качнулся и чуть не выпал из общего строя – только укоризненный взор Марка Антония заставил собраться с силами и перенести эту муку до конца.
Государь пробыл недолго: заглянул в костёл, прогулялся по саду и, кажется, уехал затем пировать к армянам.
«Должно учиться!» Это выстрелило, как приказ. Но как? Как исполнить его?
Дома он всё рассказал и сетовал, что упустил случай – надо было броситься на колени, молить… Отец и Федосья успокаивали, утешали, жалели.
– Вот увидишь, всё будет хорошо, – твердила жена. Но он оставался безутешен.
«Должно учиться!» Чудо уже совершилось, но Василий не мог этого знать. Наказ императора слышали все стоящие рядом, и все, повинуясь грозному голосу российского властителя, поглядели на высокого перепуганного юношу – лучшего ученика астраханских латинских школ. Но только двое из присутствовавших на церемонии не забудут о нём. Первый, Иван Юрьевич Ильинский, вспомнит скоро, очень скоро – он внесёт в судьбу юного Тредиаковского большие, радостные перемены. Второй же – Артемий Петрович Волынский, никогда ничего не забывающий благодаря отличной памяти придворного, обязательно припомнит насмешку императора, но, так уж распорядится Фортуна, их встреча далеко-далеко впереди, и она тоже многое переменит в судьбах обоих. Но всему своё время – в длительном промежутке, отпущенном судьбой, ещё всякое случится, прежде чем неизбежные силы притяжения стянут всё в один запутанный узел.







