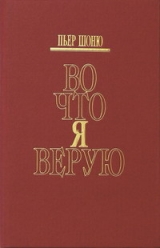
Текст книги "Во что я верую"
Автор книги: Пьер Шоню
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Расширенная семья – поистине древнейшая ячейка общества. Это – клан, genos, gens; что до citй[99]99
Бытующие переводы: полис, древнейшая разновидность государства и т. п.
[Закрыть] древности, то это, первоначально, союз, конгломерат племен – genoi, gentes. Ho мир, в котором мы жили, – бесконечно опаснее того, в котором мы пребываем ныне. Круг «друзей во плоти» – это первый охранный круг, он дает жизнь, охраняет ее от враждебности природной среды и межчеловеческого, внутривидового насилия, сохраняет и передает сугубо личное содержание, отличное от общечеловеческой культурной памяти, завершающей наше становление в качестве людей в ту долгую пору, следующую за нашим рождением, когда наше существо еще поддается лепке.
Разумеется, мир эмоциональных привязанностей не сосредотачивается исключительно внутри ядерной или расширенной семьи; остаются товарищества, складывающиеся ради охоты, войны или труда. А какова доля таких проявлений за пределами этих двух кругов в рамках 300 миллиардов человеческих судеб пространства-времени? В этих кругах содержится более трех четвертей любви, которую вмещают наши израненные сердца. И во всем, что происходит за пределами этих кругов, в ходу – язык нежности, сложившийся в семейном ядре. О легионере скажут, что легион – его семья. В числе расширенных применений, говорящих о таком смысле, Литтре отмечает: единообразие, связанное с метрической системой, которое «приводит к образованию одной огромной семьи этих различных народов» (Лаплас), «великую человеческую семью, совокупность людей, все человечество». И о том же гласит братство на фронтоне Республики. Стоит нам воскресить в памяти пространство мира, теплоты, нежности, как в ней всплывают все те же слова, все тот же образ. Уроки, вытекающие из истории народонаселения, основанной на применении количественного метода в истории, говорят о том, что такая мудрость характерна для всех народов. И если когда-нибудь найдутся дураки, которые станут твердить вам об обратном, то знайте, во всяком случае, что это – круглые дураки.
* * *
В ходе истории семейная модель, вполне очевидным образом, частенько менялась. Ее формы изменчивы – как и сама жизнь. Всё зависит от Сириуса. Его колебания едва уловимы. Приметны лишь общее положение и направление. С близко расположенной от него планеты вам будет видно, насколько всё обстоит иначе.
Конечно, между XII–XIII веками, этим великим переломом во всей нашей истории, и XIX веком место и значение узкосемейной ячейки-ядра непрерывно росло[XXXVIII]XXXVIII
Разработке этих вопросов я уделил большое внимание в Histoire science sociale, Sedes, 1974; la Mйmoire et le Sacre, Calmann-Lйvy, 1978; Un futur sans avenir. Histoire et population, Calmann-Lйvy, 1979; Histoire et dйcadence, Perrin, 1981; la France, Laffont, 1982. Отсылаю за аргументами к этим текстам.
[Закрыть]. Усиление роли крестьянства, возделывающего парцеллы, определяющего ход своих дел в своих микроскопических масштабах, – а также более действенная зашита, предоставляемая государством, привели к тому, что расширенная семья стала сводиться к семье-ядру. Со сменой поколений маленькая ячейка стала понемногу вбирать в себя всё большую часть эмоциональности. Между тем, промышленная революция приводит, как зорко увидел Питер Ласлетт[XXXIX]XXXIX
peter laslett, le Monde que nous avons perdu, Flammarion, 1969.
[Закрыть], к определенному откату. За вычетом привилегированного меньшинства, к которому, из-за некоторых своих занятий, принадлежу и я, эта революция нарушила единство места, семьи и производственного предприятия. Для лондонского хлебопека, о котором Питер Ласлетт говорит в начале «Утраченного нами мира», для виноделов и крестьян, сидящих на своих парцеллах, в рамках обоих направлений моих родных по восходящей линии, трудившихся на виноградниках, сеявших рожь и собиравших каштаны, как для домашнего врача в XIX веке и литератора, – привилегированность, впрочем, обоюдоострая, заключалась в том, что они работали у себя дома. Это единство места, прерванное технологией больших, пыхтящих и источавших влагу машин, вызванных к жизни промышленной революцией, может оказаться – стоит нам только захотеть – вновь к нашим услугам, к услугам нашей технологии. Важно сделать так, чтобы расчлененный производственный процесс вернулся вспять, к нашему домашнему очагу, то есть к месту нашего покоя и счастья.
Перед обществом лиц, занятых в сфере обслуживания в эпоху дистанционного управления, открывается возможность воскресить более гармоничные отношения между взрослыми, детьми, домашним очагом, природой. Но всё это еще нужно изобрести, для чего требуется воображение, а его-то нам, наряду с умом и трудолюбием, и не хватает самым прискорбным образом.
Глава VII Этот истинный мир моей жизни – труд
Обратное сближение человека с трудом после наступившей разобщенности означало бы постепенное изменение его природы. Для нас, жителей наиболее уютного из прибежищ – западного латино-христианского мира, превратившегося в безбрежную Европу, – это в немалой степени означало бы восстановление ценности труда.
Вместе с семьей он – средоточие нашего душевного мира. Мы работаем ради тех, кого любим.
Я верую, что пребываю в мире, истинно существующем, и труд, наряду с доподлинным присутствием моих любимых внутри этой моей родины, там, где жили мои отцы, выступает в моих глазах как наглядное доказательство истинности мира, а значит – и моей собственной. Без труда я был бы всего лишь тенью, сновидением, видимостью существования.
Подобно семье как узловому пункту нашего душевного мира, труд настолько в нас укоренился, что его присутствие обнаруживается еще до того, как завершилась окончательная стадия нашего становления.
Начальную точку промышленнной эры отделяют от нас 1 800 000 лет, и находится она в той самой долине Омо, в наносах которой мы обнаружили первое орудие, расколотый камень, служивший еще и оружием. Именно с его помощью мы и определяем, когда впервые было осознано время[XL]XL
Я сделал это в своей книге Histoire et Dйcadence, op. cit.
[Закрыть]. Он дал нам возможность уяснить себе, когда впервые произошло осознание времени. Это случилось в рамках того, что было еще не человеческим сознанием, а обрывками сознания внутри предчеловеческого мозга. Для того, чтобы заточить камень, потребовалось вспомнить о случайно подобранном камне с режущим краем и предвидеть, на что он сможет пригодиться. Вместе с рукой, продолжением которой оно оказывается, орудие становится главной школой разума. Вместе с рукой орудие стало если не первой машиной времени, то, во всяком случае, первой машиной для осознания времени. Homo faber[100]100
Человек работающий (лат.).
[Закрыть] – мы были им до того, как стать воистину человеком, и сидящий в нас мастер на все руки как раз и вылепил личность, способную философствовать. Вполне очевидным образом homo faber способствовал становлению homo religiosus et metaphysicus[101]101
Человек религиозный и философствующий (лат.).
[Закрыть]. Своими руками он выстроил первый храм. После двух миллионов лет усилий по обработке камня предстояло появиться осознанию экзистенциальной тщетности этих усилий, ибо осознанным оказалось то, что завершением судьбы является смерть. Рука философствующего мастера на все руки выронила бы орудие бесполезного труда, не появись у него сознание того, что есть нечто, лежащее за пределами времени.
Труд развился вместе с эмоциональными узами. Стало быть, вполне естественно, что труд и эмоциональные узы, труд и семья в том средоточии семьи и разумного усилия, которое и составляет нашу родину, объединяются тесными и прочными связями. И как раз оттого, что я знаю, что этот узловой пункт моей жизни существует доподлинно, мне и становится известным то, что я доподлинно пребываю в том мгновении, которое ведет меня к смерти.
В это я тоже верую неуклонно: я верую в эту доподлинную данность mi circimstancia («Yo soy yo у mi circunstancia»[102]102
Моих обстоятельств. («Я – это я и мои обстоятельства») (исп.).
[Закрыть], в соответствии с удачным, часто цитируемым афоризмом Ортеги-и-Гассета).
Слово можно анализировать. Слово «travail» (труд) во французском языке обеспечило себе, в конечном счете, главенствующее положение. Показательно, что оно вытеснило «labeur», содержащееся, в принципе, в латинском «labor» (труд). История слова «travail» заслуживает психоаналитического исследования. «Имя, данное, – говорит Литтре, – более или менее сложным устройствам, при помощи которых крупных животных обрекают на неподвижность либо для того, чтобы подковывать их, либо для того, чтобы подвергать их хирургическим операциям»[103]103
Станок.
[Закрыть]; расширительно – это все то, что стесняет, утомляет, утомительное усилие, предпринимаемое для того, чтобы сделать что-то. А Фюретьер[104]104
Французский романист и лексикограф (1619–1688). Посмертно вышел составленный им большой толковый словарь французского языка, не потерявший значения и поныне.
[Закрыть] в 1690 году берет быка за рога, приводя первым значение, повседневное уже в XVII веке: «занятие, усердие при выполнении какого-либо упражнения, тяжкого, утомительного или требующего сноровки». Только во множественном числе[105]105
Travaux.
[Закрыть] это слово приобретает возвышенное значение.[106]106
«Подвиги» (напр. подвиги Геракла), «работа» (съезда), «труды» (см. «Труды и дни» у Гесиода).
[Закрыть]
Всякий раз, когда нам нужно добраться до сути, нам приходится исследовать начало всех начал. Тот узловой пункт, что сделал нас человеком посредством суровой школы, о которой повествует нам антропология, пытаясь раскрыть нам глаза на неловкие телодвижения персти земной в саду Эдемском. Проще еще раз вернуться к тексту о начале. Как бы вы его ни расценивали, вам придется признать, что за три тысячелетия никакой другой текст не наложил такого глубокого отпечатка на нашу культуру.
Сразу после четырех первых стихов о сотворении мира важнейшим местом является начало главы 3-ей книги Бытия. Мы попытаемся прочесть его и на современный, и на традиционный лад. По меньшей мере дважды труд появляется в повествовании о метафизическом узловом пункте индивидуальной человеческой жизни: при описании восторга, охватившего существо, которое полагает, что достигло более высокого положения, – и при описании трагичности падения и схождения с пути истинного как следствия того, что оно преступило закон и оказалось обреченным на крах.
Первое появление труда совпадает с признанием нарушения завета, что следует понимать как злоупотребление свободой, выразившееся в ожидании чрезмерной награды за усилие. Суждено ли этому усилию, направленному на то, чтобы сорвать и съесть плод от древа познания, привести – как намекает злокозненный собеседник, имя которому Змей, о котором изящно сказано, что он был «хитрее всех зверей полевых», – к какому-то высшему счастью, к чему-то, превосходящему человека: «вы будете, как боги», – или к простому признанию злосчастия, присущего жизни «существа, обреченного на смерть»?
Но после того, как запрет преступлен, что – должен ли я напоминать об этом? – выглядит как испытание свободой: коль скоро Адам и Ева преступают этот запрет, то – не потому ли, что ish и isha – человек, ставший мужчиной и женщиной, – обладают высшей ценностью в виде возможности выбора? – Бог возвещает два побочных последствия завершившегося становления человека. Одно – это наличие объемистого мозга, и относится оно к женщине; другое – и речь опять-таки идет о труде – сопряжено, по-видимому, с предшествующими и последующими условиями существования: неолитом (тридцать тысячелетий после первой могилы). Но, вне всякого синения, эта эпоха – позади, ибо долгая погоня за добычей, удел охотящихся сообща при палеолите, собирание растений, производимое в согбенном положении, изготовление орудия-оружия не исключают мышечной усталости. Так вот, сразу же после основополагающего осознания своей наготы – символа судьбы во времени того, кому отныне ведомо, что векторная ось временной протяженности устремлена в сторону могилы, смерти, – оказывается, что две антропологические данности – половое чувство человека и его же производственная деятельность – представлены в обратном порядке. Преступая запрет, человек, таким образом, начинает глубже ощущать муки деторождения и страдание, вызываемое усилием, иначе говоря – трудом.
Мы уже познакомились с первым страданием, «с трудом» (слово-символ, слово-наваждение) родовых мук[107]107
Родовые схватки – одно из значений слова «travail».
[Закрыть]. Далее идет страдание, которого требуют от нас любое продолжительное усилие, любая работа. Следовательно, «умножу скорбь твою в беременности твоей» (Быт. 3: 16) соседствует с тяжестью труда: «Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и во прах возвратишься» (Быт. 3: 18–20).
Тяжкий труд может стать и карой. Как ни плоха по своей сути свобода, как по сути своей передача жизни не есть предмет мучительных усилий, так тяжкий труд вплетен в ткань жизни. Труд, разумное усилие, формирует наш разум и дает возможность обеспечить расцвет жизни мужлана-кочевника в совместном поселении накануне и во время неолита (когда, видимо, и живет Адам после сада Эдемского): какой шаг вперед! Но какой ценой!
Не станем сводить труд к тяжкому усилию. Связанное с трудом, такое усилие, несомненно, оказывается как раз тем, с которым мы миримся наиболее охотно. Это подтверждается и древним текстом, ибо важно, что сам Бог ставит пределы трудовому рвению человека; десять заповедей вменяют отдых седьмого дня в обязанность. Значит, есть необходимость в том, чтобы некий моральный закон, некая этическая предосторожность прерывали замкнутый круг трудовой ярости человека. Нам известно, что sabbath[108]108
«Суббота» (др. – евр.), т. е. «отдых».
[Закрыть] (что ставит под вопрос нашу современную систему) есть право на главнейшее, на время для молитвы, на размышления, на помышление о судьбе: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20: 8-11). Это отдых, предназначенный для того, чтобы святить. «Шесть дней работай, и делай всякие дела твои», ибо свойство работы – возникать снова и снова. Надо разорвать замкнутый круг: «А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела». И к этому заповедь присовокупляет мудрую предосторожность, направленную против искушения переложить свои дела на других, перепоручив им их выполнение: «…ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя…» В запрет включены и животные. Это напоминает о том, насколько жизнь человека сопряжена с жизнью жизни, с жизнью природы: «…ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Закон об отдыхе, призванный расчленить время труда, вменяющий в обязанность и определяющий как акт мудрости необходимость прерывать круговращение труда, способного стать столь же опасным, что и спираль насилия, относится не к религиозному, а к естественному праву, ибо применим и к чужаку-пришельцу, и, еще более символическим образом, к скоту, то есть ко всякой жизни, какая только есть в природе и над которой человеку вверены обязанности и власть (подчинять, господствовать, плодиться и размножаться).
Этот закон разрыва спирали труда настолько важен, что он – единственный, требующий обоснования в космическом масштабе, своими корнями непосредственно уходящего в порядок Творения: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в нем; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20: 11). Есть две заповеди, которые предполагают повеление и награду: выполнение долга по отношению к родителям, вознаграждаемое долголетием, и соблюдение субботы; вторая же сулит вознаграждение за соответствие деянию Господа в природе.
Итак, налицо ценность и двойственность труда. Как и все, что воистину касается сути, в нем есть и лучшее, и худшее. Мы неявно признаем эту ценность труда, определяя временные рамки нашей до-истории и нашей пред-истории через посредство плодов нашей производственной деятельности, под которой следует разуметь наш труд. Так идет развитие: от обломка камня – к камню обточенному и от камня – к металлам.
Поистине, в труде есть два плюса. По крайней мере – два. И это – не рука и мозг; ибо рука и мозг находятся по одну сторону. Это – творческий полюс. Рука – рука с большим пальцем, способным захватывать, – в гораздо большей степени способствовала формированию мозга, нежели мозг – формированию руки. Метафизика времени родилась 1, 8 млн. лет назад из руки и зачаточной мысли человека, дробившего кремний. А еще есть мышечный полюс, полюс двигателя, давления, которое он заставляет нас оказывать в нашем телесном мире. Жак Рюффье[XLI]XLI
jacques ruffiй, De la biologie а la culture, op. cit., p. 543.
[Закрыть], ссылаясь на положение, сложившееся лет десять назад (около 1970 года), писал: «Если наш палеолитический предок потреблял 2500–3000 калорий в день, то современный человек в Европе потребляет 150 000 калорий, а в США – более 230 000 калорий[109]109
230 000 калорий в день на одного человека.
[Закрыть]».
Непосредственно перед нефтяным кризисом, в ходе «тридцати славных лет»[110]110
В соответствии с французской официальной историографией – трех первых послевоенных десятилетий (1945–1975).
[Закрыть], считалось, что потребление энергии удваивается каждые десять лет и что это совершенно естественно.
Да, человеческая мышца – посредственный двигатель. Рука – чрезмерно точный прибор, чтобы применяться для выполнения задач, требующих затраты сил и механически повторяющихся движений. Замена таких повторений машиной, а мышцы – мотором – вот, в целом, главное изобретение, осуществленное в Европе в переломную пору XVIII–XIX веков.
Промышленная революция – не творческий акт, а ускорение. Творчество – это или расколотый примерно два миллиона лет назад кремень, либо сознательно посаженное около 10 тысяч лет назад зерно злака, либо генная инженерия ближайшего будущего, которой, возможно, и суждено стать подобной революцией, в ходе которой должны возникать биологические роботы, бактерии, претерпевающие непосредственное воздействие на уровне генетического кода: живой артефакт, наделенный умением устранять свои повреждения, в тысячу раз более действенный, чем самая действенная машина. Вот вам картина великих перемен в области труда.
История начинается два миллиона лет назад; первый перелом (за 10-8 тысяч лет до н. э.) – наступление неолита. Второй перелом – XII–XIII века, технический перелом Средневековья – знаменуется более успешным применением для хозяйственных нужд мышц животных и силы текущей воды, любопытным образом перекликающимся, невзирая на полное отсутствие контактов, с великим переломом, наступившим в китайской биотехнологии благодаря использованию раннеспелых семян, что дало возможность, начиная с XII–XIII веков н. э., собирать на китайских рисовых плантациях по два урожая в год. В этом китайском открытии было бы, однако, чрезмерным усматривать прообраз биоинженерии, с которой, как мы уже видели, связываются надежды на единственную истинную технологическую революцию ближайшего будущего.
Начиная с XIII века перемены стремительно ускоряются. С 1789 года в Европе начинается эпоха ортеза[111]111
Ортез – это аппарат, заменяющий недостающий орган тела. Ортез – это человеческий артефакт, умножающий каким-то образом возможности органа.
[Закрыть] руки, получающей импульс от искусственного, безмышечного двигателя; перелом, начавшийся около 1960 года, ознаменован появлением ортеза мозга, выполняющего его простейшие функции. Компьютер лишен разума, но он действует со скоростью электрического тока, в миллионы раз быстрее нашего мозга. Этот ортез мозга в высшей степени нарушает сложившееся равновесие. Мы вскоре вступим в пору обновляемых источников энергии. Нам предстоит грызть (термо)ядерное яблоко и сосать солнечный апельсин[112]112
Мы используем забавный образ Мишеля Гренона.
[Закрыть]. И наверняка уже завтра появятся истинные роботы – микробиологические. События, видимо, развиваются быстрее, чем это можно было предвидеть еще вчера.
События, видимо, развиваются быстрее и по зигзагообразной траектории. Ошибочно предполагать, будто использование всё более совершенных орудий, артефактов и ортезов вызовет постоянное перемещение труда от полюса утомительной повторяемости к полюсу интеллектуальной творческой деятельности. В течение всех двух миллионов лет труда, осуществлявшегося пред-людьми и человеком, постоянно действовал регулятор, определявший развитие в соответствии с принципом: «шаг вперед – два назад» – принципом тактического возврата вспять, который биологи эволюции окрестили педоморфозом. Таким образом, можно говорить и о педоморфозе во время неолита: переход от сбора растений и охоты к пастушеско-земледельческому обществу отнюдь не всегда знаменуется немедленно наступающим прогрессом. Крупнейший скачок вперед привел даже к самому тягостному откату назад[XLII]XLII
pierre chaunu, Histoire et Dйcadence, op. cit.
[Закрыть]. Искусство настенных росписей в Ласко в течение тысячелетий оставалось скрытым, неведомым, утраченным; охота, проводимая сообща, – это искусство, требующее находчивости, ума, понимания и обшения. Едва ли будет чрезмерным повторить, вслед за Робером Ардре (Robert Ardrey), что человек был создан охотой. Можно считать почти естественным, что мы одновременно утратили и охоту, и художников Ласко, что поразительные достижения земледелия пришлось оплачивать таким отходом назад. Именно этот этап истинной истории людей – но истории, которая бесконечно повторяется, – ярко описан и в строках книги Бытия. «Проклятая земля», земля, вовлеченная в сельскохозяйственный процесс, быстро становится проклятой, родит тернии и волчцы, доводит до изнеможения и пота, и то, что поначалу выглядело как дар, приходится прямо-таки вырывать у нее ценой повторяющегося, постылого труда. Можно понять вздох освободившегося от всех заблуждений Экклезиаста (но вернем ему его прежнее имя – Кохелет[113]113
qoheleth (др. – евр.) – созывающий собрание, говорящий в собрании, церковный оратор, проповедник.
[Закрыть]): «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (Еккл 1:3). Прежде всего, земледельцу приходится тяжелее, чем охотнику. Когда в быт общества собирателей растений входит какой-то предземледельческий процесс, то это вначале – выигрыш, приводящий позже к отчуждению, прежде чем стать для пятидесятикратно выросшей массы людей источником досуга, который можно посвящать творчеству.
Так же чередуются этапы и в ходе промышленной революции. Кому бы пришло в голову, что машина и мотор, объективно освобождающие от механически повторяющихся, утомительных усилий, поначалу сделали, на первый взгляд, необходимыми по меньшей мере столько же усилий, сколько они теоретически должны были устранить? То, что Пьер Дени Будрио[XLIII]XLIII
pierre denis boudriot, la Construction locative parмsienne sous Louis XV, Paris, Sorbonne, 1981.
[Закрыть] показал в связи с условиями труда, бывшими в ходу среди строительных рабочих в XVIII веке накануне технологического перелома, следует, однако, сопоставить с докладом Виллерме и теми известными докладами английского парламента, ссылки на которые непременно делаются при упоминании ужасов механизации.
Невозможно изгнать какой-то тяжкий труд, не создав другого, подобного ему.
С количественным методом в истории я освоился до того, как компьютер вошел в быт. Мы с женой провели часы, дни и годы за расчетами, которые компьютер сделал бы много точнее за несколько часов, и его работу тормозили бы только печатающие устройства. Я не уверен, что мои ученики, работающие на компьютере, – и у которых, благодаря Богу, работа спорится куда лучше, чем у меня, а получают они при этом решения задач, прежде совершенно неразрешимых для меня, – оказываются свободнее меня от наводящих скуку дел. Проверка распечаток для меня – ненамного увлекательнее, чем подсчеты на моей маленькой счетной, щелкающей машинке, когда появление результатов вызывало несомненную радость.
Нельзя, следовательно, полностью избавиться от всего того, что наводит скуку. Длительное продвижение вперед по прямой не спасает от кое-каких разочарований. По поводу кризиса 1980-х годов я во многом согласен с Орио Джарини[XLIV]XLIV
orio giarini et henri loubergй, la Civilisation technicienne а la derive, Dunod, 1979; Pierre Chaunu, Histoire et imagination, La Transition. P.U.F., 1980; Orio Giarini, Dialogue sur la richesse et le biеп-кtre, Economica, 1981.
[Закрыть]; есть, по меньшей мере, один пункт, где мой анализ становится составной частью доказательства, предложенного этим блестящим экономистом. У меня перед глазами – о многом говорящая диаграмма рыбных промыслов[XLV]XLV
orio giarini, Dialogue sur la richesse, op. cit., p. 14.
[Закрыть]. Бывает, – и уже бывало, – что в морях, где ведется хищнический лов рыбы, рост численности и производительности траулеров приводит к общему сокращению объема улова. Наше время – время эпипалеолита в том, что касается использования океанских богатств. Следует в кратчайший срок перейти к рациональному использованию водоемов. В целом, мы дошли до эпипалеолита в связи с революцией, сопоставимой по меньшей мере с революцией неолита. Головокружительно быстрое развитие, наблюдавшееся в экономике в 1945–1975 годах, знаменует завершение явного прогресса этого рода, свое начало берущего за десять тысячелетий до того. Мы только что вступили в такую фазу истории, когда ценности традиционной цивилизации: воспроизводство человеческой жизни, воздух, вода, энергия – должны фигурировать в отдельных графах Большой книги бухгалтерского учета. Ведутся дискуссии по поводу энергии, воздуха и воды; пожалуй, только человека новые эксперты никак еще не решатся учитывать в своих расчетах[XLVI]XLVI
vox clamantis in deserto.(Глас вопиющего в пустыне (лат)) Мы писали, подсчитывали, доказывали, подсчитывали, показывали, и всё попусту. См. De L'histoire а la perspective, Laffont, 1975; le Refus de la vie, 1975; La peste bianche, Gallimard, 1976; Un Futur sans avenir, Calmann-Lйvy, 1979; Histoire et imagination, P.U.F., 1980.
[Закрыть].
Прямолинейное развитие не может идти бесконечно. Орудие выстроило мозг, обращение с орудием побуждает к изобретательству.
Труд постепенно теряет статус единого целого. С той же неумолимостью он сосредотачивается на двух полюсах, расстояние между которыми, видимо, все время растет. Невозможно полностью избавиться от скучного однообразия. Подобно зыби, вновь и вновь разбегающейся за кормой корабля, постоянно воссоздаются томительно-однообразное и легкое. И это проклятие, звучащее из книги Бытия, оказывается, подобно проклятиям, исходящим от Бога, подлинным благословением.
Нам необходим отдых в виде наводящих скуку и безбурных трудов. Я уже упоминал компьютер. Благословенна будь необходимость считывать распечатки, набирать на клавиатуре цифровые данные! Ваш мозг не в состоянии непрерывно работать в режиме активного изобретательства. Руководство хорошо организованным производством не сулит вам ничего, кроме тягот. Когда всё полностью автоматизировано, вам остается иметь дело с неполадками механизма. Полное освобождение посредством машины, а затем и мозговых ортезов в виде машин для ускоренного и надежного выполнения несложных интеллектуальных операций приводит к тому, что мозг работает только в режиме максимального напряжения своих способностей.
Не будь легких, наводящих скуку задач, мы умерли бы. Мы обречены стремиться к тому, чтобы избавиться от них, но следует уповать на то, что сделать нам это никогда не удастся. Коала – чудесный зверек, отлично приспособленный к жизни: ведь у него на лапах есть крючки, которыми он успешно цепляется за кору эвкалиптов, листья которых – его единственная пища. Коала, символ торжествующего правоверия, представляет собой противоположность изощренному человеческому уму. Полный успех наших планов, полная удача, которой увенчалось бы наше стремление истребить автоматизм наводящего скуку однообразия действий, превратил бы нас в коала чистого размышления. Хорошо, что мы в этом никогда не преуспеем. Проклятие-благословение, о котором говорится в книге Бытия, пребудет с нами навеки во имя нашего спасения.
* * *
Случись вам воистину испытать «удрученность и душевную тяжесть», столкнуться с несчастьем – или случись несчастью по-настоящему натолкнуться на вас, – и вы почувствуете, каким великим благом является утомительная, легкая задача. Если же, не дай Бог, такой день настанет, то пусть у вас не будет недостатка в подлинном, утомительном, однообразном и легко выполнимом труде. Возможно, именно поэтому женщинам, у которых к тому же есть еще способность плакать, обычно легче, чем мужчинам, переживать подобные испытания. Дело в том, что женщины умеют – во всяком случае, долго умели – уходить с головой в будничный труд, в мелкие бытовые дела. Уход за цветами на могилах, устройство поминок, сложные погребальные обряды в традиционных обществах составляют часть мудрости, утраченной нами от избытка знания.
* * *
Прекраснейший труд – труд ремесленника и ваятеля, особенно такого, который работает по железу; и то же относится к тому, кто имеет дело со словами: есть, к счастью, в ходе подготовки книги пора, предшествующая написанию книги, и другая, сразу после этого последнего, когда всю работу можно делать дома; она не отрывает вас ни от родного очага, ни от соседей, ни от того места, которое вы избрали для себя в качестве родного очага и родины, места, где живут ваши друзья, а еще лучше – соседи, где вас окружают чувства нежной привязанности, где вы живете под сенью всей совокупности привычек, благодаря которым ваша жизнь течет без напрасных усилий, а вы сами ощущаете себя прочно стоящим на своем месте, – и когда мысль, свободная от всего ненужного, может идти своим путем, взвешивая и оценивая всё то, что определяет ее движение, находя опору в самой себе, подобно тому, как мои ноги находят опору на земле.
Я знаю, что такой труд – удел немногих, и это меньшинство сильно не властью или достатком. Я по-прежнему утверждаю, что ныне в наших силах расширить круг тех, на кого распространяется не всем доступная возможность вести подобный образ жизни и труда, включив в него более или менее всех тех, кто сделал бы соответствующий выбор.
Для этого потребовалась бы доподлинная революция. Ведь надо заново осознать, чем является труд – это ненавязчивое принуждение, которое воистину освобождает нас, а вместе с тем представляет собой право каждого. У любого человека до самой смерти есть право на труд, соответствующий его силам. То общество, которое выражает готовность обеспечить трудом молодежь, лишая этого права престарелых, доказывает, что у него не больше понимания труда, чем понимания жизни.
Я верую, что я – это та свобода, которая неприметно, при посредстве моих рук и моей мысли, формирует мир.
Нет более бодрящей мысли, чем мысль о том, что вы существуете в существующем мире. Труд, утомляющий мои мышцы и мой ум, создает, как мне представляется, будничную, повседневную основу моего сознания относительно доподлинности нашего истинного мира.








