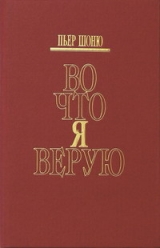
Текст книги "Во что я верую"
Автор книги: Пьер Шоню
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Вернемся к разрушительному радикализму Беркли: «Суть английского идеализма состоит в том, что он рассматривает пространственную протяженность как одно из свойств ощущений, даваемых в осязании. Поскольку в доступных ощущению качествах он усматривает только ощущения, а в этих последних – только настроения»[XXXIV]XXXIV
henri bergson, Matiиre et mйmoire, op cit., t.I, p. 347.
[Закрыть], то, следовательно, не существует поистине ничего такого, что мы могли бы познать за пределами самих себя.
«Но в свою очередь атомистический реализм [я имею в виду теорию познания у Ленина], который помещает движения в пространство, а ощущения – в сознание, не может обнаружить ничего общего между изменениями или феноменами пространственной протяженности – и ответными ощущениями». Или ничто не существует за пределами восприятия того, кто воспринимает, – или ум распадается, я больше не существую, существует одна только механика мира, а я – всего лишь его порождение.
С одной стороны, запутанную реальность мира я принес в жертву моей собственной очевидности; с другой, свою собственную очевидность я растворил в простодушной и горделивой иллюзии мира, который мне заблагорассудилось вообразить подобным большой, бессмысленной машине.
* * *
Непросто выбраться из этих противоречий, избежать того, чтобы очевидность осознания не поглотила мир, столь отвлеченный, столь несоизмеримый с нами самими, что теряется возможность уверовать в него; того, чтобы удобная логика всемирной механики не сводила нас к ней и чтобы предмет, рассматриваемый нашим разумом, не поглотил творческий ум и не преуспел, при нашем соучастии, в том, чтобы низвести нас до вещи, короче говоря – чтобы он «овеществил» нас, как было модно говорить во времена владычества Сартра над СенЖермен-де-Пре[86]86
Парижский квартал на левом берегу Сены, средоточие левой интеллигенции. Имеются в виду 40—60-е годы XX века.
[Закрыть].
Предоставляю философам найти золотую середину. Если бы я испытывал потребность в связной теории познания, принимающей во внимание и меня, и доподлинность вещей и достаточно близкой здравому смыслу для того, чтобы избежать ловушек простодушного реализма, который есть не что иное как злокачественная опухоль на теле отвлеченного мышления, – то я вновь обратился бы к последним, неизменно удовлетворяющим меня страницам «Материи и памяти» Бергсона.
Что до меня, в быту я обхожусь без профессиональных философов. Я верю, что мир существует, потому что Голос, о котором мы побеседуем с вами позже, говорит мне, что Бог создал меня и что Тот, кто наделил меня бытием, которое не содержится во мне, как Мир не содержит бытия в себе, – наделил меня чувствами, которые не обманывают.
Более того, эти чувства не обязаны говорить мне всё. Приспособления, которыми мы обзавелись, учат меня, что я не воспринимаю и миллионной доли всей совокупности корпускулярных излучений и пучков волн, пробегающих по вселенной. Вот почему я заранее не возражаю против того, что кому-то достался более широкий набор возможностей чувственного восприятия, чем тот, что стал моим уделом. Мне хватает здравого смысла. Хватает полностью.
Я не мог бы верить в то, что я – это то, что я есть, не будь у меня веры и в окружающий мир. Достаточно того, что я знаю, что он есть, – как есть и я. Что до его пространственной протяженности, сложности, разумности, его головокружительной целостности, необъятности и его величия – превосходящих мою способность восприятия, понимания, воображения, – величия успокоительного, подавляющего и не дающего удовлетворения, – то я сомневаюсь во всем этом не больше, чем в самом себе.
Знать – недостаточно; от нас требуется, чтобы мы веровали. Мои предки – художники из Ласко[87]87
Пещера в центральной Франции (неподалеку от г. Сарла), открытая в 1940 году. На ее стенах – множество прекрасно сохранившихся изображений, оставленных людьми, жившими около 13 тысяч лет до н. э.
[Закрыть].
Я верую воистину, верую спокойно, без излишней восторженности, в существование сопротивляющейся мне вселенной, в то, что это сопротивление исходит не только от меня, но и от нее. Вспоминается древняя молитва:
«Небеса проповедуют славу Божию,
и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2).
Я с любопытством жду того, что принесут нам наши прекрасные устройства для улавливания сигналов. Я внимаю работе разума над информацией, ее успехам, ее промахам. Историку, каким я являюсь, ведомо, как шагает вперед познание: от одной описки до другой; ведомо, насколько нечетким становится звук, когда к нему слишком прислушиваются, – и насколько благозвучно пение, когда его слушают, стоя поодаль.
Я не верю в восприятие, утратившее целостность. Мне достаточно знать. Я не верю в бессмысленные, противоречивые и поспешные попытки применить к одним вопросам обобщения, полученные в результате исследования областей, не имеющих с ним ничего общего. Я верю, что существует вселенная там, где есть и я. Я верую без излишней восторженности, но в это я тоже верую неуклонно.
Глава VI Этот истинный мир, в котором я пребываю: семья как материнское лоно
Важность какой-либо проблемы не измеряется количеством страниц, посвященных ей в учебнике истории философии. Подобно Жаку Моно, не верившему в повседневном течении своей мужественной, наполненной активной борьбой жизни, в придуманную им систему, – ни Беркли, ни многочисленная семья мыслителей XIX века, идеалистов или материалистов, так и не усомнились, в ходе будничной смены дней, в реальности мира или в неповторимости сознания, складывающегося под влиянием текущего момента, воспоминаний и устремлений в будущее.
Удавалось ли вам когда-либо вырваться из материнского лона? Пожалуй, весь мой жизненный опыт подтверждает, что это лоно остается прибежищем, истоком, средоточием любой тоски по прошлому. Мир, в который я верю, окружает меня, а истинное мироздание, в котором я пребываю, выстраивается, если брать за основу ту полость, в которой я свернулся клубочком. Человечество шаг за шагом стало для меня этой семьей, этим домом, этим кварталом, этим церковным приходом, этой страной и т. п.; точно так же в мире, в котором я пребываю, содержится окружающий меня мир, родной и надежный.
Я не перескакиваю от общего к частному, я не верю в системы, которые выводят опыт моего самосознания и ощутимого мира, в котором я пребываю, из какой-то системы истолкования мира. Для меня предпочтителен путь в обратном направлении: от частного к общему, от достоверности к неуверенности. Индукция представляется мне способом более надежным, чем дедукция, и я никогда не променяю ястреба на кукушку.
Как и все живые существа, я привязан к своей берлоге. Я люблю свою семью, свой дом, люблю без всякого на то принуждения тех, с кем обычно встречаюсь; я не могу пресытиться ни людьми, ни вещами. Чем больше я их узнаю и имею с ними дело, тем дороже они мне становятся. Я неохотно расстаюсь с воспоминаниями, точно так же как по своей природе я склонен оставаться там, где нахожусь. А будучи историком, я по своей природе подвержен искушению оправдывать эту склонность своего характера прошлым всего рода человеческого.
У этого вкуса к домашнему очагу – очень далекие истоки, куда более древние, чем сам человек. У наиболее сложных животных есть свои ареалы обитания. У всех охотников есть привычные места охоты, где у них – своя «берлога»: «дичь, ставшая дикарем», научилась охотиться, да еще сообща, что усовершенствовало ее навыки: так, потребность в собственном логове коренится в той части нашего существа, которая восходит к временам намного более ранним, чем первая могила, к «до-истории», протекавшей миллионы лет назад.
Эта черта вполне сложившегося человека не слабеет. Более того, всё ее усиливает. Прежде всего, незащищенность беременной женщины. Стоит ли напоминать о том, как наш объемистый мозг бросил вызов рождению: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей», – гласит книга Бытия (3: 16). Объемистый мозг подвергает тазовый пояс конечностей женщины опасному испытанию: ведь у новорожденного объем черепа – ограниченный: лишь 23 % от этого объема у взрослого; а у обезьян он составляет 60 %. Иначе говоря, тесно сжатые нейроны человеческого мозга должны получать более свободное развитие в три первые года жизни, образующие за пределами материнского чрева как бы продолжение «внутриматочной жизни», когда овладение речью приводит к образованию пар нейронов. В этом – одна из причин сказочных успехов, достигнутых в эпоху неолита; всё, что относится к корням человека, охраняет и обогащает его. Биологической необходимостью становится защита женщины и ребенка от бесприютности при рождении. Биоантропологи, изучавшие наши истоки, отметили необычность почти постоянной способности женщины к зачатию, равно как и присущего только человеку фронтального коитуса. «Это животное пьет, не испытывая жажды, и занимается любовью во всякую пору», говаривал всеведущий Вольтер, легкомысленная усмешка которого плохо скрывает тревогу. Тяжкое бремя воспитания, всё возрастающее давление культурной памяти, прохождение этапа культуры, когда все наши усилия уходят, в конечном итоге, на программирование и на перепрограммирование, карают за бесприютность.
Нужда обрекает нас на оседлость. Привязанность к своему жизненному пространству ощущается у крестьян, получающих больше от природы, на которую оказывается удачное воздействие, еще сильнее, чем у охотников. Всё происходит так, как если бы по мере своего сужения пространство сосредотачивало в себе всё больший эмоциональный заряд. Обработанная земля – не дар природы; крестьянин привязан к плодам рук своих; то же можно сказать и о его предшественниках, память о которых он хранит, и эта память, благодаря устной традиции, охватывает целый век.
Я вышел из крестьянского рода с двойной основой. С одной стороны, это граниты и гнейсы Лимузена, одной из земель, заселенных с самых давних пор. Родные места семьи моего отца – неподалеку от Ла Ша пелль-о-Сен[88]88
Буквально: «Часовня со святыми» – коммуна в центральной Франции, вблизи г. Брив.
[Закрыть] с ее могилой, вырытой примерно 45 тысяч лет назад – одной из пяти древнейших могил, официально зарегистрированных как таковые. С другой – это иная Галлия, Галлия open fields – открытых полей, привычных для народов, пришедших с Дуная по крайней мере 6–7 тысяч лет назад и обладавших более совершенными приемами обработки земли. У края возвышенности Мёзы я нахожу виноделов, для которых оседлость особенно характерна; ведь нужны века, чтобы развести виноградник. В краю виноградарей воздействие человеческой руки особенно заметно. Больше других крестьян привязаны они к земле: ведь они всю её в буквальном смысле притаскивали на своих спинах, особенно вечерами после грозы, когда земля сваливается с холма, на который ее приходится таскать обратно целыми мешками.
Разумеется, эта история не вписана в наши хромосомы, поскольку наша биологическая память чрезвычайно ограничена: мы умеем формировать свое тело, мы умеем вырывать у внешнего мира свою сущность, то есть то, чем мы непрерывно становимся. Мы умеем делать это, не штампуя безликие копии. «…Еле заметные изменения преобразуют природу и строение аминокислот, из которых состоят протеины нашего тела…»[XXXV]XXXV
pierre paul grasse, в «Maiastra», Plon, 1979, ρ. 113.
[Закрыть]. Не существует двух полностью подобных гемоглобинов. Подпись на картине моего тела поставили очертания моего носа, контур ушной раковины, узоры на коже пальцев, используемые в судебной практике при установлении личности. Все 10[11]11
Согласно нумерации Псалтири, принятой в западной традиции, – 90-ый.
[Закрыть] нейронов моего мозга отличаются от 10[11]11
Согласно нумерации Псалтири, принятой в западной традиции, – 90-ый.
[Закрыть] нейронов вашего мозга, а в основе всего этого – мой собственный генетический код, неповторимый, как и я сам. Уж не эта ли химия, накладывающая свою метку на мое существо в самых потайных его основах в знак моей неповторимости – такой, что Бог, которому не под силу утратить меня, сохраняет меня, «мои обстоятельства» и мою временную протяженность, что превращает мое будущее в прошлое, внутри вечной своей памяти, – уж не эта ли химия порождает во мне гипертрофированное, неистребимое чувство «берлоги»? – Возможно. Но гораздо больше к этому приводит пресловутая передача «из руки в руку», присущая культурной памяти, памяти о мраке времен, завещанной мне той, что склонялась над моей колыбелью. Именно посредством воспитания, речи, поступков первых лет жизни передаются таким образом из поколения в поколение следы и наваждения первобытных эпох.
Все люди любят родные места, дома, семейную обстановку. Я из тех, кому это чувство особенно близко, оно стало как бы моей второй натурой. У меня есть корни, и мне кажется, что это черта людей из моих краев.
* * *
Если нас так волнуют места, то это оттого, что с ними связываются присутствие и воспоминание, эта разновидность присутствия тех, кого мы любили. Подумайте и о могиле. Я родом из того мира – так хорошо описанного Филиппом Арьесом[89]89
См. Филипп Арьес. Чаловек перед лицом смерти. М., «Прогресс-Академия», 1992.
[Закрыть] – где царил культ кладбищ. Незадолго до 1930 года, когда предстояло открытие усыпальницы в Дуомоне[90]90
Там погребены останки павших в битве под Верденом в 1916 г.
[Закрыть], Верден сыграл роль Сантьяго-де-Компостелы[91]91
Город в Испании, старейшее место паломничества христиан со всей Европы. По преданию, там погребен апостол Иаков (по-испански Сантьяго).
[Закрыть] для внецерковных христиан, роль центра республиканского культа кладбищ. Возможно, именно из духа противоречия я почти не испытываю потребности предаваться размышлению над чьей-то могилой, но я вполне понимаю это чувство у других людей. Оно мне, стало быть, понятно, и я чту его и уважаю как выражение духовного здоровья, искренности, стремления к порядку и сплоченности.
Могила: эту присущую нам потребность в каком-то месте, в клочке земли, который достоверно хранит останки того, что было телом, эту присущую нам потребность, чуждую мне, я ощущал у ряда любимых и почитаемых мной людей. Их потребность и ее выражение научили меня любить те действия, с которыми в таком множестве я сталкивался в детстве. Могила, невозможность посетить захоронение близких – со всем этим мне самому довелось иметь дело самым непосредственным образом, когда я оказался среди французов, репатриированных из Северной Африки. Поистине, утрата этого добра было и остается единственным, что делает их безутешными в полном смысле слова. Им был нужен этот клочок земли. И на наши кладбища из Северной Африки доставляли полные лопаты земли, над которыми воздвигались простые, смиренные, бередящие душу памятники умершим родным. Моей соседкой была крестьянка из округи Ож. В 1962 году ее сын – священник-католик – погиб от несчастного случая. Больше у нее не оставалось никого. В течение всех своих последних пятнадцати лет жизни эта набожная женщина высокой души и нравственности (которая в своей вере могла бы почерпнуть куда более красноречивое успокоение, чем то, что она и так носила в своем сердце), каждодневно приходила молиться и ухаживать за цветами на место захоронения останков сына.
Крестьянская привязанность к местам сродни, привязанности к могиле; места – читайте Френсис Э. Йейтс – это сопутствующие им воспоминания, и в этом – тайна великого искусства античной риторики. Не знаю ничего более мучительного, чем постепенно тускнеющий в памяти облик близкого вам человека, которого уже нет в живых. Вы чувствуете себя предателем.
И в это мгновение меня охватывает ненависть к самому себе. Для стариков, с которыми я провел юность, для деда и отца (проводившего после утомительной недели две ночи в поезде ради десяти минут над могилой) могила моей матери была местом, где сосредотачивалась их память. Все прочее в их сознании существовало на основе этого места в пространстве и, скажу также, во времени. До открытия относительности нашему XIX веку, который стараниями неугомонных болванов ежевечерне предстает на телеэкране в подло обезображенном и гнусно окарикатуренном виде, удалось создать вокруг кладбищ вполне ощутимое пространство-время. Кладбища христианского сообщества лепились к церквям. На них находили пристанища те, кто не могли быть погребены в более достойном, священном пространстве самой церкви. Перелом во Франции произошел во время Консульства[92]92
1799–1804 годы.
[Закрыть]. Кладбища были оттеснены на склоны холмов. Уделом умерших, а также живых, преданных культу воспоминания, стали прекрасные пейзажи. Могила становится центром пейзажа. Пейзажа, организующего пространство-время воспоминания. Своим отношением к могилам XIX век просто-напросто покончил с тем «лирическим отступлением», каким было широчайшее распространение христианской убежденности в обществе, и восстановил связи с неолитом. Местоположение кладбищ варваров, раскопки на которых проводят декан де Боюар и д-р Дастюг, приводят мне на ум пристрастия XIX века. Кладбище, определенное обществом как объединение храмин умерших, превращается в locus, в центр, в средоточие, в место, на котором зиждется гравитационное поле воспоминания. Разумеется, к местам нас привязывают дорогие и, никогда не устану повторять, любимые нами люди, которые, по излюбленному присловью Эдгара Морена, шагали, шагают и будут шагать бок о бок с нами. Места – это не что иное как места встречи живых с живыми и, чем дальше мы уходим по нашей временной протяженности, – встреч живых с воспоминаниями, места, где всё больше ощущается ласковое и бодрящее присутствие умерших.
Те, кто прибегает к сожжению трупов, находятся в меньшинстве (менее 1 % на протяжении истории). Таких больше всего среди населения, находящегося на достаточно высоком уровне развития: для него существует уголок неба, хранящий воспоминание о покойнике, участок на небесной карте, куда дым от погребального костра унес вместе с пламенем живой огонь душ тех, кто покинул пространство-время. У старейших крестьян, которых в раннем детстве я узнал на возвышенности Мёзы, кладбище находилось прямо посредине пространства-воспоминания; так в сердцевине переплетения наших привязанностей находится семья.
Мы – существа, наделенные разумом. Но в еще большей мере нам свойственны эмоциональные привязанности и желание. Недавно Рене Жирар добился бешеного успеха, дав понять средствам массовой информации, позаботившимся о повсеместном распространении этой долгожданной мысли, что все мы представляем собой преопаснейшее животное. Об этом вам напомнят при посещении лондонского зоопарка: да, вы весьма злобное животное; будучи сбившимся с пути истинного участником совместной охоты, вы предаетесь межвидовому насилию, что наблюдается только среди переживающих течку самцов, буйствующих вокруг охваченных любовным жаром самок в пору очень короткого периода спаривания. И так как вот уже десять миллионов лет вы подбираете камни и уже около двух миллионов лет совершенствуете свое оружие, то следует срочно поставить подпись под Стокгольмским воззванием и провести демонстрацию яростного протеста против применения нейтронной бомбы.
Рене Жирар осуществил талантливый – почти чересчур талантливый – анализ этой важнейшей проблемы. Выявив связь между священным началом и необходимостью вырваться из этого страшного заколдованного круга – разорвать взрывоопасную цепь насилия, которому человек предается против себе подобных, что мы и называем межвидовым насилием, – Рене Жирар обнаруживает почти, как ему представляется, единственную причину, остающуюся скрытой с тех пор, как возник мир. Он называет ее «мимесис», то есть подражанием. С того времени как две руки протянулись за одним и тем же бананом, мы пребываем в состоянии постоянной войны. Вам теперь об этом уже не забыть: слишком усердно вас об этом уведомляли.
Рене Жирар наделен не только талантом. И его книги – одни из немногих по-настоящему ценных. Но мне не верится, что дело обстоит именно так просто, как он дает понять.
В качестве историка я не раз изучал это насилие. Наши социальные системы, да и сама война, уменьшили численность потерь. Это мне достоверно известно. В пору племён, до становления древнейших государств в виде независимых объединений на основе общности религиозных и политических установлений, смертность от насилия, к которому прибегали люди, составляла 10 % от общей смертности. С 1744 до 1974 года мы, к счастью, снизили этот показатель до 0, 8 %: мы опираемся на явно несколько заниженные данные Бутуля и Каррера. Бесспорным представляется сокращение с 10 % до 1 %. Справедливым будет отметить, что всякое общественное устройство призвано поглощать насилие. Такое усилие обходится дорого, но затраты оказываются оправданными.
Ненависти в сердце у нас больше, чем способности мыслить здраво, но чрезмерно сосредотачиваться на этой оценке значило бы рассматривать историю в перевернутый бинокль. Прежде всего не будем забывать о другой стороне медали. Нам ведомо чувство ненависти, но у нас есть еще и любовь, дружба, нежность.
И главным местом проявления нежности является семья. Безусловно, существует круг, в котором чувство проявляется особенно сильно. Для большинства современников в этой стране – и ни во времени, ни в пространстве я не нахожу заметных исключений из этого правила – таким особым местом, где сосредотачивается любовь, что живет у нас в сердце, оказывается семья. После безумных нападок на семейную ячейку средства массовой информации, которые им потворствовали, удивляются данным опросов общественного мнения, согласно которым эта ячейка оказала должное сопротивление и по-прежнему владеет ключом к сердцам. Не все те, кого мы любим, будьте дорогие нам друзья или близкие, составляют часть узкой или расширительно понимаемой семьи. Главным конкурентом и поныне остается место нашей деятельности, производственный организм – и так происходит с тех пор, как место нашей профессиональной деятельности отдалилось от домашнего очага. Но за семейным кругом остается львиная доля привязанностей, и любая ячейка эмоциональной жизни выстраивается наподобие семейной, получая словесное выражение в терминах семьи.
Довольно любопытно, что Литтре, обычно находящий более удачные решения, исходит при определении слова «семья» из производного значения: «У римлян – совокупность слуг и рабов, принадлежащих одному и тому же человеку…», «В дальнейшем то же слово применяется ко всем лицам, родственникам или нет, хозяевам или слугам, проживающим под одной крышей», «Совокупность единокровных лиц», «Единокровные лица, проживающие под одной и той же крышей, а в особенности – отец, мать и дети». Таким образом, исходный смысл появляется только на четвертом месте. Заблуждение Литтре показательно и широко распространено в то время. Семья-ядро, приобретающая в XIX веке главенствующее значение повсюду, выступает как недавняя форма по сравнению с ее расширенными разновидностями, которые она постепенно вытесняет. Ле Пле и его школа, борющиеся за возвращение к разветвленной семье (famille-souche, stem family) – образцу всех античных добродетелей, также полагают, что семья, низводимая до супругов и их не порвавших с отчим кровом отпрысков, оказывается одним из следствий распада, связанного с городским укладом и развитием промышленности.
Опираясь на антропологию и на количественный метод в истории, мы можем утверждать, что ничего подобного не происходит, что супружеская ячейка и есть древнейшая и основополагающая форма. На деле она сосуществует с расширенными семьями, где в ходу обмен женами в узком кругу (эндогамия), что предполагает узкое понимание кровосмешения, или в широком (экзогамия) – с расширенным понимание кровосмешения. Это подтверждается и Библией как антропологическим свидетельством, в том повествовании книги Бытия, где сосуществуют узкая и расширенная семьи. Первой появляется узкая (теперешняя?) семья: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). В этом повествовании, где женщина предшествует мужчине после того как Адам нарек именами все тварное, выражение «вот, на этот раз это она»[93]93
Цитируем по французскому тексту.
[Закрыть] четко отражает то обстоятельство, что все прочее в творении для человека ничего не значит; в это мгновение все прочее лишено ценности, важности: «Вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей». Женщина, возникшая из одной из форм семейного владения имуществом по отцовской линии и такой же – по женской, есть именно «кость от кости моей» мужчины, как мужчина есть «плоть от плоти моей» женщины. Выше (Быт 1: 27), в первом повествовании о сотворении мира, использована не менее сильная и лаконичная формулировка: «И сотворил Бог человека по образу Своему… мужчину и женщину сотворил…» (ish u isha). Двадцать три хромосомы с одной стороны, двадцать три с другой. Человек является таковым лишь в образе мужчины и женщины… А второе повествование (Быт 2: 23–24), гласящее: «Кость от костей моих, плоть от плоти моей! она будет называться isha (женою): ибо взята от мужа», – представляет собой объяснение на основе семантической деривации, которая сама выражает плотскую и эмоциональную взаимодополняемость. И текст заключает: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою; […] и будут одна плоть». Перемена места, captatio amoris[94]94
Искание любви (лат.).
[Закрыть], верховенство брака и перемещение мужчины к женщине – невозможно и помыслить о более полном, более совершенном и более немногословном определении верховенства брачного nucleus'a[95]95
Ядра (лат.).
[Закрыть] в семейной иерархии, содержащемся в тексте, который возник три тысячелетия назад.
Верховенство брачной ячейки – это данность культуры, получившая практически всеобщее распространение. У нее благоприятная естественная основа: имеются в виду постоянный характер полового влечения (физиология пригодности самки к оплодотворению представляет собой наукообразное выражение вольтеровской готовности «заниматься любовью во всякую пору»), несамостоятельность и уязвимость женщины в конце беременности и полная несамостоятельность и уязвимость ребенка в течение, по крайней мере, первых десяти лет жизни, безоговорочная необходимость перестройки культурной программы. Американские антропологи, не без юмора, в котором обнаруживается истинно английское происхождение, отмечают, что не будь этой пригодности самки к оплодотворению, эти мужланы-самцы, щедро наделенные мышечной силой, никогда не дали бы заманить себя в ловушку, а род человеческий утратил бы жизнеспособность. Но дело-то в том, что самцы тоже готовы предаваться любви во всякую пору. В несовершенстве нашего словоупотребления (исключений в этом смысле в языках человечества немного) четко отражается еще одно последствие нашей природы. К «готовности к спариванию» наши друзья-антропологи добавили «совокупление лицом к лицу». Пожалуй, нет нужды прибегать к псевдонаучной, напичканной педантизмом стилистике, чтобы напомнить о том, что в «заниматься любовью» есть не только «заниматься», но и «любовь». Наш объемистый мозг уделил чрезмерное место страданию и удовольствию в процессе, обеспечивающем выживание рода человеческого, – а главное, вызвал прямо-таки взрыв воображения.
Каждая живая клетка – это сказочно сложный, замкнутый и обороняющийся мир. Мы представляем собой совокупность тридцати миллиардов (или больше) постоянно обновляющихся клеток, с бою добывающих нам жизнь у окружающей среды. Мы – это сознание нашего бытия, отражающее, начиная с какой-то точки в пространстве-времени, частицу мироздания с тем, чтобы попытаться сформулировать воспоминания. «Я» – в плену у индивидуальности; любить – значит разбить оковы, вырваться из тюрьмы, которую я сам себе сооружаю. Французский язык Средневековья настойчиво описывает «друзей во плоти». В Библии говорится: «кость от костей моих, плоть от плоти моей», «и будут плотью единой».
Ребенок – плоть от плоти моей. Кормилица извлекает пищу из себя, плотский контакт в половом акте – это контакт эпидерм, проникновение плоти. Но если весь этот контакт присутствует у животных (млекопитающих), он является всего-навсего точкой отсчета, педагогическим упражнением у человека.
В своем классическом труде «Элементарные структуры родства»[XXXVI]XXXVI
claude lйvy-strauss, les Structures йlйmentaires de la parente, 1948. 2-me йd., 1967, Plon.
[Закрыть] Клод Леви-Стросс[96]96
Французский этнограф и социолог (р. в 1908 г.).
[Закрыть] пишет: «Человек – это кровосмешение». Во всех человеческих обществах наличествует признание и осуждение кровосмешения. Жак Рюффье[XXXVII]XXXVII
jacques ruffiй, De la biologie а la culture, Rammarion, 1976.
[Закрыть] даже усмотрел в общественном осуждении кровосмешения одну из причин объединения рода человеческого. Ибо подлинное кровосмешение произошло между Лотом и его дочерями, между отцом и его дочерями. Считается, что резко выраженные мутанты «до-истории», совокупляясь с женщинами своего племени, ускорили продвижение в сторону увеличения объема мозга. Пускай ответственность за это замечание ляжет на антропологов, исследующих наши отдаленные истоки. Сам я, напротив, вполне заодно с Клодом Леви-Стросеом и с тем, что он пишет о кровосмешении.
Полное кровосмешение – отцовское. Невзирая на Эдипа, жертву злосчастного стечения обстоятельств, кровосмешение между сыном и матерью менее вероятно. Если отвлечься от развитого человечества, создается впечатление, что у некоторых видов – в частности, у обезьян – уже существует преграда, возбраняющая сношения между матерью и ее взрослыми детенышами.
Признание факта отцовского кровосмешения предполагает наличие множества условий, выступающих как множество шагов вперед. Совокупляющаяся чета должна быть устойчивой, а отец включен в процесс продления рода. Требуется длительное совместное проживание; оно необходимо для перепрограммирования приобретенных культурных навыков и для работы культурной памяти – памяти чисто человеческой. Ведь ничто из приобретенного нами в ходе нашей жизни не в силах перешагнуть так называемый вейсмановский порог[97]97
Так называемый порог Вейсмана отделяет клетки зачаточные от клеток тела, soma. То, что накладывает отпечаток только на soma, не передается.
[Закрыть]. То, что откладывается в нашем мозгу за счет этих приобретений, по-видимому, не переходит от 46-хромосомных клеток к зачаточным клеткам, состоящим из 23 хромосом. Вот почему большую часть жизни мы используем для заучивания и обучения, что очевидным образом предполагает постоянное пребывание супружеской четы возле очага. Отцовство – первое приобретение человечества. Но оно осуществляется через женщину. До того как полюбить ребенка, отец любит ребенка любимой им женщины. Еще до того как стать плотью от плоти его, ребенок есть плоть этой женщины, Евы, о которой, согласно тексту книги Бытия, Адам говорит, что она есть «кость от костей моих» и «плоть от плоти моей».
Устойчивая супружеская семья, семья, основанная на браке, есть доподлинно естественный образец. В случае человека «естественный» всегда означает «культурный». И так как культурное начало недолговечно, то есть не может неоднократно преодолевать преграду в виде смерти путем противоречащего природе воспроизведения программы, то весь культурный «набор» никогда не выходит надолго за пределы естественного. Потребовалась вся роскошная пышность периода, последовавшего за неолитом, чтобы в чем-то не схожие системы смогли стать частью временной протяженности. Это относится к полигамии среди пастушеских лидеров и владык древнего Китая.
В результате полигамии, которая, в силу преобладания особей мужского пола при рождении (106 мужских особей на 100 женских[98]98
Со времен неолита преобладание мужских особей уравновешивается возрастающей выносливостью женщин. В пору палеолита женщины умирают в более раннем возрасте в силу кочевого образа жизни во время беременности; таким образом, в обществах палеолита насчитывалось больше мужчин, чем женщин; в обществах после неолита было, напротив, больше женщин, чем мужчин.
[Закрыть]), может обеспечить выход из положения лишь в чрезвычайно ограниченном числе случаев, намечается ведущее место в обществе расширенной семьи – genos, gens. Возможная опасность насилия не столь велика между «друзьями во плоти», между теми, у кого сильнее звучит не ненависть из-за соперничества, а дружба, порождаемая общностью крови и по меньшей мере в такой же степени совместным проживанием детей в расширенных фратриях. Внутривидовому насилию нелегко сплошь и рядом проникать за охранительную ограду семьи – даже тогда, когда она расширенная. Зато уж если в ней поселилась ненависть, то, без всякого сомнения, она принимает окраску и размах, символом которых, с точки зрения окраски и размаха, стали Атриды. Но если любая великая литература с тяжеловесной настойчивостью описывает крупномасштабные проявления ненависти, сопоставимые с любовью, по отношению к которой они выглядят как негатив и индикатор, – то именно оттого, что с выражением средствами искусства этих опасных уклонений от нормы связываются надежды на то, что оно сыграет роль катарсиса, необходимого для дальнейшего существования общества.








