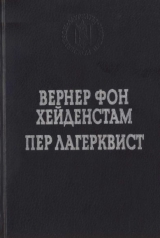
Текст книги "Улыбка вечности. Стихотворения, повести, роман"
Автор книги: Пер Лагерквист
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Помню, сделал я это потому, что пришлось мне стеречь человека, который говорил, что он спаситель. Он хотел пострадать и умереть за вас и тем принести вам спасенье. Он хотел снять с меня мое бремя.
Я не находил в словах его смысла, ибо видел, что он слаб и маломощен, не наделен и обычной мужскою силой, и я лишь смеялся над ним. Он звал себя мессией и проповедовал мир на земле – и за это был осужден.
Еще ребенком он понял, что должен пострадать и умереть за людей. Он много рассказывал о своем детстве – они всегда рассказывают о детстве, – о стране, которую он называл Галилеей, будто бы дивно прекрасной – всегда они так говорят. Там было множество лилий в горах вешнею порой, он стоял среди них и глядел окрест на светлые луга и понял тогда, что он – сын божий. Он был несчастный безумец, я в этом убедился, едва начавши слушать его речи. И пока он на них глядел, открылось ему, какое слово он проповедает людям, что он им возвестит, и будет это – мир на земле. Я спросил, отчего ему надобно умереть, дабы они могли жить в мире, но он мне ответил, что так должно быть, таково сокровенное согласие. Ибо так ему сказано его отцом, а под этим разумел он самого господа бога. Он был тверд в своей вере, как доброе дитя.
Но когда приблизилось время его, он убоялся и затрепетал, как другие, и, должно быть, уже не был во всем так уверен, как прежде. Я ничего ему не говорил, он был один со своим страхом, и взгляд его порою уносился, казалось, куда-то далеко. Будто он снова хотел увидеть край своего детства и луга, усыпанные лилиями.
Страх его делался сильней и сильней. Он упал на колени и начал шептать и молиться: «Душа моя скорбит смертельно. Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня!» Мне пришлось тащить его за собою, когда пробил его час.
Крест нести у него едва доставало сил, и он шатался в изнеможении, мне стало жалко смотреть, и я взял его крест и нес за него часть пути. Лишь я это сделал, из других же – никто. Тяжесть была невелика против той, какую я привык нести для людей.
Когда я положил его на крест, то перед тем, как вбивать гвозди, попросил по обычаю прощенья. Не знаю отчего, но мне было больно предавать его смерти. И тогда он взглянул на меня добрыми, испуганными глазами – глазами не преступника, но просто несчастного человека. «Я прощаю тебе, брат мой», – сказал он мне своим тихим голосом. И один из стоявших вблизи утверждал, будто клеймо палача исчезло со лба моего, когда он это говорил, хоть сам я этому не верю.
Я не знаю, для чего он так меня назвал! Но из-за этого одного я тогда словно распинал родного брата. Ни с кем из тех, кто прошел через мои руки, не было мне так тяжело. Когда делаешь то, что делаю я, поневоле приходится время от времени взглядывать на жертву, и он – нет, он не походил ни на одну из прежних моих жертв.
Мне не забыть его глаза, когда он на меня посмотрел! Когда он сказал те слова!
Я так хорошо это помню! Я, сохранивший в себе все голоса и всю пролитую кровь – все, что вами давно забыто!
Отчего я должен страдать! Отчего я должен нести на себе все – ради вас! Отчего я должен брать на себя ваши грехи!
Мне ведь и плетьми пришлось его сечь на темничном дворе, как будто он и без этого не умер бы, – тело его у меня под руками было израненное и вспухшее. И так мне сделалось все постыло, что я едва смог поднять его крест.
Люди же возрадовались, когда я его поднял. Они кричали и ликовали, увидев, что он наконец распят. Я не запомню такой радости на лобном месте, какая была, когда я распял его! И они насмехались над ним, и глумились, и изрыгали хулу на несчастного, пеняя ему, что он возомнил себя их мессией, их Христом, – и что они там еще про него говорили… Они плевали в него, смеясь над его страданьем. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть людей в ту минуту, когда он спасал их. И, быть может, старался думать о том, что все же он царь их и божий помазанник. Терновый венец, ими сплетенный, смешно свесился набок на его окровавленной голове. Мне стало тошно смотреть, и я отвернулся.
Но прежде, чем он испустил дух, сделалась тьма по всей земле, и я слышал, как он громким голосом возопил:
– Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил!
И тогда мне стало совсем невмочь видеть это все. Вскоре затем он умер, что было благо. И мы тотчас сняли его, ибо наступала суббота и нельзя было оставить его висеть на кресте.
Когда все ушли готовиться к субботе и вокруг наконец опустело, я сел там, на лобном месте, средь трупного смрада и нечистоты. И, помню, сидел под звездами до поздней ночи. Тогда-то и надумал я направить стопы свои к богу, дабы с ним поговорить.
И, покинув землю, я отправился в небеса, где хотя бы дышалось вольней и легче. Я шел и шел, сам не знаю сколько. Он обитал ужасающе далеко, господь бог.
Наконец я увидел его перед собою: он величаво восседал на престоле средь небесных просторов. Я устремился туда и приступил к нему, положив свой кровавый топор к подножью его престола.
– Мне постыло мое ремесло! – сказал я ему. – Не довольно ль я его справлял! Пора тебе меня освободить!
Но он сидел, вперившись в пустоту, недвижимый и словно окаменелый.
– Слышишь?! С меня довольно моей палаческой службы! Мне ее долее не вынести! Не могу я жить средь крови и ужасов, средь всего, что свершается твоим попущением! И какой во всем этом смысл, можешь ли ты мне сказать?! Я нес свою службу верно, делал все, что было в моих силах, но нет более сил моих! Мне не выдержать этого! Будет с меня! Ты слышишь?!
Но он меня не замечал. Шаровидные очеса его, пустые и мертвенные, уставлены были в пространство, как в пустыню. Страх объял меня тогда и нестерпимое отчаянье.
– Сегодня я распял твоего единородного сына! – крикнул я в диком неистовстве. Но ни одна черта не дрогнула в суровом, бесчувственном лице его. Оно словно вырублено было из камня.
Я стоял средь холодного безмолвия, и ветер вечности пронизывал меня своим ледяным дыханьем. Что мне было делать? С кем говорить? Не было ничего! Мне оставалось лишь взять свой топор и отправиться обратно тою же дорогой.
Я понял, что он не был его сыном. Он был из человеческого рода, и надо ль удивляться, что обошлись с ним так, как принято у них обходиться со своими. Они распяли всего лишь одного из себе подобных, как было у них в обычае. Я шел, негодуя и возмущаясь, и зяб на обратном пути.
Его не стало, как и других, и он обрел покой. Моя же злосчастная душа осуждена длить сей путь ныне и присно, и во веки веков. Я должен был вернуться на землю и вновь ступить на скорбную стезю – иного мне не дано. Мненикто не поможет!
Нет. Он не был их спаситель. Под силу ль это такому, как он! У него были руки подростка, меня мучила жалость, когда я вбивал в них гвозди, стараясь пропустить их между тонкими костями. Я сомневался, удержится ли он на них, когда повиснет. Под силу ль такому спасти людей!
Когда я пронзил ему бок, чтобы посмотреть, скоро ль его можно снимать, он был уже мертв, намного раньше, чем они обычно умирают.
Какой он был спаситель, этот несчастный! Как мог он вам помочь! И снять с менямое бремя! Какой он был Христос для людей! Я понял, почему служить вам должен я! Почему вы призываете меня!
Яваш Христос, с палаческим клеймом на челе! Ниспосланный вам свыше!
Ради вражды на земле и в человеках зловоления!
Бога своего вы обратили в камень! Он мертв давным-давно. Я же, ваш Христос, я живу! Я – плод его великой мысли, сын его, зачатый им с вами и рожденный, когда он еще был могуч, когда он жил и знал, чего хотел, какой он во все это вкладывал смысл! Теперь он высится недвижно на престоле, подтачиваем временем, точно проказой, и мертвящий ветер вечности уносит прах его в небесную пустыню. Я же, Христос, я живу! Дабы вы могли жить! Я свершаю по миру свой ратный путь и вседневно спасаю вас в крови! И менявы не распнете!
Я тоскую по жертвенной смерти – как когда-то мой несчастный, беспомощный брат. Быть пригвожденным к кресту – и испустить дух, растворившись в глубокой, милосердной тьме! Но я знаю, этот час не придет никогда. Я должен отправлять свою службу, доколе пребудете вы. Мой крест никогда не будет поднят! В конце концов я завершу свой труд, и у меня не останется дел на земле, но и тогда моя неупокоенная душа будет мчаться безустанно сквозь вселенскую ночь в смертной обители отца моего – преследуемая страхом и терзаньями за все, содеянное мною для вас!
И все же я тоскую об этом. Чтобы настал конец, чтобы не множить долее моей тяжкой вины.
Я тоскую о времени, когда вы будете стерты с лица земли и занесенная рука моя сможет наконец опуститься. Тихо, нет больше хриплых голосов, взывающих ко мне, я стою одиноко и гляжу окрест себя, понимаю, что все завершено.
И я ухожу в вечную тьму, швырнув на пустынную землю свой кровавый топор – в память о человеческом роде, некогда здесь обитавшем!
Он смотрел поверх их голов суровым огненным взором. Потом оттолкнул стол и грозно зашагал к выходу.
Он взялся за дверь, но женщина, что сидела возле него и была похожа на нищенку, поднялась с места и заговорила с ним ясным и тихим голосом, и лицо ее светилось затаенным, мучительным счастьем.
– Ты знаешь, что я буду ждать тебя! Я буду ждать тебя среди берез, когда ты придешь, изнеможенный и выпачканный кровью. И ты приклонишь ко мне свою голову, и я тебя буду любить. Я поцелую твой горящий лоб и сотру кровь с твоей руки.
Ты знаешь, что я буду ждать тебя!
Он смотрел на нее с тихой, печальной улыбкой. С улицы донесся глухой барабанный бой – он постоял, прислушиваясь.
Потом взялся рукою за пояс и вышел навстречу мглистому рассвету.
КАРЛИК
© Перевод. В. Мамонова
Рост у меня хороший, 26 дюймов, сложен я пропорционально, разве что голова великовата. Волосы не черные, как у других, а рыжеватые, очень жесткие и очень густые, зачесанные назад и открывающие широкий, хотя и не слишком высокий лоб. Лицо у меня безбородое, но в остальном точно такое же, как у других мужчин. Брови сросшиеся. Я очень силен, особенно если разозлюсь. Когда устроили состязание по борьбе между мной и Иосафатом, я через двадцать минут положил его на обе лопатки и задушил. С тех пор я единственный карлик при здешнем дворе.
Большинство карликов – шуты. Их дело молоть чепуху и фиглярничать, чтоб посмешить господ и гостей. Я никогда до такого не унижался. Да никто и не обращался ко мне с подобными предложениями. Уже сама моя внешность не позволяет использовать меня на такой роли. Наружность у меня неподходящая для уморительных кривляний. И я никогда не смеюсь.
Я не шут. Я карлик, и только карлик.
Зато у меня острый язык, что, возможно, и забавляет кое-кого из окружающих. Но это совсем не то, что быть их шутом.
Я упомянул, что лицо у меня в точности как у всех остальных мужчин. Это не вполне верно, поскольку оно очень морщинистое, все сплошь в морщинах. Я не считаю это недостатком. Так я создан, и мне нет дела, если другие созданы иначе. Мое лицо показывает, какой я есть, не приукрашивая и не искажая. Возможно, лицо должно быть всего лишь личиной, но мне нравится, что мое не таково.
Из-за морщин я кажусь очень старым. Я не стар. Но, как я слышал, мы, карлики, принадлежим к более древней расе, нежели те, что населяют ныне землю, и потому уже рождаемся стариками. Не знаю, так ли это, но если так, то, выходит, нам принадлежит право первородства. Я рад, что я совсем иной породы и что по мне это видно.
Лица всех других людей кажутся мне совершенно невыразительными.
Мои господа очень благоволят ко мне, особенно герцог, человек незаурядный и могущественный. Человек далеко идущих замыслов и способный к тому же претворять их в жизнь. Человек действия, и вместе с тем просвещенный правитель, который на все находит время и любит потолковать о самых различных материях. За этими разговорами он ловко скрывает свои истинные намерения.
Казалось бы, что проку интересоваться всем сразу – если только он действительно интересуется, – но, возможно, так уж ему положено, возможно, его интересы и должны быть всеобъемлющи, на то он и герцог. Такое впечатление, будто он все на свете постиг и всем овладел или, во всяком случае, к тому стремится. Никто не станет отрицать, что его личность внушает уважение. Он единственный, кого я не презираю.
Он очень фальшив.
Я знаю своего господина достаточно хорошо. Но я бы не сказал, что знаю его досконально. Это сложная натура, в которой нелегко разобраться. Было бы ошибкой утверждать, что он таит в себе какие-то особые загадки, вовсе нет, но подобрать к нему ключ совсем не просто. Признаться, я его толком не понимаю и сам удивляюсь, отчего с такой собачьей преданностью хожу за ним по пятам. Но ведь и он меня тоже не может понять.
Он не внушает мне того благоговения, какое внушает всем прочим. Но мне нравится служить господину, который внушает благоговение. Он великий правитель, я этого не отрицаю. Но никто не может быть велик в глазах своего карлика.
Я следую за ним неотступно, как тень.
Герцогиня Теодора в большой от меня зависимости. Я храню в своем сердце ее тайну. Никогда, ни разу не обмолвился я ни единым словом. И пусть бы меня истязали на дыбе, пытали самыми страшными пытками – я все равно ничего бы не выдал. Почему? Сам не знаю. Я ее ненавижу, я хочу ее смерти, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени и как огонь лижет ее гнусное лоно. Я ненавижу ее распутную жизнь, ее бесстыдные письма, которые она пересылает через меня своим любовникам, ее интимные словечки, что раскаленными угольями жгут мне под камзолом грудь. Но я ее не выдам. Я постоянно рискую ради нее жизнью.
Когда она зовет меня к себе, в свои покои, и шепчет доверительно свои наказы, пряча мне под камзол любовные письма, я дрожу всем телом и кровь кидается мне в голову. Но она ничего не замечает, она даже не задумывается над тем, что ее поручения могут стоить мне жизни. Не ей, а мне! Она лишь улыбается своей неуловимой улыбкой и отсылает меня, куда ей надо, навстречу риску и смертельной опасности. Мое участие в ее тайной жизни она ни во что не ставит. Но она мне доверяет.
Я всегда ненавидел всех ее любовников. На каждого из них мне хотелось наброситься и проткнуть кинжалом, чтоб полюбоваться на его кровь. Особенно я ненавижу дона Риккардо, с которым она в связи уже не один год и, похоже, не думает расставаться. Он мне омерзителен.
Иногда она зовет меня к себе, еще не вставши с постели, нисколько меня не стесняясь. Она уже не молода, и видно, какие у нее обвислые груди, когда, лежа вот так в постели, она забавляется со своими драгоценностями, выуживая их из ларца, который держит перед ней камеристка. Не понимаю, как ее можно любить. В ней нет ничего, что будило бы мужское желание. Заметно лишь, что когда-то она была красива.
Она спрашивает, какие, по-моему, украшения ей сегодня надеть. Она вечно меня про это спрашивает. Она пропускает их между своими тонкими пальцами и лениво потягивается под плотным шелковым покрывалом. Она шлюха. Шлюха в большой и роскошной герцогской постели. Вся ее жизнь – в любви. Она пропускает любовь между пальцами, глядя с неуловимой своей улыбкой, как та утекает.
В такие минуты она легко впадает в меланхолию, а может, просто притворяется. Томным жестом она прикладывает к шее золотую цепочку, крупный рубин пылает между ее все еще очень красивыми грудями, и она спрашивает, как я считаю, надеть ли ей эту цепочку. Постель пропитана ее запахом, от которого меня тошнит. Я ее ненавижу, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени. Однако я отвечаю, что, по-моему, лучше не подберешь, и она посылает мне благодарный взгляд, словно я разделил ее скорбь и подарил грустное утешение.
Иногда она называет меня своим злым другом. Однажды она спросила, люблю ли я ее.
Что знает герцог? Ничего? Или, может, все?
Такое впечатление, словно он и не задумывался никогда насчет ее второй, тайной жизни. Впрочем, кто его знает, про него никогда ничего нельзя сказать с уверенностью. Для него она существует лишь в дневном своем воплощении, поскольку сам-то он существо дневное, все в нем как бы освещено ярким дневным светом. Просто удивительно, что такой человек, как он, может быть мне непонятен – именно он. Возможно, это потому, что я его карлик. И повторяю: я-то ведь ему тоже непонятен! Герцогиня мне понятнее, чем он. Я ее понимаю, потому что ненавижу. Кого не ненавидишь, того трудно понять, тут ты безоружен, тебе нечем вскрыть человека.
В каких он отношениях с герцогиней? Тоже ее любовник? Быть может, единственный ее подлинный любовник? Не потому ли его словно бы и не трогает, что она там втихомолку вытворяет? Я, например, возмущаюсь – а ему все равно!
Я не в силах постичь этого невозмутимого человека. Его снисходительность меня бесит, постоянно выводит из себя. Если бы он был такой, как я!
При дворе у нас толчется множество самой странной и бесполезной публики. Мудрецы, часами просиживающие, обхватив голову руками, в надежде отыскать смысл жизни. Ученые, воображающие, будто способны своими старческими, мутными глазами проследить пути небесных светил, якобы определяющие человеческие судьбы. Бездельники и пройдохи, ночи напролет декламирующие придворным дамам свои томные стишки, а на рассвете блюющие по канавам, – одного такого проткнули однажды насмерть прямо в канаве, а другой, помнится, отведал розог за то, что написал бранные стишки про кавалера Морошелли. Живописцы, ведущие распутную жизнь и наводняющие церкви благолепными изображениями святых. Зодчие и рисовальщики, которым поручили сейчас возвести новую кампанилу [2]2
В итальянской архитектуре средних веков и эпохи Возрождения – колокольня, стоящая, как правило, отдельно от храма.
[Закрыть]при соборе. Ясновидцы и шарлатаны всех мастей. Весь этот праздношатающийся люд появляется и исчезает, когда ему вздумается, а некоторые живут здесь подолгу, как свои, – и все они без исключения пользуются гостеприимством герцога.
Непонятно, зачем ему весь этот сброд. И совсем уж непостижимо, как он может часами слушать их дурацкую болтовню. Ну, можно еще послушать часок-другой поэтов, они ведь все равно что шуты – таких всегда при дворах держат. Они воспевают чистоту и возвышенность человеческой души, великие события и героические подвиги. И тут уж ничего не скажешь, особенно если они в своих виршах льстят хозяину. Лесть человеку необходима, иначе он не сможет стать тем, чем ему предназначено быть, даже в своих собственных глазах. И в настоящем, и в прошлом немало найдется прекрасного и возвышенного, которое потому лишь и стало прекрасным и возвышенным, что было воспето поэтами. Они воспевают прежде всего любовь, и это тоже правильно, поскольку любовь-то как раз больше всего и нуждается, чтобы ее представляли не такой, какая она есть на самом деле. Дамы сразу становятся печальны, и грудь их колышется от вздохов, мужчины начинают глядеть отрешенным, мечтательным взором, ибо всем им отлично известно, как оно обстоит в действительности, а значит, рассуждают они, стихотворение получилось и в самом деле прекрасное. Мне понятно также, что должны существовать живописцы, которые малевали бы для простого народа изображения святых, чтобы людям было кого боготворить, кого-нибудь не такого нищего и грязного, как они сами; красивые изображения мучеников, получивших вознаграждение на том свете, заимевших драгоценные одежды и золотой обруч вокруг головы, чтобы люди верили, что и они получат награду, когда вытерпят положенный им срок. И изображения, наглядно показывающие черни, что их бог распят, что его распяли, когда он пытался совершить что-то в этой жизни, и что, выходит, надеяться им здесь, на земле, не на что. Такого сорта примитивные ремесленники нужны, я понимаю, всякому правителю, не понимаю только, что им в замке-то делать. Они строят для людей некое прибежище, храм, красиво разукрашенный застенок, куда в любой момент можно зайти, чтобы обрести душевный покой. И где извечно и терпеливо висит на своем кресте их бог. Все это мне понятно, потому что я и сам христианин, крещен в ту же веру, что и они. И крещение это имеет законную силу, хотя крестили меня только шутки ради: при бракосочетании герцога Гонзаго с донной Еленой меня понесли крестить в дворцовой купели вроде бы как их первенца – будто бы невеста, всем на удивление, разрешилась от бремени как раз ко дню свадьбы. Я много раз слышал, как об этом рассказывали, словно о чем-то ужасно забавном, да так оно и было, я и сам могу подтвердить, потому что мне уже исполнилось восемнадцать, когда это произошло, то есть когда наш герцог одолжил меня им для этой церемонии.
Но совершенно уж непонятно, как можно часами сидеть и слушать тех, кто толкует о смысле жизни. Философов с их глубокомысленными рассуждениями о жизни и смерти и разных там вечных вопросах, всякие лукавые измышления о добродетели, о чести, о рыцарстве. И тех, кто воображает, будто им ведомо что-то о звездах, кто думает, будто существует определенная связь между ними и человеческими судьбами. Они богохульники, хотя, в чем именно их богохульство, я не знаю, да и знать не хочу. Они шуты, хотя сами и не подозревают о том, да и никто не подозревает, никто над ними не смеется, их выдумки никого не забавляют. Зачем их держат при дворе – никому не известно. Но герцог слушает их так, будто в их словах скрыт невесть какой смысл, сидит и с задумчивым видом поглаживает бороду и велит мне подливать им в серебряные кубки, такие же, как у него самого. Только, бывает, и посмеются, если кто посадит меня к себе на колени, чтобы мне удобнее было наливать им вино.
Кто может знать что-нибудь про звезды? Кто способен истолковать их тайнопись? Уж не эти ли бездельники? Они воображают, будто могут беседовать со Вселенной, и радуются, получая мудреные ответы. Разворачивают свои карты звездного неба и читают в небесах, как по книге. Только книга-то эта ими же самими и написана, а звезды движутся своими собственными неведомыми путями, даже и не подозревая, что там в ней сказано.
Я тоже читаю в Книге Ночи. Но я не берусь толковать смысл. Я различаю письмена, но я понимаю, что они не могут быть истолкованы, – и в том моя мудрость.
Они ночи напролет просиживают в своей башне, в западной башне замка, со всякими там подзорными трубами и квадрантами и воображают, будто общаются со Вселенной. А я сижу в противоположной башне, где находятся старинные покои для карликов и где я живу один с тех пор, как задушил Иосафата, – потолки здесь низкие, в самый раз для представителей нашего рода, а окна маленькие, как бойницы. Прежде здесь жило много карликов, собранных отовсюду, из самых дальних стран, вплоть до государства мавров: дары герцогов, пап и кардиналов либо живой товар – и такое ведь не редкость. У нас, карликов, нет ни родного дома, ни отца с матерью, мы приходим в этот мир тайно, рождаясь от чужих, все равно где, все равно от кого, хоть от самых жалких бедняков, лишь бы род наш не вымер. И когда эти случайные наши родители обнаруживают, что произвели на свет существо из рода карликов, они продают нас владетельным государям, чтобы мы тешили их своим уродством и служили им шутами. Так было и со мной, я был продан моей родительницей, которая отвернулась от меня с брезгливостью, увидавши, кого она произвела на свет: ей и невдомек было, что я потомок древнейшего рода. Она получила за меня двадцать эскудо и купила на них три локтя материи себе на платье и сторожевого пса для своих овец.
Я сижу возле карликового окошка и гляжу в ночь, испытующе, как и те звездочеты. Мне не требуется подзорных труб, я и без того достаточно проницателен. Я тоже читаю в Книге Ночи.
Существует очень простое объяснение, почему герцог так интересуется всеми этими учеными, живописцами, философами и звездочетами. Ему хочется, чтобы его двор прославился на весь мир, а сам он заслужил бы почет и всеобщее признание. Вполне объяснимое желание: насколько мне известно, все люди по возможности стремятся к тому же.
Я прекрасно его понимаю и вполне с ним согласен.
Кондотьер Боккаросса прибыл в город и разместился со своей многочисленной свитой в палаццо Джеральди, которое пустует со времени изгнания этой семьи. Он нанес герцогу визит, который длился несколько часов. Никому не дозволено было присутствовать.
Это великий и прославленный кондотьер.
Работы на строительстве кампанилы начались, и мы были там и смотрели, как продвинулось у них дело. Кампанила будет намного возвышаться над соборным куполом, и, когда ударят в колокола, звон раздастся словно из поднебесья. Прекрасная идея, поистине достойная называться идеей. Эти колокола будут выше всех других колоколов Италии.
Герцог очень увлечен новым сооружением, и его можно понять. Он еще раз просмотрел на месте эскизы и пришел в восторг от барельефов, изображающих сцены из жизни Распятого, которыми украшают сейчас основание его кампанилы. Дальше этого дело пока не продвинулось.
Быть может, ее так никогда и не закончат. Многие из задуманных моим герцогом построек остаются незаконченными. Красивые руины великих замыслов. Но в конце концов, и руины – памятник творцу замысла, и я никогда не отрицал, что он великий правитель. Когда он идет по улицам, я с удовольствием иду рядом. Все смотрят выше, на него, никто не замечает меня. Но это ничего не значит. Они приветствуют его почтительно, словно некое высшее существо, но только потому, что все они – трусливая, раболепная чернь, а вовсе не потому, что действительно его любят или почитают, как он думает. Стоит мне появиться в городе одному, они небось тотчас меня замечают и орут мне вслед всякие гадости: «Это герцогский карлик! Дашь пинка ему – дашь пинка его господину!» Сделать это они не осмеливаются, зато швыряют мне вслед дохлых крыс и всякую другую мерзость из мусорных куч. Когда же я, разозлившись, выхватываю шпагу, они хохочут надо мной. «Ох, и могучий же у нас повелитель!» – орут они. Я не могу защищаться, поскольку сражаемся мы разным оружием. Я вынужден спасаться бегством, с ног до головы облепленный всякими отбросами.
Карлику обо всем всегда известно больше, чем его господину.
Признаться, я вовсе не против потерпеть за моего герцога. Лишнее, в конце концов, доказательство, что я часть его самого и в известных случаях представляю его собственную высокую персону. Невежественная чернь и та понимает, что карлик господина – это, в сущности, он сам, так же как замок с его башнями и шпилями – он сам, и двор с его роскошью и великолепием – он сам, и палач, отрубающий головы на площади, и казна с ее несчетными сокровищами, и главный дворецкий, оделяющий в голодное время хлебом бедняков, – все это ОН САМ. Они чувствуют, какую власть я, в сущности, представляю. И я всегда испытываю удовлетворение, подмечая, что меня ненавидят.
Одеваться я стараюсь по возможности так же, как герцог: те же ткани и тот же покрой. Те обрезки, что остаются, когда ему шьется платье, используются потом для меня. У бедра я всегда ношу шпагу, как и он, только покороче. И осанка у меня, если присмотреться, такая же гордая, как у него.
В общем, я получаюсь очень похожим на герцога, только что ростом гораздо меньше. Если посмотреть на меня через стекло, какое те шуты в западной башне наводят на звезды, можно, наверное, подумать, что я – это он.
Между карликами и детьми большая разница. Поскольку они ростом одинаковы, то люди думают, что они друг другу подходят, а они вовсе не подходят. Карликов часто заставляют играть с детьми, не соображая, что карлик – противоположность ребенку, что он уже рождается старым. В детстве карлики никогда, насколько мне известно, не играют, для чего им играть, да оно и выглядело бы странно при их морщинистых стариковских лицах. Настоящее издевательство – принуждать нас к этому. Но люди ведь ничего про нас не знают.
Мои господа никогда не заставляли меня играть с Анджеликой. Зато сама она заставляла. Я не хочу сказать, что она делала это по злому умыслу, но, когда я вспоминаю то время, особенно первые годы ее детства, мне начинает казаться, что мучили меня нарочно, с изощренной злобой. Этот ребенок с круглыми голубыми глазами и капризным ротиком, которым иные так восхищались, мучил меня, как никто из дворцовой челяди. Дня не проходило, чтоб она с утра пораньше не притащилась ко мне наверх (в то время она едва умела ходить!), и непременно с котенком под мышкой. «Пикколино, хочешь с нами поиграть?» Я отвечаю: «Я никак не могу, у меня есть дела поважнее, мне сегодня не до игр». – «А что ты будешь делать?» – спрашивает она бесцеремонно. «Маленьким этого не понять», – отвечаю я. «Но ты же все равно пойдешь на улицу, нельзя же спать целый день! Я встала уже давно-предавно». И мне приходится идти с ней, не осмеливаюсь отказаться из-за господ, хотя внутри у меня все кипит от ярости. Она берет меня за руку, будто я ей приятель, – что за дурацкая привычка, терпеть не могу липких детских рук! Я в ярости сжимаю пальцы в кулак, но она все равно цепляется, и таскает меня повсюду за собой, и болтает без умолку. К своим куклам, которых надо кормить и наряжать, к слепым щенкам, которые копошатся в корзинке у собачьей будки, в розарий, где нам, видите ли, обязательно надо поиграть с котенком. У нее была докучливая страсть ко всяким животным, и не к взрослым животным, а к их детенышам, ко всему маленькому. И она способна была бесконечно играть со своим котенком и считала, что я тоже должен. Она думала, что я тоже ребенок и, как ребенок, всему радуюсь. Это я-то! Я ничему не радуюсь.
Случалось, правда, что в ее голове и пробудится разумная мысль, когда она вдруг заметит, как я измучен и озлоблен, – она вдруг удивленно взглянет на меня, на мое морщинистое древнее лицо: «Почему тебе не нравится играть?»
И, не получивши никакого ответа ни от моих стиснутых губ, ни от моих холодных глаз, умудренных опытом тысячелетий, она посмотрит на меня с каким-то новым, пугливым выражением в наивном младенческом взгляде и на некоторое время замолкнет.
Что такое игра? Бессмысленная возня… ни с чем. Странное притворство в обращении с вещами и явлениями. Их принимают не за то, что они суть на самом деле, не всерьез. Астрологи играют в свои звезды, герцог играет в свои постройки, в свои соборы, барельефы и кампанилы, Анджелика играет в свои куклы – все играют, все притворяются. Один я презираю притворство. Один я живу всерьез.
Однажды я тихонько прокрался к ней, покуда она спала, положив котенка рядом с собой, и отсек ему кинжалом голову. И швырнул его через окно в кучу мусора. Я был в такой ярости, что едва ли сознавал, что делаю. То есть сознавать-то я прекрасно сознавал, я приводил в исполнение план, который давно уже созрел у меня в часы наших тошнотворных игр в розарии. Она была безутешна, обнаружив, что котенок исчез, а когда все стали говорить, что его наверняка уже нет в живых, она слегла в какой-то странной горячке и долго болела, так что я избавлен был от необходимости ее видеть. Когда же она в конце концов поправилась, мне пришлось, разумеется, без конца выслушивать скорбный рассказ о судьбе ее любимца, о непонятном его исчезновении. Никто, конечно, не стал ломать себе голову, куда девалась кошка, зато весь двор был до смерти напуган неизвестно откуда взявшимися на шее девочки пятнышками крови, которые, по общему мнению, могли быть дурным предзнаменованием. Люди просто обожают отыскивать всякие предзнаменования.








