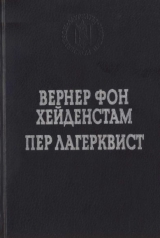
Текст книги "Улыбка вечности. Стихотворения, повести, роман"
Автор книги: Пер Лагерквист
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Как он сюда попал? – спросила она у ребятишек.
– Он приходит в лес с нами играть, – ответили они боязливо.
Она разглядывала меня с любопытством и как будто бы маленько смягчилась, или, может, я к ней просто присмотрелся. Мне даже померещилась в ней схожесть с девчонкой, когда я в первый раз увидел ее, появившуюся из-за деревьев с широко раскрытыми глазами.
Мало-помалу я привык к потемкам. Сам не знаю – как-то чудн о мне у них показалось. Вроде и не сильно их жилье от нашего рознилось, а все же что-то в нем было не так, не по мне. И опять-таки у каждого жилья свой запах, а в этом сырость была и духота, воздух тяжелый и вместе холодный, может, оттого, что домишко стоял впритык к скале.
Я ходил, ко всему приглядывался и дивился.
В дальнем углу висел огромный меч, широкий и прямой, обоюдоострый, на нем было изображение богоматери с младенцем Иисусом и множество замысловатых знаков и надписей. Я подошел поближе, чтоб лучше все рассмотреть – никогда не доводилось мне видеть ничего подобного, – не удержался и потрогал его рукою. Тут послышался будто глубокий вздох, и кто-то всхлипнул…
Я оглянулся, пошел к ним.
– Кто это плачет? – спрашиваю.
– Плачет? Никто не плачет! – ответила их мать. Она уставилась на меня, глаза сразу другие стали. – Иди-ка сюда! – сказала она, схватила меня за руку, отвела на то же место и велела мне опять прикоснуться к мечу.
И тут снова послышался глубокий вздох, и кто-то всхлипнул, внятно так.
– Меч! – крикнула она и рванула меня назад. – Это в нем!
Потом выпустила мою руку и отвернулась. Пошла к печке и стала мешать в горшке, стоявшем на огне.
– Ты чей будешь-то? – спросила она немного погодя, и рот ее недобро перекосился, почудилось мне, когда она это говорила.
Я ответил, мол, Кристоффера из Волы сын, так звали моего отца.
– Вон чего.
Ребятишки застыли на месте и смотрели прямо перед собою дикими, испуганными глазами.
Она еще повозилась у печки. А когда кончила, присела на скамейку и усадила меня к себе на колени. Погладила по голове.
– Да, ну-ну… – сказала она и долго, пристально смотрела на меня. – Пойду-ка я с тобою к твоим, так-то лучше будет, – прибавила потом.
Она собралась, надела другую юбку и что-то чудное на голову, чего я прежде ни на одной женщине не видывал. И мы отправились в путь.
– Это здесь вы играете-то? – спросила она, когда мы вошли в лес. И еще несколько раз со мною заговаривала по дороге. Приметивши, что я оробел, она взяла меня за руку.
Я ничего не понимал и спрашивать ни о чем не смел.
Когда мы поднялись к нашему дому, мать выскочила на крыльцо, лицо у нее было белое-белое, я еще никогда ее такой не видел.
– Чего тебе надо от моего сына? Отпусти мальчонку, слышишь! Сейчас отпусти, паскудная тварь!
Она не мешкая выпустила мою руку, лицо ее покривилось, и вся она стала как затравленный зверь.
– Что ты сделала с моим мальчонкой?
– Он был у нас в доме…
– Ты заманила его в свое поганое логово! – закричала мать.
– Я не заманивала. Сам пришел, коли хочешь знать. А как к мечу приступился и тронул его ненароком, стало в нем вздыхать да всхлипывать.
Мать оторопело и боязливо глянула на меня своими разгоряченными глазами.
– А к чему такое, ты, надо быть, и сама знаешь.
– Нет… Не знаю я.
– Смерть он примет от палаческого меча.
Мать испустила сдавленный крик и уставилась на меня, бледная как мертвец, с дрожащими губами, но ни слова в ответ не молвила.
– Я-то думала как лучше, пришла тебе сказать, да ты, я вижу, только злобишься заместо благодарности. Забирай своего гаденыша, и больше ты про нас не услышишь, покуда час не пробьет, раз сама так захотела!
Она в сердцах повернулась и ушла.
Мать, вся дрожа, схватила меня, притянула к себе и стала целовать, но взгляд у нее был неподвижный, чужой. Она отвела меня в дом, а сама бросилась во двор, и я видел, как она побежала через поле, что-то крича.
Они с отцом воротились вместе, примолкшие и понурые. Как сейчас помню, я стоял у окна и видел, как они вдвоем шли к дому вдоль межи.
Ни один со мною слова не сказал. Мать начала возиться у печи. Отец не сел, как обыкновенно, а расхаживал взад и вперед. Его худое лицо застыло и одеревенело, будто неживое. Когда мать вышла на минуту за водой, он поставил меня перед собою и стал глядеть прямо в глаза, опасливо и испытующе, потом опять отворотился. Они и промеж собою не разговаривали. Немного погодя отец вышел, начал бродить по подворью без всякого дела, стоял, глядя вдаль.
Время настало тяжелое и мрачное. Я ходил совсем один, никому не нужный. И все кругом стало иным, даже луга были не те, что прежде, хотя дни стояли все такие же погожие и солнечные. Я пробовал играть, но из этого тоже мало что выходило. Когда они оказывались поблизости, то проходили мимо, ничего не говоря. Точно я им чужой был. По вечерам, однако ж, когда мать меня укладывала, она так крепко прижимала меня к себе, что я чуть не задыхался.
Я не понимал, отчего все переменилось и стало так безотрадно. Даже когда я, случалось, веселел, совсем не то было веселье, что раньше. Вся усадьба как вымерла, здесь будто никто больше друг с другом не разговаривал. Но по временам, когда они не замечали, что я рядом, я слышал, как они перешептывались. Я не знал, что я такое сделал, но думал, верно, что-то ужасное, раз им даже смотреть на меня невмоготу. И я старался, как мог, заниматься сам с собою и не мозолить им глаза, видел, что им так лучше.
У матери щеки ввалились, она ничего не ела. Что ни утро глаза были заплаканные. Помню, я выбрал место позади скотного двора и начал строить из камешков отдельный дом для себя.
Наконец однажды мать меня подозвала. С ней и отец был. Когда я подошел, она взяла меня за руку и повела к лесу, а отец стоял и смотрел нам вслед. Я, как увидел, что она повела меня по той самой тропке, по какой я тогда ходил, в первый раз взаправду испугался. Но все было до того безотрадно, что я подумал, ладно, хуже, чем есть, стать не может. Я жался к ней и послушно шел, осторожно ступая средь камней и корневищ, попадавшихся на тропинке, чтобы ей не было из-за меня лишнего беспокойства. Она так осунулась в лице, что ее было не узнать.
Когда мы добрались до места и увидели дом, по ней дрожь прошла. Я изо всех сил сжал ей руку, хотел ее подбодрить.
Кроме ребятишек и их матери, в доме на этот раз был еще один человек. Кряжистый, могучего сложения мужик, толстые, будто вывороченные наружу губы изрезаны поперечными морщинами, лицо усеяно крупными оспинами, а в выражении что-то грубое и дикое, взгляд тяжелый, глаза налиты кровью – какие-то изжелта-красные. Отродясь на меня ни один смертный такого страху не нагонял.
Никто не поздоровался. Женщина стала у печи и принялась ворочать кочергой, так что искры взвивались. Мужик сперва взглянул на нас искоса, потом тоже отворотился.
Мать остановилась у порога и начала униженно о чем-то просить – я только понял, что речь шла обо мне, однако не мог толком уразуметь, чего ей от них надо было. Она все повторяла, мол, есть ведь средство-то, если только они захотят помочь.
Никто ей не отвечал.
Она была такая несчастная и жалкая, что мне казалось, никак они не могут ей отказать. Но они даже не оборачивались. Будто нас вовсе не было.
А мать одна говорила и говорила, все безутешней и просительней, глухим, отчаянным голосом. И мне было ужас как жаль ее, она говорила, мол, я ведь у нее единственное дитя, и слезы застилали ей глаза.
Напоследок она просто стояла и плакала – ни к чему, видно, были все ее мольбы.
А на меня такая жуть нашла, я просто не знал, куда деваться, и побежал к ребятишкам, что стояли, забившись в самый угол. Мы пугливо переглядывались. А потом уселись все вместе на скамью у стены: мочи больше не было стоять.
Нескончаемо долго сидели мы так в жуткой тишине. Вдруг я услышал грубый мужской голос – и вздрогнул. Он стоял и глядел в нашу сторону – но звал он меня.
– Идем со мною!
Весь дрожа, я тихонько подошел и, когда он двинулся прочь, не посмел ослушаться и потянулся следом. Ну и мать за нами вышла. Женщина у печи оборотилась. „Тьфу!“ – плюнула ей вдогонку.
Потом, однако, мы с ним пошли одни по утоптанной дорожке, что вела в березовую рощицу неподалеку от дома. Мне было не по себе рядом с ним, и я норовил держаться подальше. Но все же мы вроде как друг с другом знакомились, покуда вместе шли. В гуще среди деревьев бил родник, они, верно, брали оттуда воду, потому что рядом лежала черпалка. Он опустился на колени у самого края и пригоршней зачерпнул прозрачной воды.
– Пей! – сказал он мне.
По всему было видно, что худого он не замышлял, и я с охотой сделал, как он велел, и нимало не трусил. Можно бы подумать, что, близко смотреть, он и вовсе страшным покажется, а вышло по-иному, в нем будто не было той свирепости, и он больше был схож с обыкновенными людьми. Он стоял на коленях, и я видел тяжелый взгляд его налитых кровью глаз и, помнится, подумал: верно, и он тоже несчастлив. Трижды давал он мне воды.
– Ну вот, теперь снимет, – сказал он. – Раз из руки моей испил, можешь теперь не бояться. – И он легонько погладил меня по голове.
Будто чудо свершилось!
Он поднялся, и мы пошли обратно. Солнышко светило, и птицы щебетали в березах, пахло листвой и берестой, а у дома дожидалась нас мать, и глаза у нее засияли от радости, когда она увидела, как мы согласно идем рука в руку. Она прижала меня к себе и поцеловала.
– Господь вас благослови, – сказала она палачу, но тот только отворотился.
И мы пошли счастливые домой.
– Ну и ну, – протянул кто-то, когда он кончил.
– Да, вот ведь оно как.
– И впрямь зло – штука диковинная, против этого кто ж спорить станет.
– Вроде как в нем и добро вместе сокрыто.
– Да.
– А сила в нем какая! Выходит дело, оно тебя и сразить может, оно же и от гибели может избавить.
– И то.
– Удивительно, право слово.
– Да, такое послушать – ума наберешься, это уж точно.
– А я полагаю, твоей бы матери не грех повиниться перед палачовой женкой за брань-то свою.
– Я и сам так думаю, да она вот не повинилась.
– Ну да.
Они посидели в задумчивости. Отпивали по глотку и отирали губы.
– Ясное дело, и палач добрым может быть. Всякий слыхал, он болящих да страждущих и которые люди до крайности дошли, случается, из беды вызволяет, когда уж все лекари от них отреклись.
– Да. И что страдания ему ведомы, тоже правда истинная. Он, поди, сам муку принимает от того, что творит. Известно же, палач всегда прощения просит у осужденного, прежде чем его жизни лишить.
– Верно. Он зла к тому не имеет, кого жизни должен лишить, нет. Он ему вроде доброго приятеля может быть, я сам видел.
– Правда что вроде приятеля! При мне раз было, они в обнимку к помосту шли!
– Да ну!
– Потому как оба до того захмелели – еле на ногах держались: все выпили, что им поднесли, да еще добавили, вот кренделя-то и выделывали. И хоть оба они были хороши, а все же, сдается мне, палач из них двоих пьяней был. „У-ух!“ – говорит, это когда голову-то ему отсекал.
Все расхохотались, приложились к своим кружкам.
– А тебя, стало быть, плаха дожидалась. Да, эта дорожка никому из нас не заказана.
– Верно говоришь.
– Нет, но чтоб у него такая власть была, а? Это ж подлинно как чудо свершилось, что ты нам рассказал-то. Не сними он с тебя проклятия, пропала бы твоя головушка.
– О, брат, он еще какие чудеса творит! Пожалуй что, почище некоторых святых!
– Ну, самые-то великие чудеса святые угодники творят и пречистая дева!
– Да Иисус Христос, искупивший грехи наши!
– Само собою, дурья твоя башка, только не о том теперь речь. У нас-то о заплечном мастере разговор!
– У него и правда власть есть. Зло – оно власть имеет, это уж так.
– Власть-то есть, да только откуда? Говорю вам, от дьявола она! Оттого люди и падки до зла, как ни до чего другого, куда более, чем до слова божия и до святых таинств.
– Однако ж, вот ему помогло.
– Да, что ни говори, а помогло же!
– Может, и так.
– А священнику, глядишь, и не совладать бы.
– Куда, и думать нечего, тут зло верховодило, у него он был под пятой!
– Тьфу, сатана это все, его проделки!
– Ну-у?..
– Сами же слыхали, палач-то отворотился, как мать его молвила „господь благослови“.
– Фу ты!..
– А-а, черт, выпьем! Что мы все сидим да всякую дьявольщину поминаем!
– И то верно, пива нам! Пива, говорю, еще! Да какого позабористей!
– Чтоб из самой лучшей бочки! Бр-р… только не из той, где палец ворюгин подвешен… А что, правда ль, что у вас ворюгин палец в пиве болтается?
Служанка, побледнев, покачала головой, что-то пробормотала.
– Чего уж отпираться, весь город знает! Ладно, давай хоть и оттуда! Один черт, нам бы крепость была!.. У-ух! – как палач-то сказал.
– Ты не больно ухай! Не ровен час, без головы останешься, и захочешь напиться – да некуда лить!
– Вот и надо попользоваться, пока время не ушло!
– Это пиво сам бес варил, я по вкусу чую!
– Тут и есть сатанинское логово, зато уж пиво – лучше не сыщешь!
Они выпили. Навалились на стол, широко расставив локти.
– Я вот думаю, казни ль завтра быть спозаранку или как надо понимать? – вопросил старикашка-сапожник.
– Кто ж его знает…
– Может статься, что и так…
– Я к тому, что мастер-то заплечный гуляет. Да в красное разряженный, в полном параде.
– Да… Похоже на то…
– Что-то не слыхать было, чтоб казнить кого собирались, а?
– Не-е…
– Ну что ж. Небось услышим, как в барабан забьют.
– А-а, выпей-ка лучше, дед! Чем тарахтеть-то попусту.
Они выпили.
Вошел парень и с ним две женщины.
– Гляди-ка, и шлюхи явились!
– Куда заплечный мастер, туда и вся его шатая.
– А ну, малый, вздуй-ка свечи, хоть полюбоваться на твоих потаскушек.
– О, да они красотки, из непотребного дома, что ль?
– А то сам не видишь.
– Чего ж к мастеру-то заплечному не подсядете? Иль духу не хватает?
– Да-а… Вы с ним, видать, успели чересчур близкое знакомство свести.
– Эй, девы непорочные, вы к виселице-то ходили? Там один висит, с него вчера ночью одежду до нитки стянули, болтается в чем мать родила, все творения и чудеса господни наружу. Или вам уж такое не в диковинку? Ну-ну, а то бабы нынешний день с самого утра туда тянутся, как на богомолье, подивиться на такое благолепие, потому, слышь ли, у висельников эти штуковины особо приманчивые. Чего фыркаете-то? Глядите, мастер вам задаст!
– Он еще вас ни разу не взгрел у позорного столба?
– Да уж без этого небось не обошлось, им в колодках-то привычно, будто в рукавицах.
– Дайте срок, вы еще от его розог прочь побежите из города, да со всех ног придется улепетывать, а то задницы всю красу утеряют!
Одна из женщин повернулась к ним:
– А ты, Йокум Живодер, попридержи язык-то! Шел бы лучше домой, к бабе своей, она не хуже нашего беспутничает, вечор к нам в заведение прибегала, примите, говорит, а то дома меня никак не у доводят!
– Вы охальничать бросьте. А коли огорошить меня думали, так зря, я и без вас знаю про ее распутство! Она у меня добегается, я с нее шкуру спущу!
– Думаешь, поможет?
– А то так и вовсе прикончу!
– То-то радость ей будет, хоть с самим сатаной блуди!
Он что-то проворчал в ответ, остальные над ним хохотали.
– Да, на баб нигде управы не найдешь, ни на том, ни на этом свете.
– Не скажи, их тоже и жгут, и топят, и казнят, как нас с вами.
– Верно, заплечный мастер и их не милует.
– И то.
– Да, я примечал, много есть палачей, коим в охотку баб казнить.
– Еще бы, оно и понятно!
– Уж само собою, больше приятности, нежели с мужичьем расправляться.
– Надо думать.
– Ну, это еще как сказать, в охотку. Нет, не всегда. Я раз сам свидетелем был, не мог он бабу кончить – и все тут.
– Неужто?
– Правду говорю, никак не мог, а все оттого, что влюбился в нее по уши прямо там, на помосте.
– Да ну?
– Вот те на!
– Ей-ей, каждому видать было, любовь в нем зажглась. Стоял и смотрел на нее, а топор поднять так и не смог!
Она и взаправду редкой была красоты, помню, волосы длинные, черные, а глаза – спасу нет как хороши, кроткие, и насмерть перепуганные, и влажные, ровно у животной твари, я ее лицо как сейчас перед собой вижу, до того оно было особенное и прекрасное. Никто ее не знал, она пришлая была, недавно только у нас поселилась, он ее в первый раз увидал. Да, странного в том не было, что он в нее влюбился. Побледнел как полотно, руки дрожат. „Не могу“, – говорит. Кто поближе стоял, все слышали.
– Да ну?.. Подумать!
– Да, удивительно было на них смотреть, право слово, удивительно. А люди увидали в глазах его любовь и умилились, стали промеж собою шептаться, переговариваться – заметно было, что жалели его.
– Понятное дело.
– Да. Постоял он чуток, а потом топор отложил и руку ей подал. Ну, у нее слезы из глаз, и вроде так сделалось, что и на нее любовь власть свою простерла, и что ж в том странного, раз он так поступил – в таком-то месте, да еще когда сам палачом ей был назначен.
– Да-а.
– Ну-ну, и чем же кончилось?
– Он, стало быть, оборотился к судье и перед всем народом объявил, дескать, хочет взять ее в жены – а ежели так, сами знаете, они помиловать могут, коли будет на то их воля. И народ зашумел, дескать, надобно ей жизнь даровать. Всех эта картина за душу взяла: и людей, и судью, – потому как открылась им чудодейственная сила любви прямо на лобном месте, и много было таких, что стояли и плакали. Ну на том и порешили. И священник их повенчал, и стали они мужем и женою.
Только выжгли ей на лбу клеймо, как уж закон того требует, виселица ведь свое взыщет. Хотя от казни-то она, я сказал, убереглась.
– Поди ж ты, какая история.
– Да, чего только не бывает.
– А потом-то что с ними было? Неужто и вправду счастье свое нашли?
– Да, зажили они в доме палача счастливою жизнью – это все их соседи в один голос говорили. Дескать, никогда еще такого палача не видывали, любовь – она его другим человеком сделала, думается мне, раньше ведь он такой не был, и в доме у него жизнь пошла иная, в прежние-то времена там, как водится, всякое отребье околачивалось. Они мне много раз навстречу попадались, когда она ребенка носила, и были они с виду как и всякая любовная пара, она все такая же красавица, даром что на голове позорный колпак, какой положено носить жене палача, ну и, само собою, клеймо на лбу страховидное, а все пригожа была, как я уж сказал.
Когда подоспело ей время рожать, хотели они, как все, позвать повитуху, они будто бы радовались ребеночку своему, как и всякие муж с женою, так по крайности люди говорили. Да не тут-то было, я помню, приходили они в дом, что напротив нашего, за одной такой бабкой, непременно хотели ее к себе залучить, потому боялись, как бы худого не случилось в родах, а она им отказала, и другие к ним не пошли: в них же как-никак скверна сидела.
– Ну, что ни говори, а не по-христиански это – в таком деле отказывать.
– Да оно ведь заразливо, сам рассуди, а ей, глядишь, после них к честной женщине идти роды принимать!
– Это само собою.
– Вот и вышло, что никого при ней не было, одна рожала, сам и то не поспел прийти, раньше времени у ней началось, и это, понятно, не больно хорошо было, ну и толком-то никто не знает, как уж оно там получилось, а только на суде призналась она, что удавила ребеночка.
– Да что ты?.. Удавила?
– Как же это такое?
– Она будто бы сказала там, мол, как разрешилась она от бремени и довольно оправилась, чтоб ребеночка прибрать, кровь ему с лица отереть, увидала на лбу у него родимое пятно – по виду как есть виселица. Они ведь ей самой выжгли клеймо в то время, как во чреве ее дитя зародилось, и у ней, мол, все сердце от этого изныло, изболелось. Ну и не захотела она, чтоб ее дитя в этом мире жить осталось, на нем уже с самого начала метина была поставлена, а она, мол, в нем души не чаяла. И еще она много чего говорила, да только, слыхал я, мало было складу в ее речах, видно, на роду ей, несчастной, написано было черные дела творить, не иначе.
– А мне так жаль ее.
– Да, что ни говори, а жаль.
– Ну и приговор вышел такой, чтобы быть ей заживо погребенной: грех-то она немалый на душу взяла, – и ему самому же выпало землей ее забрасывать. Я тогда тоже ходил смотреть, и, само собою, нелегко ему пришлось, он ведь ее любил, взаправду любил, хоть напоследок-то она небось оттолкнула его своим злодейством. Кидал он лопатою землю и на тело ее красивое глядел, как оно мало-помалу скрывалось, а когда до лица дошел, медлил, сколько мог. Она за все время слова не молвила – они, думается мне, загодя простились, – лежала и смотрела на него любовным взором. Под конец пришлось ему, понятно, и лицо забрасывать, так он отворотился. Да, нелегко ему было. Да ведь никуда не денешься, коли такой приговор.
Говорили, будто он потом ночью туда ходил, откопать ее пробовал, может, думал, жива еще, да болтовня, должен бы вроде понимать, что не могло этого быть.
Он, к слову сказать, вскорости прочь подался из наших мест, и никто не знает, что с ним потом сталось.
– Ну и ну. Да, жалко их.
– Однако ж, они и сами бы должны сообразить, что ничего хорошего выйти не могло, что ихняя скверна и на ребеночка перейдет.
– А то как же, и неудивительно, что метина у него была как виселица!
– Да, такое, видно, накрепко пристает.
– И то.
– Что хочешь делай, все одно не отпустит. Это уж так.
– Стало быть, пришлось-таки ему стать ее палачом.
– Пришлось.
– Выходит, суждено ему было.
За дверью послышались выкрики, шум, в трактир с грохотом ввалился человек, заорал кому-то, шедшему за ним в темноте, грозя ему рукой, у которой была отрублена кисть:
– Брешешь, мужицкая харя! Сам же очки считал, сошлось, ну?
– Свинец в них был, в твоих костяшках, шельма ты!
– Черт в них был! Был свинец? Скажи ему, Юке.
– Не, не, ни в коем разе, – отвечал парнишка, следовавший по пятам за безруким.
– А этот бесенок, он тоже мошенству обучен, вот и шильничает за тебя, самому тебе и карты-то нечем держать, дьявол калечный! Крапленые были твои карты, ясное дело, так бы вам никогда меня не обчистить!
– Да заткнись ты, мужичонка! – Он уселся, искоса поглядел по сторонам. При виде палача лицо его передернулось. Оно было тощее, с ввалившимися щеками, а глаза горели. Парнишка подобрался к нему вплотную на скамейке.
– Никак Лассе Висельник к нам пожаловал!
– Что, Лассе, и ты забоялся подле мастера заплечного сесть?
– А-а, пустое мелешь!
Он пошел вразвалку, сел дальше всех к концу стола. Парнишка шмыгнул за ним.
– Вот там тебе и место, сквернавец! – крикнул крестьянин. – Погоди, приберет он тебя к рукам со всеми потрохами!
– Да, брат Лассе, теперь виселица на очереди. Нечего им больше у тебя отрубать.
– Дрянь ты городишь, башка-то пустая. Меня никакая виселица не возьмет, понял?!
– Где уж…
– Неужто не возьмет?..
Дернув плечами, он придвинулся к столу.
– Пива! – бросил служанке, и она поспешно налила. Парнишка поднес ему кружку ко рту, и он отхлебнул изрядный глоток. Потом перевел дыхание, парнишка подождал и снова поднес. – Шильничаю, говоришь!.. – Он медленно повернулся в сторону крестьянина, сидевшего где-то у самой двери.
– И говорю, а то нет!
– Больно мне нужно шильничать, чтоб выудить у тебя твои жалкие мужицкие гроши! Да они сами ко мне в карман утекают, им от вони невтерпеж в твоих несуразных портах!
– Заткни свою поганую глотку!
Все расхохотались над крестьянином, не нашедшим ругательства похлестче.
– На кой они ему, крапленые карты да свинец в костяшках! Лассе Висельник захочет – и без них обойдется.
– Он похитрей уловки знает, куда тебе с ним тягаться, мужичок!
– Да те же, поди-ка, ходы, что у всех жуликов. И не пойму я, Лассе, ведь уж как тебя утеснили, а тебе и горя мало.
– А-а… Небось! Лассе не пропадет!
– Похоже, что так…
– Помню, они мне пальцы отсекли – я тогда вот с этого был, – сказал он, кивая на парнишку, – да гвоздями их к плахе и прибили. Хе! Я потом ходил поглядеть – умора! Они мне: ага, вон где теперь пальцы-то твои воровские. А я только ржал, мне, говорю, это тьфу, мне хоть бы хны! Лассе, говорю, не пропадет! Так и вышло!
Он несколько раз моргнул, лицо задергалось. Ткнул Юке культей, требуя еще пива. И тот с готовностью поднес ему кружку. У парнишки была смышленая мордочка, а глаза так и шныряли из стороны в сторону. Ничего из происходившего вокруг не ускользало от него.
– Однако они и до рук добрались, а это, надо быть, дело иное!
– А-а, да мне это тьфу. Не-е…
Он утер себе рот рукавом.
Старикашка-сапожник на другом конце стола наклонился вперед.
– У него корень мандрагоры есть, слыхали? – прошептал он, присвистывая от возбуждения.
– Не, меня не застращаешь, – громко отчеканил Лассе. – Мне все нипочем, понял? Да и малец вон есть. У него котелок варит.
– Оно и видать!
Парнишка, довольный похвалой, замигал глазами.
– Уж не сын ли тебе, а, Лассе?
– Почем я знаю! А похоже на то, ей-ей, он вроде как весь в меня.
– Вон чего, ты и сам не знаешь.
– Не. Он Ханны Гулящей сын, да вот удрал от нее, лупила, говорит, а жрать не давала, он ко мне и прилепился, у меня кой-чему подучится, что в жизни потом пригодится. А уж смекалистый – поискать. Как, Юке, отец я тебе иль нет?
– А-а, мне все одно, – хихикнул Юке.
– Дело говоришь. Плевать! Хорошо ему со мною – и ладно. Верно, Юке?
– Ага! – осклабился парнишка.
– Ну, одним-то этим сопляком тебе бы ни за что не обойтись. Никогда не поверю.
– Да неужто?..
– Правда что!
– Нет, ты, брат, силы иные на выручку призываешь, ясное дело.
– Это какие же, ну-ка?
– Мне-то откуда знать!
– Ага, не знаешь! Чего ж тогда языком попусту мелешь?
Все на мгновение примолкли. Вертели свои кружки, двигали ими.
– Стало быть, неправда, что этот корень-то у тебя есть?
– А-а, пустое…
– И то. Нешто тебе, какой ты есть, корень выдернуть?!
Горящие глаза ярко сверкнули в полутьме, а тощее лицо еще больше сжалось.
– Эка невидаль, Лассе и не с таким управится, случись нужда!
– И впрямь.
– Не скажи, вырвать этакий корень из-под виселицы – дело не простое. А тем паче ежели рук нет.
– Да. И опять же известно: как крик услышишь – кончено, пришел твой смертный час.
Они покосились на Лассе. Он резко вскинул голову и весь задергался.
– Я вам скажу, у него и корень этот есть, и еще кой-чего! Я так полагаю, ты давно уж сатане запродался, а, Лассе?
– Ясное дело, а то нет!
– Ну вот, я же говорю!
– Ого, слыхали?
– А злые духи тебя по ночам не проведывают?
– Не-е… Кто с самим дьяволом в дружбе, того они не трогают. Тому спится сладко, ровно младенцу.
– Ну, это уж ты, Лассе, прихвастнул!
– Да, брат! Это уж ты привираешь! Кабы так, не пришлось бы тебе увечным по жизни маяться!
– Мастер-то тебя отделал, будто своей почитал добычей, а не бесовой!
Они хохотали над собственными шуточками. Злоба зажглась в обращенном к ним пылающем взоре.
– Да мне это тьфу, понял?!
– Так уж и тьфу!
– Они ведь с тобою как с обыкновенной палаческой поживой обошлись, ей-богу!
– Ну и что! Все одно не обломать им Лассе Висельника! – Он выкрикивал слова, яростно сверкая глазами. – Чего захотели! Не так это просто!
– Неужто! Однако начать-то они все же начали!
– Да ничего им у меня не отнять, нету у них такой власти! – крикнул он, вскакивая. – Понял? Нету – и все! Не в человеческой это власти – меня одолеть, сказано тебе, и шабаш!
– Да что ты! Беда, да и только!
– Им до меня нипочем не добраться! Чем я владею, никакая в мире сила не отымет! А от меня потом к мальцу вон перейдет, он мой наследник!
– Ба! Так у тебя и наследство есть, Лассе? Ну и ну, слыхали?
– А ты как думал! Есть, да побольше вашего! Ему от меня и корень, и вся преисподняя в наследство достанутся!
– Выходит, есть у тебя корень-то?!
– Есть! Душу можешь дьяволу прозакладывать, что есть! Показать тебе, что ль!
– Не, не!..
– Вот он где, на груди у меня! По виду будто как человечек, и с ним хоть воруй, хоть чего хочешь делай – все тебе в руку пойдет, пусть даже и рук нету!
Они разинули рты. Воззрились на него со страхом.
– Как же ты раздобыть-то его ухитрился, пропащая твоя душа? Неужто на лобном месте?
– А то где ж! Под самою виселицей, куда они трупы закапывают, как их ветром снесет!
– И ты решился туда пойти! Да ночью!
– То-то и есть, что решился! Это тебе не дома в постельке лежать да „Отче наш“ перед сном бубнить! Ты бы сроду не решился!
– Не, не!..
– Они там вздыхали да стонали – жуть…
– Это кто ж?
– Известно кто, мертвецы! Уж они на меня кидались да цеплялись за меня, пока я шарил-то! Так и лезли! Я их колотил почем зря, а они вопили и рыдали, ровно помешанные, когда их лупят, чтоб угомонились! Вой стоял и рев – как в аду, думал, с ума свихнусь, никак от них было не отвязаться! „Прочь, окаянные! – орал я им. – Прочь от меня, нечистые видения! Я-то не помер, я живой, у меня он в дело пойдет!“ Ну, напоследок разогнал я их. И тотчас увидел: прямо под самой виселицей и растет, там тогда Петтер Мясник и еще какие-то болтались. Я землицу округ культею разгреб, а потом наземь бросился и давай его зубами выдирать!
– Да ну?! Прямо зубами?
– Ага! Зубами! Которые сами-то не смеют, так они собак заставляют!
Взор его пылал неистовым огнем.
– И тут вдруг в нем как завоет! Как завоет! У-у-у! Кровь в жилах леденела! Но я ушей не затыкал, как иные! Баба я, что ль! Я терпел! И все дергал и дергал за корень! Мертвечиной смердело, и кровью, и порчей! И ревело, и голосило из подземного царства! Но я ушей не затыкал! Я тащил его и тащил! Потому – завладеть им хотел!
Он бесновался как одержимый. Все отшатнулись назад.
– А как вырвал я его – загрохотало все вокруг, затрещало, ходуном заходило! И разверзлась бездна, и всплыли трупы и кровь! И тьма раскололась, и пламень побежал по земле! И ужас, и плач! И все полыхало! Будто ад на землю выплеснулся! А я кричал: „Мой он теперь! Мой!“
Он стоял, потрясая над головой обеими обрубленными руками, как чудовищный, изувеченный фантом, безумные глаза словно взорвались, а голос утратил всякое человеческое выражение.
– Есть у меня наследство, есть! Есть у меня наследство! Душу можете дьяволу прозакладывать, что есть!
Палач сидел недвижимо, его тяжелый, вневременный взгляд был уставлен в темноту.
* * *
Народу прибыло, стало шумно и тесно, в полусумраке слышались голоса, и смех, и звон бокалов, стеклянный шар под потолком медленно вращался, отбрасывая неясные сине-фиолетовые и зеленоватые блики, танцующие пары скользили по полу где-то посредине, и слабо звучала музыка.
Танцы вылились в проходы между столиками, растеклись по всему залу, женщины в светлых туалетах, полузакрыв глаза, висели на мужчинах, музыка отбивала джазовые ритмы.
Пышная красотка проплыла мимо, взглянула через плечо кавалера.
– Смотри-ка, и палач здесь, – сказала она. – Как интересно!
Блики кружились над шумной сумятицей, столы отсвечивали бледным мертвенно-зеленым светом, официанты в испарине метались средь гомона и криков, пробки от шампанского стреляли.








