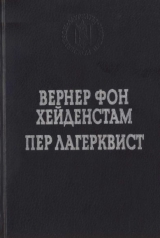
Текст книги "Улыбка вечности. Стихотворения, повести, роман"
Автор книги: Пер Лагерквист
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Когда он спросил, зачем женщина вылила на землю вино и масло, какой в этом смысл, они смутились и замолчали, будто это невесть какой секрет, и на их тупых деревенских физиономиях появилась хитроватая ухмылка. Наконец удалось выяснить, что это для того, чтобы земля понесла и разродилась на будущий год виноградом и оливками. Совсем уж смешно. Будто земля могла знать, что они вылили на нее вино и масло и чего они от нее при этом хотели. «Так у нас всегда делалось об эту пору», – сказали они. А один старик с длинной всклокоченной бородой, изрядно, видно, хлебнувший вина, подошел к герцогу и, наклонившись, сказал доверительно, глядя ему в глаза: «Так отцы наши делали, и не след нам отступать от обычая отцов».
Потом все они принялись танцевать свои неуклюжие деревенские танцы – и молодые, и старики, даже тот самый старикан, который стоял уже одной ногой в могиле. А музыканты играли на своих самодельных пастушьих дудках, из которых и всего-то можно было извлечь два-три звука, так что получалось все одно и то же, одно и то же. Не понимаю, что за охота была герцогу слушать эту примитивнейшую на свете музыку. Однако что он, что дон Риккардо – этот тоже был с нами, вечно он тут как тут – так и застыли на месте, вовсе позабыв, что идет война и кругом враги. А когда эти полудикари стали петь свои тягучие, заунывные песни, они уж и вовсе не могли оторваться. Так и просидели до самых сумерек. Пока наконец не сообразили, что оставаться к ночи в горах все же небезопасно.
«Какой чудесный вечер», – без конца твердили они друг другу на обратном пути к лагерю. А дон Риккардо, которому ничего не стоит разохаться и расчувствоваться, стал в самых высокопарных выражениях распространяться насчет красот ландшафта, хотя ничего особенно красивого в нем не было, и то и дело останавливался и прислушивался к дудкам и к песням, которые долго еще доносились до нас из этого затерянного высоко в горах, грязного, паршивого селеньица.
И в тот же вечер он явился в шатер к герцогу, прихватив в лагере двух продажных женщин, которые неизвестно как умудрились пробраться к нам из города через самое пекло – вероятно, в надежде поживиться, поскольку у нас с этим товаром дело обстоит неважно. И кроме того, женщине всегда интересней переспать с врагом, как они сами сказали. В первый момент герцог, судя по его виду, был неприятно поражен, и я не сомневался, что он сейчас разгневается и выгонит вон этих шлюх, а дона Риккардо примерно накажет за неслыханную дерзость, но, к моему неописуемому удивлению, он вдруг расхохотался, посадил одну из них к себе на колени и велел мне подать самого нашего благородного вина. Я такого в ту ночь насмотрелся, что до сих пор не могу опомниться. Я дорого бы дал, чтоб не присутствовать при их ночной оргии: теперь вот никак не отделаюсь от тошнотворных воспоминаний.
И как они только умудрились пробраться! Просто непонятно. Впрочем, женщины, в особенности женщины такого сорта, все равно что крысы, для них не существует препятствий, они где угодно ход прогрызут. Я собирался как раз пойти спать в свою палатку, но пришлось остаться прислуживать им – и не только моему господину и дону Риккардо, но и этим размалеванным шлюхам, от которых за сто шагов разило венецианскими притираниями и разгоряченной, потной женской плотью. Нет слов, чтобы выразить охватившее меня отвращение.
Дон Риккардо без конца расхваливал их красоту, особенно одной из них, он восторгался ее глазами, ее волосами, ее ногами, на которые по очереди указывал герцогу (хоть бы остановила этого бесстыдника!), а потом повернулся к другой и стал восхвалять ее в столь же льстивых выражениях, чтобы она не почувствовала себя обиженной. Все женщины прекрасны! – восклицал он. В них – вся восхитительная сладость жизни! Но восхитительней всех куртизанка, всю жизнь свою посвящающая любви, ни на миг ей не изменяющая! Он вел себя ужасно глупо и пошло, и хоть я и всегда считал его за пошлейшего и глупейшего из мужчин, но все же не думал, что он может быть столь поразительно смехотворен и туп.
Они много пили, и постепенно вино оказывало на них свое действие, и дон Риккардо, разумеется, вконец расчувствовался, стал разглагольствовать про любовь и кончил тем, что заговорил стихами, и стихи-то были скучнейшие, все больше любовные сонеты про какую-то Лауру, – эти дурочки даже прослезились. Он положил голову на колени к одной, герцог – к другой, и шлюхи нежно гладили их по волосам и блаженно вздыхали, слушая эту дурацкую болтовню. У дона Риккардо была та, что покрасивей, и я не мог не заметить, каким странным, пристальным взглядом смотрел на него герцог, когда глупые женщины начинали охать и ахать, восхищаясь тем, что он сказал или что сделал. Женщины всегда ведь предпочитают мужчин примитивных и незначительных, потому что у них с ними больше общего.
Но вдруг дон Риккардо вскочил и заявил, что хватит – довольно слезливых любовных восторгов, будем пить и веселиться! И тут началась самая настоящая оргия: пьянство, шуточки, хохот, анекдоты, до того скабрезные, что я даже пересказать их не могу. В самый разгар попойки герцог вдруг воскликнул, подняв свой бокал и выпив за здоровье дона Риккардо: «Завтра ты будешь моим знаменосцем в бою!» Дон Риккардо пришел в восторг от столь неожиданной милости, глаза его засверкали. «Надеюсь, драка будет жаркая!» – крикнул он, выхваляясь перед женщинами, чтобы они по достоинству оценили его храбрость. «Заранее знать нельзя, но возможно, что и так», – сказал герцог. И тут дон Риккардо схватил его руку и поцеловал ее почтительно и благодарно, словно рыцарь своему сюзерену. «Любезный мой герцог, запомни, что ты обещал в сей час пьяного веселья!» – «Будь спокоен. Я не забуду».
Шлюхи, как видно, находили сцену великолепной и пожирали их обоих глазами. Особенно, разумеется, того, кому предстояло нести в бою знамя.
По окончании этой интермедии разнузданная оргия продолжалась, они вели себя все непристойнее и бесстыднее, и мне, невольному свидетелю, неловко и противно было на них глядеть. Они обнимались и целовались, раскрасневшиеся, гнусно разгоряченные своей похотью, откровенной и необузданной. Гадость неописуемая! Хотя женщины для виду и сопротивлялись, мужчины стащили с них до пояса платья, обнажив груди, и у той, что покрасивей, соски оказались розовые, и возле одного была родинка, не слишком большая, но все же очень заметная. Когда я наливал ей вино, меня замутило от запаха ее тела. От нее пахло так же, как пахнет по утрам от герцогини, когда она еще в постели, но только к той я никогда не подходил так близко. Когда дон Риккардо взял ее за грудь, во мне поднялось такое отвращение и такая ненависть к этому распутнику, что я готов был удушить его собственными руками или проткнуть тут же на месте кинжалом, чтоб из него вытекла вся его похотливая кровь, чтоб он никогда больше не смог прикоснуться к женщине. Содрогаясь от переполнявшей меня брезгливости, я стоял в сторонке и думал: что за гнусные все же твари эти люди. Чтоб им всем сгореть в адском пламени!
Дону Риккардо, который волей-неволей занимался той, что покрасивее, потому что она сама к нему липла, пришла под конец в голову очередная дурацкая идея, а именно разыграть красотку в кости: кто, мол, выиграет, тому она и достанется. Мысль очень всем понравилась, и самому герцогу, и обеим женщинам, а та, о которой шла речь, откинувшись, полуголая, назад, пронзительно захохотала, в восторге от предстоящего поединка. Мне тошно было на нее глядеть, я не мог понять, что они находят в ней красивого и соблазнительного, как можно добиваться такого отвратительного приза. Она была светловолосая и белокожая, с большими голубыми глазами и ужасно волосатыми подмышками – по-моему, просто омерзительная. Я никогда не мог понять, к чему у людей волосы под мышками, всякий раз, как я это вижу, мне делается ужасно противно, особенно если подмышки потные. У нас, у карликов, все иначе, и это вызывает у нас брезгливость. Будь у меня где-нибудь волосы, кроме как на голове, где они человеку действительно нужны, я просто не знал бы, куда деваться от стыда.
Мне велели принести кости, герцог кинул первым, выпали шестерка и единица. По уговору красотка должна была достаться тому, кто первый наберет пятьдесят. Они продолжали по очереди кидать, а обе женщины следили не отрываясь, страшно заинтересованные, отпускали непристойные замечания, взвизгивали и хохотали. Выиграл герцог, и все повскакали со своих мест, хохотали и кричали, перебивая друг друга.
И тут оба они набросились на женщин, каждый на свою, сорвали с них платья и начали вытворять с ними до того уж невообразимые гнусности, что я, не помня себя, выскочил из шатра, и меня тут же начало рвать. Я весь покрылся холодным потом, а кожа сделалась как у ощипанного гуся. Дрожа от озноба, я заполз в палатку для прислуги и улегся на свою солому между поваром и несносным грубияном конюхом, от которого вечно пахнет лошадьми и который всякий раз, поднимаясь утром их чистить, пинает меня ногой, уж не знаю почему. Ему, он говорит, просто нравится меня пинать.
Любовь между людьми – нечто для меня непостижимое. Мне она внушает одно лишь отвращение. Все, чему я был свидетелем в ту ночь, вызывало во мне одно лишь отвращение.
Возможно, дело в том, что я существо иной породы, тоньше, чувствительнее, деликатнее, и поэтому остро реагирую на многое из того, что их вовсе не трогает. Не знаю. Я ни разу не испробовал того, что они зовут любовью, да и желания не имею. Ни малейшего. Однажды мне предложили карлицу, красивую женщину с маленькими проницательными, как у меня, глазками на морщинистом лице и пергаментной кожей – обличье, поистине достойное человека. Но она не возбудила во мне никаких чувств, хотя я и видел, что в красоте ее нет ничего отталкивающего, как это бывает у людей, ее красота была совсем иного свойства. Возможно, причина в том, что предложила мне ее герцогиня, задумавшая свести нас, так как надеялась, что мы родим ей маленького карлика, которого ей тогда очень хотелось. Это было еще до того, как у нее родилась Анджелика, и она мечтала завести себе игрушку. Забавно было бы иметь ребеночка-карлика, говорила она. Однако я вовсе не собирался оказывать ей подобную услугу и унижать свой род, соглашаясь на непристойное предложение.
Кстати, она ошибалась, полагая, что мы сможем подарить ей ребенка. Мы, карлики, детей не рожаем, мы бесплодны по самой своей природе. Мы не способствуем продолжению жизни, да и не желаем того. И нам ни к чему производить на свет потомство, ведь род человеческий сам производит на свет карликов. Нам можно не беспокоиться. Пусть эти высокомерные существа сами нас рожают, в тех же муках, что и человеческих детей. Наш древний род продолжается их же собственными усилиями – так, и только так, должны мы появляться на свет. В нашем бесплодии заключен глубокий смысл. Мы – того же происхождения, но вместе с тем совсем иного. Мы гости в этом мире. Древние, морщинистые гости, гости на тысячелетия, гости навечно.
Однако я слишком отклонился в сторону от своего повествования. Итак, продолжаю.
Наутро дон Риккардо действительно нес герцогское знамя. Чего я только не наслушался про то, как и почему все это произошло! У меня, однако, имеется на этот счет свое мнение, я подозреваю истинную подоплеку дела. Рассказывали, будто герцог, отдав весьма странный приказ, подверг жизнь дона Риккардо ненужной опасности, тот якобы только чудом не погиб, потому что оказался в очень опасном положении, будучи вынужденным со своим маленьким отрядом конницы первым атаковать неприятеля. Утверждали к тому же, что сражался он с неслыханной храбростью, – вот уж чему ни за что не поверю. Когда у него осталась лишь жалкая горстка всадников, они якобы все как один сплотились вокруг знамени и отбивались совершенно отчаянно, хотя по сравнению с неприятелем их было капля в море. И когда, казалось, все уже было потеряно, в гущу схватки ворвался якобы герцог – то ли он просто не мог удержаться, чтобы не принять участия в столь рискованной игре, то ли по какой другой причине, бог его знает. В сопровождении небольшой кучки всадников он врезался в ряды неприятеля и стал рубить направо и налево, явно прорываясь к дону Риккардо на помощь. Но тут его лошадь, получившая удар копьем в грудь, рухнула наземь. Герцог вылетел из седла и очутился на земле в окружении врагов. Это якобы переполнило дона Риккардо такой яростью и такой отвагой, что он со своими людьми пробился сквозь окружавшее их вражеское кольцо и при поддержке уцелевшей горстки герцогских всадников сумел каким-то чудом не подпустить к нему врага, покуда не подоспела выручка. Дон Риккардо будто бы истекал кровью от множества ран. Намекали, что он, должно быть, понял, что герцог желал ему смерти, и все же совершил такой поступок и спас жизнь своему господину.
Я в эту версию не верю. Она кажется мне слишком неправдоподобной. И передаю я ее лишь потому, что именно так, я слышал, рассказывали о драматических событиях того утра. Если сам я смотрю на дело по-другому, то объясняется это прежде всего тем, что мне слишком хорошо известен характер дона Риккардо. Я знаю его, как никто. Не такой он человек.
Версия эта, как мне кажется, слишком явно окрашена сложившимся у всех представлением о доне Риккардо, да и его собственным о себе представлением. Создалась красивая легенда, и никто уже не думает о том, соответствует ли она истине. Считается, что он – сама храбрость и все, что бы он ни делал, благородно, прекрасно и великолепно. А причиной тому лишь его удивительная способность лезть всем в глаза, всячески привлекать к себе внимание. Его поведение на войне отличается тем же смехотворным тщеславием, что и все его поведение вообще, всякий его поступок. А это его безрассудство, которое всех так умиляет, объясняется просто-напросто его глупостью. Глупое безрассудство принимают за мужество.
Если он и в самом деле так безумно храбр, если он постоянно, как он говорит, подвергает свою жизнь опасности – отчего, спрашивается, он никак не погибнет? Вопрос напрашивается сам собой. Жалеть о нем никто бы не стал, уж я-то во всяком случае.
На этот раз он был якобы весь изранен. Правда это или нет, мне неизвестно, но я позволю себе усомниться. Не так уж, наверно, все страшно. Раны, наверно, пустяковые. Во всяком случае, с тех пор я избавлен от необходимости его видеть.
Зато я охотно верю, что он имел наглость сражаться в плюмаже цветов герцогини, который она, как говорят, ему подарила перед тем, как мы выступили в поход, и, значит, тем утром эти перья развевались у него на шлеме, и он, выходит, открыто, пред всем светом, сражался в честь своей дамы сердца. Отстаивая столь мужественно герцогское знамя, он сражался, стало быть, в честь своей возлюбленной. И, спасая герцогу жизнь, он тоже, стало быть, сражался в ее честь. А ведь только что обнимал другую женщину. Возможно, и в бой пошел прямо из ее постели, украсив себя плюмажем, подаренным дамой сердца, – предметом великой и пламенной любви. Истинная его любовь распустилась пышным цветком над открытым рыцарским забралом, меж тем как вероломная плоть еще хранила жар преступной страсти. Поистине любовь между людьми – загадка. Неудивительно, что для меня она непостижима.
Загадочны и отношения этих двух мужчин, связанных с одной и той же женщиной. Не создает ли это своего рода тайных уз между ними? Иногда начинает казаться, что так оно и есть. Действительно ли, как утверждают, дон Риккардо спас герцогу жизнь? Не думаю. А впрочем, возможно – но в таком случае из одного лишь тщеславия, чтобы на свой, на рыцарский манер отплатить герцогу за то, что тот желал ему смерти, показать всем, какой он исключительно благородный. Это вполне в его духе. И действительно ли, как хотят уверить, герцог кинулся тогда спасать дону Риккардо жизнь, выручая его из смертельной опасности – хотя только что желал ему смерти? Не знаю. Мне это все же непонятно. Не может ведь человек одновременно и любить, и ненавидеть?
Я вспоминаю его странный, пристальный взгляд той ночью – он сулил смерть. Но я помню также, какие мечтательные, влажные были у него глаза, когда он слушал, как дон Риккардо читал стихи про любовь, великую, необъятную любовь, охватывающую нас своим пламенем и пожирающую, испепеляющую все наше существо. Быть может, любовь – это просто красивые стихи, без всякого определенного содержания, а просто приятные на слух, если читать звучно и проникновенно? Не знаю. Не исключено, однако, что и так. Люди – своего рода фальшивомонетчики.
Удивляет меня и та ночная сцена со шлюхой. Я всегда думал, что уж герцог-то до такого опуститься не может. Впрочем, какое мне дело. К тому же я привык, что он постоянно оказывается совсем иным, чем я себе представлял. На следующий день я рассказал про это в осторожных выражениях одному из слуг и выразил свое изумление. Он вовсе не был удивлен. У герцога, сказал он мне, всегда были любовницы из придворных дам или из горожанок, а иногда и знаменитые куртизанки, сейчас у него в любовницах дамиджелла [3]3
Damigella – придворная дама (итал.)
[Закрыть]герцогини Фьяметта. Он меняет их как перчатки, сказал он со смехом, удивляясь моей неосведомленности.
Странно, что такое могло ускользнуть от моего на редкость, в общем-то, проницательного взгляда. Вот до чего ослепило меня безоговорочное преклонение перед моим господином.
Меня не волнует, что он изменяет герцогине. Я ее ненавижу и очень даже рад, что ее обманывают. К тому же она-то ведь любит дона Риккардо. Не герцогу, а ему пишет она те жаркие любовные слова, которые я вынужден прятать у себя на груди. Я от души надеюсь, что его в конце концов убьют.
Дождь, слава богу, перестал. Когда мы вышли сегодня из палаток, солнце жарко сияло, линии гор были ясны и отчетливы, хотя все кругом было, разумеется, пропитано влагой, повсюду стояли лужи, журчали ручьи. Утро было необыкновенно бодрящее. Небо очистилось, взгляду открывался возвышавшийся на своем холме разбойничий город Монтанца; мы успели уже забыть, как он выглядит, а теперь отчетливо был виден каждый дом за крепостной стеной, каждая бойница древних крепостных башен – все, вплоть до позолоченных крестов на церквах и колокольнях, после дождя виделось как бы особенно отчетливо. Недалек день, когда проклятый город будет взят и исчезнет наконец с лица земли.
Все рады выйти и поразмяться на свежем воздухе, хорошая погода бодрит и поднимает боевой дух. Уныние, равнодушие словно ветром сдуло. Все так и рвутся в бой. Я очень ошибался, полагая, что дождь действует губительно на боевой дух армии. Он, видимо, лишь притупляет его до поры до времени.
У нас в лагере жизнь кипит ключом. Солдаты, болтая и перешучиваясь, чистят оружие, слуги начищают до блеска рыцарские доспехи, коней гонят купать к быстрым потокам, которые во множестве журчат сейчас по склонам между оливками, все и вся готовится к предстоящему сражению. Лагерь обрел свой прежний вид, а война – свою прежнюю красочность и праздничность, что, бесспорно, ей больше к лицу. Яркие солдатские мундиры, рыцарские доспехи, роскошная серебряная конская сбруя – все блестит и сияет на солнце.
Я долго стоял, разглядывая город – конечную цель нашего похода. С виду он хорошо укреплен, его стены и крепостные сооружения могут показаться прямо-таки неприступными. Но мы его возьмем, и нам немало в том поможет мессир Бернардо. Я видел его новые тараны и метательные машины, хитроумные осадные приспособления и страшные, огромные бомбарды. Никакая в мире крепость не способна им противостоять. Мы пробьемся через любые преграды, будем крушить и ломать, а то и просто взорвем кусок стены, сделав хитрый минный подкоп, о котором он говорил в тот вечер, будем сражаться всеми мыслимыми средствами, пустим в дело все, что изобрел для нас его гений, и ворвемся в город, ворвемся на его улицы, сея вокруг смерть и опустошение. Город будет сожжен, разорен, стерт с лица земли. От него не останется камня на камне. И его жители, эти разбойники и бандиты, получат наконец по заслугам, будут истреблены или угнаны в плен, и лишь дымящиеся руины будут напоминать о былом могуществе дома Монтанца. Я убежден, что герцог твердой рукой расправится со своим кровным врагом. А уж что касается наемников Боккароссы – страшно даже представить, как они будут свирепствовать. То будет наша последняя и окончательная победа.
Но сперва нам предстоит смести с дороги войско, которое встало между нами и городом. Нетрудно заметить, что численность его значительно возросла – как я и предсказывал. Кое-кто утверждает, что это могучее войско, почти такое же огромное, как наше, включая и отряды Боккароссы. Это преувеличение. Оно действительно занимает теперь гораздо большую территорию, чем прежде, но называть его могучим – значит, по-моему, переоценивать силы неприятеля. Когда герцог увидел его в первый раз, он сначала вроде бы нахмурился, но тут же снова повеселел, воодушевившись, как видно, лицезрением вражеских сил, радуясь мысли о предстоящем сражении, возможности вступить наконец-то в захватывающую битву. Вот что значит истинный воин! Он ни минуты не сомневается в нашей победе, да и никто из наших военачальников не сомневается, насколько мне известно.
Весело, должно быть, участвовать в штурме города. До сих пор мне ни разу не доводилось.
Я сижу в своих покоях, в восточной башне нашего замка, на обычном для моих письменных занятий месте. За этой низенькой, очень удобной для меня конторкой я и продолжаю описание тех знаменательных и роковых событий, участником которых являюсь. Каким образом я снова оказался у себя дома? Все объясняется очень просто.
Мы выиграли сражение. Да мы и не сомневались, что выиграем, пусть даже ценой чувствительных потерь. И с той и с другой стороны убитых было достаточно, но с их стороны гораздо больше. Теперь им уже, конечно, трудно будет оказать нам сколько-нибудь серьезное сопротивление. Однако и для нас эта битва оказалась, повторяю, кровавой. Особенно на второй день. Но для того ведь и солдаты, чтобы употреблять их в дело. И ничего уж такого ужасного не произошло – зря только люди болтают.
А дома мы сейчас по той простой причине, что герцог вынужден был вернуться, чтобы собраться с силами для победоносного завершения войны. И кроме того, как я слышал, надо запастись необходимыми для этой цели денежными средствами. Подобное предприятие поглощает, само собой, значительные суммы. Герцог, говорят, ведет сейчас переговоры с венецианской синьорией. У этих торгашей нужного нам товара хоть отбавляй, и дело, говорят, должно скоро уладиться. После чего мы немедля снова выступим в поход.
Утверждают, что Боккаросса и его наемники запросили повышения платы и, кроме того, считают, что не все еще получили из того, что им причиталось по первоначальному уговору. Из-за этого они, как говорят, доставляют нам сейчас массу хлопот. Я, признаться, не ожидал, что они могут придавать такое значение этой стороне войны, ведь никто не сражается так отважно и бесстрашно, как они. Я думал, они любят войну ради войны, как я, например. Впрочем, нельзя, может, и требовать такого бескорыстия. Вполне, наверное, естественно, что они хотят, чтобы им заплатили. Ну что ж, они свое получат.
Говорят о каких-то там еще разногласиях между кондотьером и герцогом – да мало ли что болтают. Когда войско несет потери и не все идет гладко, люди обычно быстро впадают в уныние. Все недовольны исходом дела, все друг друга обвиняют, жалуются на усталость, подсчитывают потери у себя и у противника – в общем, одно к одному. А наемники Боккароссы хоть и отлично дерутся, прямо как бешеные, но очень возможно, что вовсе не ради осуществления далеко идущих замыслов герцога, очень может быть, что у них совсем другое на уме. Но все это мелочи. Абсолютно несущественно и преходяще.
Впрочем, мне это все достаточно неинтересно, и уж меньше всего вульгарные денежные счеты в таком деле, как война, и потому я не намерен распространяться дальше на эту тему.
Что за тоска сидеть дома! Человеку, явившемуся прямо с поля боя, здешнее существование представляется до ужаса пустым и монотонным. Время тянется бесконечно, и не знаешь, чем себя занять, всякая жизнедеятельность точно парализована. Впрочем, на днях все должно решиться. Скоро снова в поход.
На здешних обитателей смешно смотреть, я имею в виду слуг и всех прочих, кто не участвовал в войне. Они живут словно в другом мире, словно и не подозревают, что страна находится в состоянии войны. Глядя на мои доспехи, они разевают рты от удивления, будто не знают, что так всегда одеваются на поле боя – а иначе не успеешь оглянуться, как станешь добычей врага, обречешь себя на верную гибель. Они говорят, что здесь-то, мол, опасность не грозит. Но война-то ведь идет. И я скоро снова отправлюсь в поход. Всякую минуту можно ожидать приказа герцога о выступлении, и нужно быть в полной боевой готовности. Вот почему я и хожу в доспехах. Да разве им объяснишь.
Не побывав сами на войне, они, естественно, совершенно не способны вообразить, что это такое. А когда пытаешься нарисовать им хотя бы приблизительную картину походной жизни со всеми ее опасностями, они глядят на тебя с идиотским недоверием, не в силах вместе с тем скрыть тайную зависть. Всем своим видом они как бы хотят сказать, что я-то тут ни при чем, что сам я ничего такого не испытал и не принимал сколько-нибудь деятельного участия в тех битвах, о которых рассказываю. Нетрудно понять, что в них говорит самая обыкновенная зависть. Не испытал! Они не знают, что клинок моей шпаги еще хранит кровавый след последней жестокой битвы. Я его не показываю, так как не выношу солдатского бахвальства, которое процветает обычно на войне и столь свойственно, например, дону Риккардо. Я лишь крепче сжимаю эфес и поворачиваюсь к ним спиной.
А дело было так. В ходе нашей последней двухдневной битвы перед нами возникла задача овладеть высотой, расположенной между нашим правым флангом и городом, что мы и сделали. Стоило нам это недешево. Зато сразу же значительно улучшило наше положение. Герцог тотчас отправился поглядеть, какие именно преимущества дает нам овладение этой высотой. И я, естественно, вместе с ним. На самой вершине стоял загородный замок Лодовико. Место, надо сказать, было выбрано удачно, и замок, окруженный кипарисами и персиковыми деревьями, выглядел довольно эффектно. Несколько солдат и я вместе с ними пошли проверить, не укрылся ли там враг, способный преподнести нам неприятный сюрприз и покуситься на жизнь герцога. Замок был пуст, если не считать кучки дряхлых слуг, настолько беспомощных, что их, видимо, просто бросили при отступлении, – герцог отказался чинить над ними расправу. А я, пока суд да дело, спустился в подземелье, которое никто не удосужился осмотреть, хотя оно могло послужить прекрасным укрытием. Там я неожиданно наткнулся на карлика – Лодовико держит при дворе много карликов, – которого, очевидно, тоже бросили, не знаю уж почему. Он страшно перепугался и кинулся в полутемный боковой ход. Я крикнул: «Стой!» Но он не остановился на мой окрик, из чего я заключил, что совесть у него нечиста. Вооружен он или нет, я не знал, и потому погоня за ним по узким, запутанным подземным переходам была захватывающе рискованной. Наконец он шмыгнул в помещение, имевшее выход наружу, через который он, конечно, и задумал удрать, но не успел он открыть дверь, как я его настиг. Он жалобно пискнул, поняв, что попался. Я погнал его, как крысу, вдоль стен, зная, что теперь уж ему не уйти. В конце концов я загнал его в угол – теперь он был мой! Я насадил его на шпагу, легко прошедшую насквозь. На нем не было лат и ничего, что положено воину, одет он был в смехотворный голубой бархатный камзольчик с кружевами и всякой мишурой у ворота, словно маленький ребенок. Я оставил его лежать там, где он упал, и вернулся к дневному свету и к битве.
Я рассказал об этом вовсе не потому, что считаю свой поступок каким-то подвигом. Пустяковый эпизод, обычный на войне. Я вовсе не собираюсь этим похваляться. Я исполнил свой солдатский долг – только и всего. Никто об этом даже не знает, ни герцог и ни одна живая душа. Никто и не подозревает, что моя шпага обагрена вражеской кровью, и я не стираю кровавый след – в память о моем участии в походе.
Я немножко жалею, что сразил именно карлика, лучше бы я сошелся лицом к лицу с кем-нибудь из людей, столь мне ненавистных. К тому же и сама по себе борьба была бы более интересной. Но я и собственный народ ненавижу, мои сородичи мне тоже ненавистны. И в этом поединке, особенно в момент, когда я нанес смертельный удар, меня охватил экстаз, будто я исполнял некий религиозный обряд. Похожее чувство я испытал, когда душил Иосафата, – неистовую жажду истребления себе подобных. Отчего, зачем? Не знаю. Я сам себя не могу понять. Неужели я осужден жаждать истребления и себе подобных?
У него был писклявый, как у всех карликов, голосок кастрата, и он меня страшно разозлил. У меня-то у самого голос низкий и сильный.
Презренный, жалкий народец.
Отчего они не такие, как я!
Сегодня утром герцогиня пыталась завести со мной разговор про любовь. Она была в каком-то слезливом настроении, не знаю уж почему – вообще-то причина поплакать у нее, бесспорно, имеется, знала бы она, сколькоу нее для этого поводов! Потом она вдруг разом переменила тон – настроения у нее меняются мгновенно – и заговорила уже шутливо. Сидя перед зеркалом, покуда камеристка укладывала ей волосы, она, мешая шутку с серьезным, упорно старалась втянуть меня в разговор, который я находил и неприятным, и неуместным. Ей, видите ли, не терпелось, чтобы я высказался на эту тему. Я всячески уклонялся. Но она не отставала. Неужели у меня никогда не было никаких амуров? «Нет, не было», – хмуро отрезал я. Она удивилась, никак не хотела поверить. И снова принялась меня донимать. Наконец, чтобы прекратить этот разговор, я сказал, что если бы когда и полюбил, так только мужчину.
Она обернулась, взглянула на меня и беззастенчиво расхохоталась, а вслед за ней и камеристка. «Мужчину! – воскликнула она насмешливо, будто в этом было что-то забавное. – Мужчину? Кого же именно? Уж не Боккароссу ли?» И обе они снова принялись хохотать. Я покраснел, потому что имел в виду как раз его. И когда они заметили, что я покраснел, они окончательно развеселились.
Я не понимал, что здесь смешного. Я смотрел на них ледяным, презрительным взглядом. Смеяться, по-моему, уродство и безобразие. Мне невыразимо противно видеть, как рот у человека вдруг разевается, обнажая красные десны. И что я могу поделать, если Боккаросса вызывает во мне самое искреннее восхищение, чувство, не лишенное, возможно, и пылкости. В моих глазах он настоящий мужчина.








