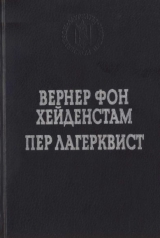
Текст книги "Улыбка вечности. Стихотворения, повести, роман"
Автор книги: Пер Лагерквист
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Старик тихо отвечал:
Я сделал как мог.
Они продолжали:
Ты не верил ни в то и ни в это. Ты просто увидел, что так оно все сладится и дело пойдет. Тебе просто хотелось, чтобы жизнь шла и шла, сама собою, и чтоб не надо было придумывать ей какой-то конец. Ты просто хотел, чтобы на земле была жизнь, больше ничего. Зачем же, зачем!
Старик тихо отвечал:
Я сделал как мог.
Этот повторяющийся раз за разом ответ сбивал их с толку, и так смиренны и трогательны были эти его слова, что они невольно умолкли. Однако кипевшие в них страсти неудержимо рвались наружу. И они продолжали свое:
Но для чего все-таки ты это затеял? Ведь была же у тебя какая-то цель! С какой целью запустил ты эту дьявольскую машину под названием жизнь? Ведь получается, что мы обречены жаждать полной ясности – и вместе с тем сложности. Мы жаждем безоблачной радости, хотим быть уверены в своем праве на свет и счастье – и вместе с тем нас одолевает жажда отрицания, и нам хочется, чтобы не было вообще никакой радости. Мы обречены жаждать глубочайших бездн страха, жаждать страданий, которых никому не понять, тылы, где мы изнемогаем и гибнем, – и вместе с тем хотим быть уверены, что никакого повода для страха нет. Мы жаждем гармонии во всем, покоя для нашей мысли, для нашего измученного сердца – и вместе с тем нас одолевает жажда отрицания, и нам хочется, чтоб не было вообще никакой гармонии, никакого мира и покоя. Получается, что мы обречены хотеть всего сразу.
Старик слушал их уже более спокойно. С виду он оставался все тем же, и все-таки он был теперь какой-то другой, хотя смирения в нем не убавилось.
Я простой труженик, сказал он, глядя на них. Я трудился не покладая рук. Я день за днем делал свою работу, делал всегда, сколько я себя помню. И ни к чему такому я не стремился. Ни к радости, ни к скорби, ни к вере, ни к сомнению – ни к чему такому.
Я просто хотел, чтобы у вас всегда что-то было, чтобы вам не приходилось довольствоваться ничем, пустотой.
При этих его словах стоявшие впереди благородные почувствовали будто укол в сердце. Они встретили его покойный взгляд – это было так не похоже на сжигавшее их самих нетерпение. Они смотрели на него, и он словно рос у них на глазах, он сделался вдруг таким большим, что им, возможно, было его уже и не постичь, и все же таким близким им. Они молчали, что-то теплое поднялось у них в груди, что-то новое и неизведанное, глаза их увлажнились, язык отказывался повиноваться.
Но среди тех миллиардов, что толпились за ними, тех, кто не слышал слов старика, среди тех не утихало беспокойство, напротив, оно все росло. Они вообразили, что старик просто упрямится и не желает открыть им истину, и все накопившееся в них ожесточение рвалось наружу. Уж они заставят этого несговорчивого упрямца открыть рот. Странно только, что благородные вдруг все как один замолкли. Они, конечно же, спасовали, они их предали. Наплевать им на их спасение, на их горькую судьбу. Ну что ж, придется им самим вступить в бой, хоть у них и нет иного оружия, кроме их кровоточащего сердца.
Среди этих миллиардов была и бесчисленная толпа маленьких детей, всю долгую дорогу они играли и развлекались как могли, не имея представления, куда и зачем их ведут; на них-то и пал выбор, им доверили говорить от лица этой ужасной в своей непонятности жизни. Они подвели детей к Богу и в великом своем ожесточении крикнули ему прямо в лицо:
А их-то ты для чего сотворил?! Что ты думал, когда создавал этих невинных малюток?!
Дети сперва засмущались и только робко оглядывались назад, на взрослых. Они не знали, что им надо делать, не понимали, чего от них хотят. Они стояли и нерешительно переглядывались. Потом потянулись к старику, окружили его кольцом. Двое самых маленьких протянули к нему ручонки, он присел на корточки, и они вскарабкались к нему на колени. Они разглядывали его большие, мозолистые ладони, трепали за бороду, тыкали пальчиками в старческий рот, он явно им понравился, этот добрый дедушка, и они прильнули к нему, и он обнял их, придерживая одной рукой.
Старик сморгнул слезы. Бережно и неуклюже-ласково гладил он малышей по головкам, пальцы у него дрожали.
Ничего я тогда не думал, сказал он очень тихо, но все его услышали. Я просто радовался им, и все.
Все стояли и смотрели на Бога, окруженного детьми, и в груди у каждого будто что-то таяло и ширилось. Мужчины старались скрыть свою растроганность, женщины же негромко всхлипывали: каждой казалось, что это именно ее ребенок сидит на коленях у Бога, что это его бог гладит по головке, и она плакала счастливыми слезами. В наступившей тишине слышались лишь негромкие всхлипывания. Все ощущали сейчас свою таинственную внутреннюю связь с Богом. Все вдруг поняли, что он такой же, как они, только глубже и больше их. То есть не то чтобы поняли, скорее угадали. Это было как чудо – все они вдруг постигли его божественную суть: благородные – через то, как он мыслил, люди же простые, живущие сердцем, которым было не до высоких материй, – через эту сцену с детьми.
Больше не было сказано ни слова. Они просто не в состоянии были выговорить ни слова; но вовсе не от смущения, а оттого, что сердца их были переполнены до краев. Они молчали, чтобы улеглось в душе то новое, что они здесь постигли, чтобы глубже проникнуться им. Молчали, потому что сейчас нужна была полная тишина. Они отрешились от своего я, чтобы целиком отдаться этому новому знанию.
Понемногу всхлипывания утихли. Сладостный покой, умиротворенность, как бывает после летнего дождя, когда влажная земля улыбается солнцу, такая умытая, такая теплая и близкая нам, охватили их. И они поняли, что их великий поход завершился успехом.
Им было трудно покидать бога после всего, что здесь произошло. Но вот наконец они все так же молча повернулись и тронулись в обратный путь. В последний раз оглянулись они на старика, который сидел все на том же месте: затем, подняв голову, шагнули в простиравшуюся перед ними тьму.
Дети никак не хотели расставаться с Богом, они просились остаться с ним. Но Он потрепал каждого по щечке и сказал, что надо идти за взрослыми, надо слушаться маму и папу, и дети повиновались. И Он остался один, стоял и смотрел им вслед, серьезный и счастливый. И вот Он скрылся из их глаз, слабый свет поглотила тьма.
И вот они снова шли и шли во тьме. Но теперь этот людской океан уже не волновался и не шумел, как то было на пути к богу, теперь он обрел покой. Неспешно ступая, молча шествовали во тьме эти неутомимые странники. Все головы были высоко подняты, все глаза широко открыты. Они шли воодушевленные, напряженно обдумывая то новое, что открылось им. Все пережитое ими во время свидания с богом, где ясное и понятное смешалось с загадкой и тайной, понемногу определялось и укладывалось у них в голове, оседало в душе – загадочное находило свое место в глубине, ясное и понятное оставалось на поверхности. Каждый думал о своем, каждый был наедине с самим собой. Но, размышляя о своем, каждый ощущал свою общность со всеми и, будучи предоставлен сам себе, был в то же время среди своих.
И понемногу, исподволь, по мере того как они продвигались вперед, такие разные сосуды наполнялись одним и тем же содержимым. И кто горделиво, кто смиренно, несли они, боясь расплескать, это содержимое – в сосудах благородных форм, придававших благородство и тем, кто их нес, либо в совсем простых, подобных тем глиняным кувшинам, с которыми ходят к горному источнику деревенские женщины, когда пересыхает летом их колодец в долине; они несли свое богатство, и было оно одинаково у всех. Мало-помалу преисполнились они все одинаковой душевной ясности, надежды и света.
И тогда они заговорили, каждый о своем, но обращаясь ко всем остальным – им хотелось быть услышанными и понятыми. Они говорили друг с другом как братья, просто и спокойно, делясь своими чувствами и мыслями по мере того, как, вызрев, они обретали определенность. Они говорили друг с другом как прежде, только гораздо спокойнее. И они не были теперь столь многословны и не употребляли таких громких слов: они не изливали душу, они делились только своей верой, тем, что принадлежало всем.
Среди них шел один человек, по лицу видно было, что он уже довольно стар, но голову он держал очень прямо, решительно глядя вперед, готовый преодолеть какой угодно путь; он сказал:
Я принимаю тебя; дорогая жизнь, такой, как ты есть, потому что никакой иной представить тебя все равно невозможно.
И он продолжал идти – со всеми вместе, молча, слушая других.
И на земле столетия сменялись столетиями, тысячелетия – тысячелетиями, поколения – поколениями; они ничего про это не знали, им это было неведомо. Они шли и шли, бок о бок, плечом к плечу.
Другой, шедший далеко позади первого, сказал:
Я верю в жизнь со всем хорошим и плохим, что в ней есть, я благодарен ей за все. Я благодарен ей за тьму и свет, за сомнение и веру, за вечер и утро. У меня есть что-то одно, у моих братьев все остальное.
А еще один, который жил, замкнувшись в себе, теперь же, освобожденный, шел вместе со всеми, как один из многих, сказал, выразив новую свою веру, придавшую ему силу и уверенность:
Всякая подлинная жизненная судьба для человека – клетка, потому что она предлагает лишь один вариант, потому что границы ее жестки и определенны, и чем жестче ее границы, тем острее дает она почувствовать простирающуюся за ними беспредельность.
И все же теперь, когда я обрел душевный покой, я знаю: именно в заключении воспаряет человеческий дух.
Еще один сказал:
Я благодарен жизни за все мои беспокойства, подарившие мне покой. Я благодарен за все мои страхи, открывшие мне ту истину, что страх не есть что-то, исконно мне присущее, от меня неотделимое.
Исконно тебе присущее знаешь и без опыта: море и в затишье, в отсутствие шторма, знает о темных своих глубинах.
Так они говорили друг с другом.
Но еще один сказал:
Пастух пас в горах свое стадо, когда где-то там, в глубине, начала клокотать лава, готовая разрушительной силой вырваться на поверхность. Он ничего не знал о происходящем, поэтому он был спокоен. Он пас на солнышке свое стадо и, отдыхая, спокойно упирал свой посох в землю и, сам на него опершись, с улыбкой погладывал вокруг.
Потом, когда разразилась катастрофа, и она отозвалась в нем, как отзывалось другое. Он простер руки к небесам и завопил как оглашенный. Значит, и это тоже он носил где-то в себе.
Но нельзя сказать, чтобы то или другое было так уж от него неотделимо. Когда он потом пас другие стада, совсем в других горах, про которые ему было известно не больше, он, отдыхая, снова спокойно опирался на свой посох, с улыбкой поглядывая на солнечную долину.
Услышанное вызвало тысячекратный отклик – все у них теперь было общее.
А на земле время шло неумолимо, проходили столетия, проходили тысячелетия. Но им это было неведомо. Они шли своим путем, спокойные, просветленные.
И вот, после долгого молчания, послышался еще один голос. И была какая-то загадочная привлекательность в этом голосе, кротком и вместе с тем решительном:
Мы знаем только про себя, об остальном можем только догадываться, наш удел – жизнь, иного нам не дано.
А другой сказал:
Если бы даже наше существование и не имело под собой никакой основы, нам следовало бы самим подвести под него основу. Дураки и глупцы сказали бы, что мы строим в пустоте. Но люди должны строить и верить. И наше строение стояло бы неколебимо, на чем бы мы его ни возвели. Потому что пустоты вообще не существует.
Так говорили они друг с другом.
И они думали про бога, представляли, как он стоит там в неугасающем свете своего маленького фонаря, и так им делалось хорошо и покойно. И они шли и шли. А за ними следовала толпа детишек, они шумели и смеялись, играли в догонялки. Они придумывали себе все новые игры, чтобы было не так скучно, и покуда взрослые делились своими мыслями, дети играли в свои игры.
Кто-то сказал:
Богатство жизни не знает границ. Никакое воображение не способно его вместить. Так чего же нам еще желать? А если нам все же захочется чего-то еще, так ведь в нашем распоряжении еще все непостижимое, не познанное нами. И стоит нам лишь руку протянуть, лишь подумать, что вот там что-то есть, – и вот оно, пожалуйста! Так чего же нам еще желать?
А кто-то еще рассказал:
Жил в нашем городе удивительнейший человек. Он был борцом за счастье человечества, сражался за свет и истину, он любил нас. Он шел впереди нас, далеко впереди, указывая нам дорогу сквозь тьму. Мы схватили его и сожгли на костре, он так и не склонил перед нами головы.
Прошла тысяча лет, мы поставили камень на площади, где он был сожжен. На камне мы высекли его бессмертное имя и надпись под ним:
Он указывал людям дорогу. Мы сожгли его здесь на костре. Иначе поступить мы не могли.
Этот рассказ преисполнил их торжествующей уверенностью и ликованием. Они долго шли молча, неся с собой свое богатство. Они шли и шли во тьме, сильные и свободные.
Наконец один из них проговорил, кротко и тихо:
Быть счастливым – это долг человека.
И эти его слова, показалось им, вместили в себя всю их веру. Они поразили их в самое сердце, эти простые слова. Молча, задумчиво шли они все вперед и вперед, и отблеск внутреннего света лежал на их лицах.
Но еще один сказал:
Мы счастливы не тем счастьем, о каком мечтают нищие и обездоленные. Мы счастливы, как бывает счастлив человек, который просто живет, ибо для этого он и создан.
А другой:
Радость добывается нелегко, это требует немалых усилий. Пусть человек похоронит свое горе, утопит его в целом море света, и каждый тогда увидит, как эта отдельная, крошечная боль лучится драгоценным алмазом, добытым в мрачных скалах.
Так рассуждали о счастье люди серьезные.
А вот кто-то, чей голос был гораздо звонче, рассказал следующее:
Один человек, у которого было большое горе и который отчаянно сражался с судьбой, хотя дошел уже до тайности, увидел как-то, проходя мимо одного дома у дороги, двухлетнего мальчика, который играл на куче песка с собакой. Это был совсем крошечный щенок, забавно ковылявший на своих толстых лапах. Он раз за разом тыкался мокрым носом ребенку в спину, и тот всякий раз радостно взвизгивал и хлопал в ладоши. Глазенки его сверкали от восторга. На них смотрела молодая женщина, и лицо у нее было очень счастливое, она радовалась не меньше малыша. Человек невольно остановился и улыбнулся очень уж это было забавно. Но улыбнулся он еще и ради них – чтобы показать, что любуется их счастьем.
Так он постоял немного, улыбаясь, и пошел своей дорогой. Сценка эта была из совсем другой, счастливой жизни, такой далекой от его собственной, и он тут же ее забыл. Но она, видно, все же где-то у него застряла, и когда он снова погрузился в свое горе, мучительно размышляя, как же ему дальше быть, он невольно улыбался.
После чего еще один сказал:
А вы знаете, что каждую минуту в мире рождается один горбатый. Выходит, что у рода человеческого существует потребность в горбатых. В те времена, когда я еще жил на земле, нашлись люди, которые, узнав про это, пришли к выводу, что жизнь в своей исконной сущности – вещь крайне жестокая, и, придя в отчаяние, провозгласили это самое отчаяние единственной великой истиной, единственным спасением, единственным, что может облагородить и возвысить их и дать им то горькое утешение, что обретает человек в смирении. Однако, сколь бы пылко ни проповедовали они свою веру, горбатых от того на свете рождалось не больше. Как и прежде – всего лишь один в минуту. И, придя в отчаяние теперь уже из-за этого, они в конце концов вынуждены были прекратить свою проповедь и удовольствовались тем, что снова стали счастливые.
Так говорили они друг с другом. Каждый отыскивал у себя что-нибудь такое, чем мог поделиться с другими, что-нибудь светлое и доброе, и предлагал это всем желающим. И они выслушивали друг друга, совместными усилиями возводя здание своей веры.
Миллионы и миллионы шествовали во тьме. Могучий поток, бесшумно катящий во тьме свои воды; но для них это уже не было тьмой. И вот они начали приближаться к тому месту, где все они когда-то собрались и где должны были теперь снова расстаться. Настал торжественный миг прощания.
И тогда, при всеобщем молчании, вскинул опять свою седеющую голову тот самый, довольно уже старый человек и сказал, решительно глядя вперед, как глядит путник, готовый одолеть еще какой угодно путь:
Я принимаю тебя, дорогая жизнь, такой, как ты есть, потому что никакой иной представить тебя все равно невозможно.
Больше никто ничего не сказал. Все необходимое было, считали они, уже сказано. При них осталось лишь то из их братства, что все равно не поддавалось определению, то была их тайна, которую они спрятали глубоко в душе.
Молча расстались они друг с другом, каждому предстояло теперь найти свое место в том будущем, которое ожидало их.
ПАЛАЧ
© Перевод. Т. Величко
Палач сидел и пил в полутемном трактире. В чадном мерцании единственной сальной свечи, выставленной хозяином, грузно нависла над столом его могучая фигура в кроваво-красном одеянии, рука обхватила лоб, на котором выжжено палаческое клеймо. Несколько ремесленников и полупьяных подмастерьев из околотка галдели за хмельным питьем на другом конце стола, на его половине не сидел никто. Бесшумно скользила по каменному полу служанка, рука ее дрожала, когда она наполняла его кружку. Мальчишка-ученик, в темноте прокравшийся в трактир, притаившись в сторонке, пожирал его горящими глазами.
– Доброе пивцо, а, заплечный мастер? – крикнул один из подмастерьев. – Слышь, хозяйка-то матушка к виселице бегала, палец ворюгин у тебя стянула да в бочку на нитке и подвесила. Уж она расстарается, чтоб ее пиво из всех лучшее было, все сделает, чтоб гостям угодить. А пиву, слышь ли, ничто так смаку не придает, как палец от висельника!
– И впрямь удивительно, – проговорил косоротый старикашка-сапожник, раздумчиво отирая пиво со своей пожухлой бороды. – Что к тем делам причастность имеет – во всем сила таится диковинная.
– Ого, да еще какая! Помню, в наших краях одного мужика вздернули за недозволенную охоту, хоть он и говорил, что невиновен. Как заплечных дел мастер вышиб приступку-то у него из-под ног и петля на нем задернулась, он такие ветры выпустил, что все окрест зачадил, цветы поникли, а луг, что к востоку от виселицы, будто выгорел весь и пожух, дуло-то с запада, я вам не сказал, и в округе нашей тем летом неурожай выдался.
Все хохотали, наваливаясь на стол.
– А мой отец, так тот рассказывал: когда еще он молодой был, у них один кожевник со свояченицей блудил, и с ним точь-в-точь такая история приключилась, когда его час пробил, – оно и немудрено, коли в этакой спешке земную плоть сбрасывать приходится. Народ как попятился от этого духу, глядь, а в небо облако поднимается, да черное, страсть смотреть, а назади сам черт сидит и кочергою правит, душу грешную уносит и ржет от удовольствия, что этакая вонь.
– Будет глупости-то болтать, – вступился опять старик, украдкой косясь на палача. – Разговор нешутейный, я вам истинно говорю, тут сила сидит особая. Да хоть бы Кристена взять, Анны мальца, что наземь опрокидывался с пеною у рта, потому как бесом был одержим! Я сам сколько раз подсоблял держать его да рот ему раскрывать – жуть, как его трепало, пуще всех иных, кого мне видеть доводилось. А как взяла его мать с собою, когда Еркер-кузнец жизни решился, да заставила крови испить, все как рукой сняло. С той поры он ни единого разу не повалился.
– Да-а…
– Я ведь им сосед, да и вы не хуже меня о том знаете.
– Против этого никто и не спорит.
– Как не знать, это всякому ведомо.
– Только надобно, чтоб кровь была от убийцы и покуда она еще тепло хранит, а то проку не будет.
– Это само собою.
– Да. Чудно, что и говорить…
– Опять же вот и дети, которые недужные либо худосочные, здоровехоньки становятся, коли крови им дать с палаческого меча, это я еще с малолетства помню, – продолжал старик. – У нас в округе все про то знали, бабка-повитуха таскала эту кровь-то из дома палача. Или я «что не так говорю, а, заплечный мастер?
Палач на него не взглянул. Не шелохнулся. Его тяжелое, непроницаемое лицо под заслонившей лоб рукою едва проступало в неверном, колеблющемся свете.
– Да. Зло в себе целительную силу скрывает, это уж точно, – заключил старик.
– Не зря, верно, люди так жадны до всего, что к нему касательство имеет. Ночью идешь домой мимо виселицы, а там возня, копошенье – ей-ей, сердце зайдется с перепугу. Вот где аптекари, знахари и прочие богомерзкие колдуны зелья свои берут, за которые беднякам и – страдальцам дорогие деньги приходится платить, в поте лица добываемые. Говорят, иной труп до костей обдерут, уж и разобрать нельзя, что когда-то человек был. Я не хуже вашего знаю, что сила в этом всем сидит и, коли нужда припрет, без этого не обойтись, на себе испытал, ежели на то пошло, да и на бабе своей, а все же скажу: тьфу, скверна! Не одни свиньи да летучие твари мертвечиной живут, а и мы с вами!
– Ох, замолчи ты, право! В дрожь бросает от твоих речей. А что ты такое глотал-то, говоришь?
– Не говорил я, чего глотал, и говорить не стану. Я одно говорю: тьфу, бесовская сила! Потому как это от него все идет, верьте моему слову!
– А-а, пустое. Весь вечер нынче пустое мелете. Не хочу больше слушать вашу околесину.
– Ты чего пиво-то не пьешь?
– Да пью я. Сам дуй, пьянчуга.
– Однако ж, чудно, что зло помогает и этакую власть имеет.
– То-то что имеет.
– Да, эта его власть и одной и другой стороной оборотиться может. С ним шутки плохи.
Они замолчали, задвигали кружками – отстраняясь от них. Некоторые отвернулись и, должно быть, перекрестились.
– Говорят, будто палача ни нож, ни меч не берет, – сказал старик, косясь на грузную молчаливую фигуру. – Правда ль, нет ли, не знаю.
– Брехня это все!
– Не скажи, бывают и впрямь твердокаменные – ничем не проймешь. Я слыхал про одного такого в молодые годы. Привели его казнить за лютые злодеяния, а меч-то его и не берет. Они давай топором – так топор у них из рук вышибло, ну, их страх одолел, они его и отпустили на все четыре стороны, потому смекнули, что нечистый в нем сидит.
– Пустое!
– Ей-богу, правда, провалиться мне на этом месте!
– А-а, пустое болтаешь! Кто ж не знает, что заплечных мастеров тоже мечом да топором казнят, как и прочее отребье. Да хоть бы Енс-палач – ему ведь его же секирой голову-то снесли!
– Ну, Енс – дело иное, он с силами этими в согласии не был. Попал в беду ни за что ни про что, горемыка несчастный, ну и вымолил себе жизнь, с бабой своей да с ребятишками расстаться не мог. Тут, брат, случай особый. Не по нем оказалось это ремесло, он на помосте пуще грешника злосчастного трясся. Страх у него был перед злом, вот что. Он и погибель на себя навлек оттого, что не мог со страхом своим совладать, не по плечу была ему служба – так я полагаю, и тогда он взял да и порешил этого Стаффана, что был ему лучшим другом. Я тебе скажу, топор-то, он куда сильнее Енса был и будто к себе его тянул, а тот не мог супротивиться, вот и угодил под него, потому всегда знал, что так будет. Нет, в нем сила эта самая не сидела. А уж в ком сидит, того ничто не берет.
– Ясное дело, в палаче, как ни в ком, сила таится, даром он, что ли, подле самого зла обращается? А что топор и иное палачево оружие силу в себе таят, тоже верно. Оттого к ним никто и притронуться не смеет, как и ко всему, до чего заплечный мастер касался.
– Что правда, то правда.
– Зло – оно, брат, власть имеет, какая нам и во сне не снилась. Попадешь ему в лапы – пиши пропало, не выпустит из когтей.
– А ты почем знаешь? – сказал человек, до сих пор сидевший молча. – Не так это просто – до сути его добраться, а увидишь поближе, какое оно, зло, так, бывает, и удивишься. Не то чтобы я сам до конца его проник, а только я вроде как побыл какое-то время под его властью и, можно сказать, сподобился заглянуть ему в лицо, к тайне его причаститься. Такое век помнить будешь. И что удивительно, после этого вроде и страха больше нету перед ним.
– Да ну?
– Так-таки и нету? Что-то не верится!
– Право слово, нету. Да вот послушай, коли есть охота, отчего у меня страха не стало. В памяти всплыло, пока вы тут сидели, говорили.
Случилось это еще в младенчестве, думаю, было мне от роду годов пять-шесть. Жили мы в отцовой усадебке, хозяйствовал он не худо, нужды ни в чем не знали. Я один был у отца с матерью, и, надо вам сказать, любили они меня, пожалуй, даже через меру, как уж водится, когда одно дитя в семье. Житье у меня было счастливое, а родители – каких добрее да ласковее и не сыщешь, оба теперь померли, упокой, господи, души их. Усадьба наша лежала на отшибе, на самом краю селения, и я приучился все больше один время проводить либо за матерью с отцом по подворью бегать. До сей поры помню, где у нас что было: и дворовые службы, и поля, и огород с южной стороны дома. И хоть теперь я всего лишился и никогда, верно, больше не увижу, а оно будто так и осталось жить во мне.
И вот как-то летом, в разгар косовицы, мать понесла отцу обед на общинный покос, до которого со мною идти было слишком далеко, и я остался дома один-одинешенек. Солнышко припекало, была жара, мухи облепили камень у порога, роились на том месте возле скотного двора, где по утрам процеживали молоко. Я слонялся, смотрел, где что делается, в сад сходил и к дровяному сараю, заглянул к пчелам, которые лениво выползали из ульев, сытые и разморенные теплом. Да, как уж оно там вышло, то ли заскучал я, то ли что, а только я перелез через изгородь и зашагал в лес по тропинке, по которой до того разу никогда далеко не хаживал, только самое начало знал. А тут понесло меня в места вовсе незнакомые. Тропинка шла по косогору, а лес был частый, с громадными деревьями, я засматривал в просветы между стволами и замшелыми каменными глыбами. Внизу, в ложбине, шумно бурлила река, протекавшая через наше селение. Я шагал себе и радовался: и погожий день, и все меня тешило. Солнце дремало в ветвях средь листвы, дятлы стучали, смолистый воздух обдавал густым теплом, звенел от птичьего пересвиста.
Долго ль я так шел, не знаю, но вдруг послышался шорох, и впереди, в густом кустарнике, что-то зашевелилось и взметнулось с земли. Я прибавил шагу, чтоб посмотреть, что там такое. Дойдя до поворота, увидел, что кто-то бежит, и припустился следом. Тропка пошла по более ровному месту, лес поредел, и, очутившись на прогалине, я разглядел, что это были двое ребятишек. Годами, должно быть, мне ровесники, одеты, однако ж, по-иному. По ту сторону прогалины они остановились, оглянулись назад. И опять пустились бегом. Я – за ними, не уйдете, думаю, все одно поймаю! Но они то и дело сворачивали с тропинки и скрывались в густых зарослях. Сперва я подумал, они со мною в прятки хотят поиграть, потом понял: нет, непохоже. А мне охота было с ними познакомиться да игру затеять, и я не сбавлял ходу и мало-помалу их нагонял. Под конец они разбежались в разные стороны, один заполз под упавшую ель и там схоронился. Я кинулся за ним, разгреб ветви, гляжу: он лежит там, сжавшись в комок. Я, весь взмокший, с хохотом навалился на него и прижал к земле. Он давай вырываться, голову приподнял, глаза дикие, испуганные, губы зло искривились. Волосы рыжие, коротко остриженные, а лицо все в мелких грязных рябинках. Одежи на нем только и было что старая дырявая фуфайка, он лежал почти нагишом и дрожал у меня под руками, ровно какой-нибудь зверек.
Вид у него, по моим понятиям, был малость чудной, но я его не отпускал, потому как худого о нем ничего не подумал. Он было хотел вскочить, а я надавил на него коленкой и ну хохотать, нет, говорю, от меня не уйдешь. Он притих и глядел на меня, ничего не отвечая. Но я уже видел, что теперь мы с ним вроде как подружились и он не станет больше от меня убегать. Тогда я его отпустил, и мы оба поднялись с земли и пошли рядом, но я замечал, он на меня все время сторожко поглядывал. С ним была сестренка, теперь она тоже показалась из своего укрытия. Он отошел от меня и что-то ей зашептал, а она слушала с широко раскрытыми глазами на бледном перепуганном личике. Но когда я к ним приблизился, они не убежали.
Ну, начали мы играть, они, как уж до этого дошло, играли с охотою, прятались в разные места, которые им, верно, наперед были известны, и, только их найдешь, тут же молча перебегали дальше. Там была почти что открытая поляна, лишь торчали кое-где каменные глыбы да валялись рухнувшие деревья, и они, видно, знали там все наперечет, а я подчас никак их не мог отыскать, потому что их совсем было не слышно. В жизни не видывал, чтобы детишки так тихо играли. Они раззадорились, шастали туда-сюда проворно, как ласки, но все молчком. И со мною они словом не перемолвились. Нам, однако ж, и так хорошо было, я по крайности был доволен. По временам они вдруг останавливались прямо средь игры и молча на меня глазели.
Должно быть, мы довольно долго резвились, покуда из лесу не послышался зов. Ребятишки быстро глянули друг на друга и немедля побежали прочь. Я им крикнул, мол, завтра опять свидимся, но они даже не обернулись, только слышно было, как шлепали по тропинке их босые ноги.
Когда я воротился домой, там еще никого не было. Вскорости пришла мать, но я ей не стал рассказывать, куда ходил и что видел. Уж и не знаю – вроде как это моя тайна была.
На другой день она опять понесла косарям обед, и только я остался один, как тотчас отправился на вчерашнее место и нашел там своих дружков. Они все так же дичились, особенно поначалу, и не понять было, рады они моему приходу или нет. Однако очутились они там в одно время со мною, будто нарочно меня поджидали. Мы опять разыгрались и вовсе упарились от своей молчаливой беготни: я-то ведь тоже не кричал и не гикал, как, уж верно, делал бы, кабы не они. Мне казалось, я с ними давным-давно знаком. На этот раз мы добежали до большой поляны, где я увидел домишко, прилепившийся к нависшей над ним скале. Был он невзрачный и какой-то угрюмый, но близко мы к нему не подходили.
Мать уже ждала меня дома, когда я воротился, и спросила, где я был. Я ей сказал, мол, просто гулял в лесу.
И повадился я каждый день туда ходить. Домашние так были заняты сенокосом, что им было не до меня, и никто не замечал моих отлучек. Ребятишки встречали меня на полдороге и, похоже, перестали дичиться.
Мне уж очень хотелось поближе посмотреть, как они живут, но они все время будто противились этому. Тянули меня туда, где мы всегда играли. Однако как-то раз я осмелел и подошел к самому дому – и они за мною следом, чуть поодаль. Все там было обыкновенно, только вокруг ни пашен, ни грядок, земля голая и заброшенная, будто и не живет никто. Дверь была отворена, я подождал их, и мы вместе вошли в дом. Там была полутьма и стоял затхлый дух. Навстречу нам вышла женщина, не поздоровалась, ни слова не сказала. Глаза у ней были жесткие, так меня и буравили – не знаю, что-то в ней чудилось недоброе. Волосы прядями свисали ей на щеки, а рот был большой, бескровный, с какой-то злою усмешкой. Но тогда я не особо раздумывал, какой у нее вид. Разве что подумал, мол, это ихняя мать, и принялся осматриваться по сторонам.








