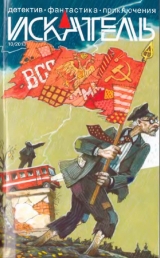
Текст книги "Искатель. 2013. Выпуск №10"
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Соавторы: Михаил Федоров,Алексей Олин,Кирилл Берендеев
Жанры:
Прочая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Так зачем же пошел? – невольно вырвалось у меня, когда мы покинули комнату и выбрались в коридор. – Ведь если не мстить.
– Может, и мстить – обществу, например, – холодно возразил Диденко.
– Не похож он на человека, который решил свести счеты с жизнью, потому что у него все плохо, а все в этом виновны. И потом, он столько готовился. Ты какой конспект у него нашел, там ведь всё, – мы снова заспорили и снова ни к чему не пришли.
– Старик тебе уже в душу влез, ты так его выгораживать стал, будто родной, – неожиданно сказал Стас.
Может, и так. Отца мне всегда не хватало. Последний десяток лет он то и дело всплывает в памяти. Или в снах. Последнее время мне часто снятся сны.
Он многое для меня сделал, многому научил. Старался, чтобы я рос развитым, настоял, чтобы я шел в детский сад, осваивать азы общения с себе подобными, а не сидел дома, пусть мать и не работала с дня моего рождения. Потом были секции самбо, баскетбола, тенниса, а воскресеньями он часто водил меня в тир, а после мы шли в парк и ели мороженое. Видя мою любовь к детективам, он старался привить серьезное отношение к чтению. Я взялся за Достоевского, Бунина, Чехова. У матери были связи в библиотеке, она доставала редкие книги. Я читал, старательно, отец потом часто спрашивал, интересовался, что я вынес из прочитанной книги. Я отвечал, иногда с удовольствием, иногда лишь бы сказать. В последние годы он стал водить меня в главк, приобщал к духу. Потом мы опять гуляли в парке, обсуждали.
Он не хотел делиться только со мной одним, старался пригласить кого-то из моих друзей, да и я пытался не раз побыть вместе с ним в компании. Вот только не шел никто, отца уважали, но куда больше боялись. Не хотели общаться, отнекивались, ссылались на что угодно. Он всякий раз пожимал плечами, говоря: «У тебя будет расспрашивать, расскажи подробней». Но спрашивали мало и неохотно, мои ответы считали отцовыми; отчасти так и было. Он строил не только и не столько фундамент моей жизни, сколько закладывал сам дом, широко, уверенно, с тем размахом, который мог себе позволить.
Не потому ли я все больше нуждаюсь в нем, архитекторе и строителе, что так и не смог сам создать в этих холодных стенах хотя бы жалкое подобие уюта. Таня, она могла, она ведь совершенно другая…
Диденко, узнав телефон других соседей, решил опросить и их, звонок застал тех на даче, о старике Стас выяснил и того меньше. Да, пацаны очень поздно всегда возвращалась, шумели, иногда под газом приходили. И да, старику доставалось от них, точно.
Не успел убрать мобильный, как тот взорвался трелью, напоминая о неотложных делах. Стас извинился и поспешил вниз, оставив меня брести нога за ногу по лестнице. За спиной послышались торопливые шаги. Я обернулся – соседка старика быстро спускалась по лестнице.
– Простите, я не хотела при дочке. Мне не нравилось, как старик ее обхаживает. Ну, как свою. Я знаю, сейчас Ане особое внимания требуется, я не успеваю нигде, на двух работах, но почти чужой человек, да еще… понимаете, сколько дверь в дверь живем, а я о нем ничего не знаю. О себе всегда молчит. Будто камень за пазухой.
– Сына же убили, а потом внуки, сноха…
– Я понимаю, все понимаю, но… С Анечкой возится тоже странно, вроде воспитателя, что ли. Не понимаю я его, совсем. Может, хоть вы разберетесь, я ведь обязана знать, – она говорила о старике так, будто не слышала час назад о его смерти. Или не верила в нее.
Я тоже не верил. Не хотелось верить в смерть отца, думалось, ну сейчас, вот врачи приедут, они сумеют, они смогут: он снова поднимется, расправит плечи. И тут же в памяти всплывала мать, сидящая рядом с узкой, словно койка, кроватью. Вот странно, мне ни разу не приходило в голову удивляться, что они не спали вместе. Что меж ними не было ни близости, ни нежности, ни дружества даже. Вроде как соседи, нет, не так, вроде как домохозяйка, нанятая еще и присматривать за ребенком. Они почти не разговаривали между собой, а если и говорили о чем, то речь шла прежде обо мне, отец выспрашивал, уточнял, напоминал. Мать молчала, согласно кивая, говорила, лишь когда он давал на то позволение.
Вот и тогда, сидя подле кровати, не смела отойти, ждала, когда поднимется, когда даст новое напоминание, разрешение уйти. Даже когда тело забрали, долго сидела: я напомнил ей о наступившем вечере, она поспешила на кухню, забыться там за готовкой.
Странно, я ее не воспринимал никогда как мать. Вроде была полжизни со мной какая-то женщина, вроде и родная и в то же время как соседка, как домработница. Отец только раз рассказывал, как они познакомились, как он убедил, после двух лет пустого брака, родить ребенка, обязательно мальчика, по этому поводу они ко врачам обращались.
Рассказал это незадолго до смерти, пытаясь поделиться, неумело, словно не знал, как это делается. Верно, на самом деле не знал. Хотел вдруг установить некое дружество, изменить отношения, но не успел. Только и рассказал про встречу, про суровые ухаживания, про прямое предложение и ее немедленное согласие.
Через месяц ушел. Таня, услышав это от меня, почему-то заплакала. Я полез с вопросами, она отстранилась. Потом притянула к себе, поцеловала, даже курить разрешила, хотя терпеть не могла табака. Сколько мы были вместе, я как не понимал ее, так с этим и остался. То веселая, то печальная, тихая, насмешливая, обольстительная, колкая, тонкая, нежная и неугомонная, шутливая и шумливая – я не успевал за ее переменами. Не угадывал причин, двигался вслепую, как котенок. И вот странно, чем дольше был с ней, тем больше хотелось бесшабашного веселья, безутешной радости, всего, что она успела подарить мне за почти два года общения. И черт с ним, с пониманием, я просто был счастлив ею.
А она? – подарив частицу себя, вдруг ушла, без объяснений, без склок, хотя и раздоры и примирения для нас составляли часть жития. Внезапно квартира оказалась пустой. Я звонил, пытался встречаться, но без толку. Потерпел два – нет, даже больше – года, больше не смог. Теперь хожу, не понимая, не надеясь, – лишь бы увидеть. Мой дом стал еще холоднее без нее. И пусть нам обоим в нем было неуютно, я ждал и верил, что она привнесет в него уют и покой. Нет, не покой, напротив, мне хотелось, чтоб ее дни со мной продолжались, суматошные, беспорядочные, неугомонные. А она словно устала от меня. Или от моего отца, ведь именно с ним с первого дня она вела бесконечные баталии. Я же, будто нарочно, призывал его.
Личная шизофрения – хотелось и беспорядка и покоя. И тишины и суматохи. И все никак не удавалось выбрать.
А может, не надо было выбирать?
Телефон пискнул. Звонил Диденко, сообщил о неожиданном свидетеле, пожелавшем дать свое видение случившегося на перекрестке. Я поспешил в отделение.
Та самая женщина, которую я опередил, переходя за стариком проспект. Волнуется, сидя на самом краешке кресла, и посматривает то на капитана при исполнении, то на того, что в отставке. Нервно курит длинную сигарету, глубоко затягиваясь и пуская дым под ноги. Наверное, первый раз пришла. И еще я смутил своим появлением. Диденко умеет доверительно общаться с прекрасным полом, у меня этого никогда не получалось. Даже с матерью: по смерти отца, она сперва пыталась подстроиться под меня, будто ничего не произошло, потом, немного оттаяв, повлиять, а после, когда я переехал, ушла в собственные бездны, откуда не возвращалась до сей поры; общаемся мы редко, открытками. Я почему-то не могу слышать ее голос.
Стас сказал, что у него задание, мол, разбирайся со всем сам. Я подсел напротив, отчего-то неуверенность собеседницы передалась и мне.
Момент выстрела она видела, хотя в это время переходила дорогу, уверенно может сказать, что старик стрелял в сторону от автобуса. Немного, но в сторону, сперва целился в лобовое стекло, но затем рука пошла влево.
– У меня очень хорошее зрение, – добавила она и снова опустила голову, будто сказала лишнее.
– Но вы согласны с тем, что старик спешил с выстрелом?
Женщина кивнула и, не дав задать вопрос, продолжила:
– Мне кажется, он не просто в автобус целился. Я видела, как вы доставали из карманов пальто документы разные, награды, ордена, зрение у меня очень хорошее, – повторила она. – И почему он так сделал, я поняла. Да вы сами встаньте на его место. Всю жизнь проработал на страну, все ей отдал, а что взамен? Нищенская пенсия и забывшие всё родственники. Или хуже того, умершие.
– Умершие, – повторил я, точно эхо. – Он один.
– Вот видите. Он не в автобус стрелял, нет, в автобус, но… как вам сказать. Всю жизнь старался, трудился, все делал как скажут, как считалось правильным, всего себя отдал. А вот теперь все двери захлопнулись. Его, видимо, отовсюду гнали, – снова кивок, я не мог ее перебить. – Никого он убивать не хотел, упаси бог. Просто напомнить о себе, да вот так экстремально, но показать, что он еще жив, еще что-то может, что его рано хоронить, как это все – и государство, и соседи, и родственники, – все это сделали. Он еще жив, пытался он сказать, наверное, не раз. И… наверное, в тюрьме ему и то лучше было б. Его бы там больше уважали, мне кажется. Ведь в тюрьме ветеранов уважают, я слышала, так да? Да?
Таня точно так же старалась убедить меня в своей правоте, я точно так же закрывался от ее слов в молчании. Мы не спорили, даже ссоры превращались в монолог, я едва мог выдавить несколько слов, отвечая на вопросы, пускай и риторические. Из тебя отец сделал болванчика, говорила она сперва. Из тебя отец пытался сделать человека, говорила она перед уходом. Всегда оставаясь правой.
Отец тоже не любил компромиссов. Если был прав – отстаивал, если ошибался – немедля признавал неправоту. Мне всегда была удивительна эта его черта, сколько я старался перенять ее, особенно после смерти.
Нет, на самом деле недолго. Ведь с его смертью ушло многое из того, что поддерживало меня, я словно оказался обнажен на ледяном ветру в своей недостроенной крепости. Когда пошел в школу милиции, растерял разом все любовно выстроенное во мне отцом. Его здание из железобетона покосилось, изувеченное, я пытался бороться, недолго.
– Да, – наконец ответил я. – В тюрьме к таким уважение. Особенно если сделано в знак протеста, неважно против чего.
– Это не протест, это… вы не поняли, я видела, он шел напомнить о себе. Признать себя, если хотите… На его месте я бы так и поступила. – И снова замолчала, не решаясь раздавить сигарету в пепельнице. Закурила следующую, от бычка, я поддался ее желанию. Недолго, пока тлела гильза, курили молча. Затушили одновременно. И снова взяли по одной.
– Ему ж почти девяносто, – сказал я.
– Вот именно. Он жив, он еще что-то может. Вы не понимаете. И он не стрелял в автобус, занесите хотя бы это в протокол. Или вы не будете заводить дело?
Она ушла, так и не дождавшись внятного ответа. Подписала бумагу и стремительно вышла в коридор. Я забыл выдать ей пропуск; впрочем, дежурный, занятый своим делом, выпустил и так, он вообще старался не вмешиваться, с моих времен на нем висело хищение и вымогательство, за что, собственно, и перешел на положение автоответчика и теперь тихонько отбывал положенное наказание. Таких все равно не выгоняли: в органах и так малолюдно, хорошие опера ушли, те, что приходили, часто не могли заполнить протокол: не умели писать или плохо знали русский. Работали как умели. Половина дел разваливалась прямо по прибытии в прокуратуру, те бесились, но передавали дело в суд. Ведь план – он один на всех: по арестам, задержаниям, раскрываемости. Приходилось выкручиваться и судьям, переписывающим в вердикт обвинение, – и причины были те же: малочисленность, уйма дел и такое же нежелание и неумение разбираться в хитросплетениях чужих судеб. Пол процента оправданных – погрешность статистики и то выше.
Выкручивался и я. Брал, бил, угрожал, подчинялся давлению, привлекал в протоколы мертвые души, вышибал оттуда живые. Меньше, чем Стас, арматура внутри держала. Я старался не отстать и боялся уподобиться ему. Верно, не зря отец строил во мне, верно, не из того или так и не успел закрепить, раз все здание скрутилось при первом же порыве ветра. Но оставшегося хватило хотя бы на то, чтоб уйти. Чтоб осталась хотя бы память. Ведь прекрасно помню свои двадцатилетий давности визиты в главк, помню, как рушилась и тонула страна, вовлекая в водоворот всё и вся. Кроме отца. Он упирался до последнего, на него, страшась признаться, надеялись, только ему, не говоря вслух, доверяли. Подчинялись беспрекословно, не смея признаться, лишь дарили подарки, от которых дн отказывался – офицеру по должности не положено. Жутко, противоестественно слышать через двадцать лет его короткие сухие фразы. Да кто сейчас скажет про мента: офицер? Отец же оставался им до последнего, пока пучина не поглотила его, воспользовавшись краткой передышкой в неустанном служении.
Я смял пустую пачку, бросил в урну, промахнулся. Много курю, меня уже просили ограничиться хотя бы тридцатью сигаретами в день, оказывается, я и в этом слаб.
Вышел в коридор, стрельнул у дежурного. Сделав круг, мысли вернулись к старику.
Только теперь я понял, что мне говорила свидетельница о старике. И что отвечал ей. «Ему же почти девяносто». – «Он шел напомнить о себе». Все считали его мертвым, даже соседка по квартире, наверное, и сноха, и уж тем паче внуки, первыми переставшие замечать в нем человека. Он просто не должен был столько протянуть, его похоронили заранее, задолго до сегодня. Справили поминки, когда он покинул последнее место работы на Тюратаме. После должна была наступить тишина, да вот он не соглашался.
Все же трудно поверить, что решился на такой шаг, только чтобы напомнить о своем существовании, отправиться в тюрьму – не его это, не его. Или я плохо понял намерения старика?
Вернулся Диденко, мрачный, поцапался с прокурорскими. С ходу предложил выпить. Посидели, поговорили, под скромную закусь раздавили бутылку водки. Ночью мне снился отец, неудивительно, весь день провел с мыслями о нем, странно другое. Он пришел, сел в кресло и молчал. Где-то в глубине сознания примостилась и Таня, и тоже молча. Обычно, когда они встречались, каждый старался высказать свое, дело порой доходило до свары. Вернее, так, как я мог представить в ней отца. Когда он оказывался один, я слушал его голос, внимал ему – и забывал обо всем по пробуждении. В этот раз я не забыл ничего – его молчание давило, я ждал, но он не открывал рта, затем поднялся, прошелся по комнате и неожиданно вышел. Исчезла и не появившаяся Таня. Я остался один. В собственном сне.
И это одиночество так взволновало, поразило меня, что я проснулся немедля, и, проснувшись даже, тяготился им, не находя места. И только затем, спохватившись, пошел жарить яичницу и греть воду для кофе. Закурил, отвлекся, долго смотрел в окно, – кофе успел убежать.
Охранником я работаю два через два по двенадцать часов, во второй выходной снова пошел в отделение. К Диденко я зашел около десяти, раньше он не появлялся на работе. Пока ожидал появления, прочел заключение патологоанатома. Когда положил лист, Стас уже вошел.
– Даже не двужильный, – повторил он, кивнув на результаты. – Знал, что любое волнение его прикончит, и все равно пошел. Он же весь в осколках после Сталинграда, наш вивисектор сказал, что с таким приданым живут лет двадцать от силы. А он… И чего пошел, теперь можешь сказать? Ты ж вроде у нас теперь это дело ведешь.
Настроение у него было отменное – видно, вчера гора с плеч упала. Диденко уточнил: сразу три «глухаря» закрыли, да еще каких, всю ночь гудели с ребятами в японском ресторане.
Я пожал плечами. Из головы почему-то не выходил отец, вернее, его молчаливый уход, оставивший новую пустоту. Странную пустоту, не такую пугающую, как прежде, – менее темную и холодную. Сумерки. Или, напротив? Мысли приходили разные, но все не про то.
– Значит, потому и пошел, что осколки начали шевелиться. Результаты освидетельствования показывали одно: малейшее волнение могло убить, и убило. Осколок перекрыл доступ крови в мозг. По мне, так еще удачная смерть. Но он рассчитывал успеть сделать свое дело до того, как случится неизбежное. Это как убийство с самоубийством, два в одном. Понимал, наверное, что шанса сказать о себе не будет, вот и подготовил все доводы заранее. Мы должны были понять, если бы он завершил дело.
– И как ты думаешь, что он собирался сделать помимо стрельбы в красный автобус?
Я молчал, не зная ответа. Мы просидели так довольно долго, Диденко несколько раз брался за листы результатов вскрытия и, проглядев, откладывал. Снова смотрел на меня, сквозь сизые клубы табачного дыма; мне почему-то вспомнился сон об отце. Я потер виски, встал, прошелся. Никак не проходило. И отец ушел, и Таня. Ну, она ладно, последние месяц-два мы с ней не могли слова связать. Я больше молчал, она дулась. Сидели перед телевизором, иной раз не включая. Вроде и вместе, и каждый сам по себе. Потом, – нет, еще прежде, за полгода до ухода, – она заговорила о тяжести ожидания. Раньше целовала так, будто прощались навсегда, часто плакала – и всегда ждала, даже когда приходил под утро, ждала так, что я боялся говорить, куда отправляюсь: на розыск, на операцию, где схлопотал две пули и ножевое ранение. Боялся и не мог не сказать, мне нужны были и ее слова, и потаенные слезы, и поцелуи, я нуждался в них с каждым разом все больше.
Потом перегорела. Заговорила не о том, куда иду, а почему. Вспоминала избитых свидетелей, взятки, поборы, шантаж, вымогательства. Но ведь и прежде знала, я ничего не скрывал от нее. Когда познакомились, подарил колье, купленное на деньги от закрытого дела. И после дарил – много и часто, и всегда все принималось с любовью. Потом просто принималось. И только за полгода стало отвергаться, как что-то враз оказавшееся ядовитым. Или будто отрава подействовала лишь сейчас.
После мы спорили и ссорились из-за этого. Потом замолчали. Месяцем позже я помогал ей паковать вещи и сгружать в такси, она взяла все, кроме последних подарков. Потом я внизу нашел шубу, кольца, серьги, часы – подаренное за прошедший год. Она взяла только колье и броши, парфюм, еще какие-то мелочи, по-своему отделив зерна от плевел. Мне показалось, в последний раз плюнула в душу. Или так любила? «Я устала бояться за тебя и бояться тебя», – последняя фраза, которую она произнесла, выходя из квартиры, провожать до такси не велела. Когда я вышел – через полчаса, сам не понимая зачем, – увидел вещи. В ярости пнул шубу, попытался раздавить кольца, сережки… Ушел в дом. Мне звонили, я не подходил к телефону.
Дверь открылась: дежурный привел еще одного свидетеля.
Тот самый мужичок лет сорока, которого отчаянно отпихивали детины из ППС. Я подсел, интересуясь, откуда он взялся, вроде бы не видел его до выстрела. Оказалось, единственный из красного автобуса, кто не поленился пропихнуться к следователям. Тогда его не послушали, так, может, сегодня?.. Ведь он отменил какую-то очень важную встречу, а потому сразу попросил у Диденко выписать справку, и хотел дать показания, а также свою версию случившегося.
– Разбирайся, – произнес Стас. – А мне пора свою работу делать.
И вышел. Я стал выспрашивать: свидетель показал, что находился на переднем сиденье, вслед за кабиной водителя, как раз смотрел в окно, когда все случилось. Видел вспышку, ему показалось, пистолет был направлен прямо на него; впрочем, зрение не идеальное, да и автобус трясло.
– Кроме вас, еще кто-то момент выстрела видел, как думаете?
Он кивнул уверенно. Рядом с ним стояли двое, тоже смотрели в окно, сзади сидела девушка, да автобус был полон, многие на нем до метро добираются, особенно приезжие, кому не хочется платить лишние деньги, а кому-то они не мелочь, произнес он с укором.
Я предложил ему закурить, он отказался.
– Стараюсь избегать вредных привычек, накладно. И вам советую.
– Вернемся к выстрелу. Что говорили в автобусе?
– Псих, сдурел на старости лет. Многим показалось, что стреляли из травматики, кто-то думал, игрушечный пистолет. Ведь пуля никуда не попала. Ее нашли? А отверстие?
Я покачал головой.
– Значит, игрушечный, – с некоторым разочарованием произнес он.
– Нет, настоящий, больше того, наградной.
– Тогда должен был попасть, вы хорошо искали?
Кажется, больше вопросов задавалось мне. Я напомнил мужичку о правилах поведения, он сразу сник.
– Я просто хочу понять, что случилось. У меня версия есть, думал, пригодится. Ведь вы тоже хотите разобраться. И я видел, как вы документы из старикова пальто доставали. Много документов.
– Что за версия? – Все видели, но никто ничего не хочет рассказывать.
– Я думаю, он мстил кому-то. Долго выслеживал, но опоздал. Понимаете, он узнал человека на другой стороне проспекта. Поспешил к нему, а тот его увидел и все понял. Побежал прочь, старик бы его не догнал, потому выстрелил.
– А почему бы ему не пропустить автобус?
– Он в сторону пустыря побежал, автобус проедет, и все, из пистолета не достанешь. Знаете, я тоже служил в свое время, – сказал и замолк.
Я откинулся на спинку и долго смолил, глядя в потолок. Добрался до фильтра, но тут же начал новую. Видел ли я кого-то на той стороне проспекта? Вроде нет. Переход был чист, а вот из тех, кто мог идти вдоль, – нет, не вспомню. Был вроде кто-то, или нет? Темное пятно… все время смотрел на старика, на противоположную сторону проспекта, на шоссе наискось, затем увидел краем глаза движение его руки, и все. Остальное тут же пропало из поля зрения.
– Можно окно открыть? – я очнулся. – Я плохо переношу табачный дым.
– А вы почему так решили? Видели кого-то?
– Нет, не видел, но подумал, ведь он долго целился. Мне показалось, очень долго. Понятно, на самом деле, секунду, но автобус будто подъехал к траектории. И потом странно, – сказал мужичок, вздрагивая, наверное, еще раз все вспомнилось, – он ведь стрелял в автобус, а даже отверстия вы не нашли.
– Он мог промахнуться.
– Отдача, да конечно. Но как вам версия? Ведь может же быть такое?
По мне, он целился в лобовое стекло, резко поднял руку и выстрелил, выждав от силы полсекунды. Да, рука не двигалась, цель он подпускал, меня так же учили. Или, если брать в расчет слова мужичка, упускал? Я поднялся, открыл фрамугу. Проверить эту версию не представляется возможным. Возле перекрестка трава регулярно косится, следов на ней не оставишь. Если кто и отбежал, мог оглянуться, увидеть, что произошло и спокойно пойти по своим делам. В суматохе после выстрела о таком никто не вспомнит. Но кто это мог быть? Да и мог ли быть вообще?
Отец всегда говорил, что месть – удел «слабых, подлых людишек», никогда нельзя опускаться до отмщения, воздать по заслугам может только суд, только суд, разобравшись во всех тонкостях происшествия, может решить, виновен ли этот человек и какого наказания заслуживает. А месть сразу убивает обоих: и неважно, кто из них палач, а кто жертва, оба перестают быть. Один – потому что убит, другой – потому что убил самого себя. Когда пойдешь по моим стопам, помни, что и ты не суд, и не позволяй себе даже в мыслях подобного. Ты понимаешь, сын?
Кажется, отец никогда не называл меня по имени, только так, и я его именовал исключительно отцом, мне это нравилось. Вроде бы мы с ним не то что на равных, но на одной доске. Я похрустел костяшками пальцев, кому сейчас его слова? Даже я их перестал слышать, прежде внимательный настырный ученик, быстро сломался и пошел своей дорогой. И только ночами прошу прощения и жажду слова. Прежнего, твердокаменного, – как единственную точку опоры в расползшейся жизни.
– Старик бы не опустился до такого. – Зря я произнес это вслух, мужичонка вдруг вскочил и заговорил о пользе мести, о единственном способе, который еще только и может унять нынешний беспредел. О необходимости разрешить ношение оружия – да, первые несколько лет одна стрельба и будет, но зато потом все отморозки исчезнут. Дарвиновский отбор – он самый справедливый, никакой суд не заменит. Да что сейчас суд, полиция, прокуратура – все сгнило, везде такие же отморозки, их самих чистить и чистить.
– Вы сейчас до статьи договоритесь.
Он резко смолк, по-том сдавленно попросил прощения. И вышел, позабыв о протоколе, который я так и не стал заполнять. Следом зашел Диденко, довольно смурной.
– Звонил в прокуратуру, дело возбуждено не будет. У них там очередная проверка на вшивость. Вчера председатель Следственного комитета устроил публичный разнос своим холуям, вот прокурорских и трясет. А жаль, мне бы лишняя «палка» не помешала, до конца месяца всего ничего, а еще пятнадцать до плана, а его ж перевыполнять надо. – Он вздохнул и спросил неожиданно: – Слышал, наш министр просил всех, не прошедших, вернуться. Вроде как амнистировал. Может, придешь?
– Ты это всерьез? – Он кивнул. – Наверное, нет.
– Знаешь, я… хотя нет, от тебя другого не ждал. – Все равно обиделся. – Да и опер ты был неважный. Все тебя выручать приходилось. – Он напомнил, как получил четыре пули разом, закрывая меня во время штурма притона. А едва очухавшись в больнице, завидев меня, заулыбался во всю ширь, словно ради только этого и встал на пути очереди.
– Я уж давно отрезанный ломоть. Вот правда, не смог бы вернуться.
Он махнул рукой, Стас вспыльчив, но отходчив. Спросил насчет свидетеля. Я рассказал.
– Несерьезно как-то. Столько лет готовился, а решил стрелять в самом неподходящем месте. Нет, тут в красном автобусе надо искать причину.
– Я смотрю, ты все же заинтересовался.
– Да дурь в башку лезет. И старик тоже странный. Чего ему надо? Теперь уж не скажет. – И, перескочив, тут же: – Зато твой вон как растрепал. И гниль, и подонки, и вообще не пойми кто. Будто все мы тут злобные пришельцы, от которых никто не знает, как избавиться. Как будто в той же стране не жили, в те же школы не ходили, в одном дворе не росли. Жен, детей не имеем. Чужие, для всех чужие. Пришельцы. – И гаркнул: – Да в зеркало надо смотреть! Вот эта сопля посмотрела бы – и мента бы там увидела. Решал всё, что ему можно. И того убить, и у этого отобрать, и так поделить, и чтоб никто не мешал. Ну и чем он нас-то лучше, чем?! Тем, что он мечтает, мы делаем?
Он помолчал и совсем другим голосом закончил:
– Вот старик, да, он инопланетянин. Попал к нам без скафандра и все, каюк. А мы… нет, мы-то аборигены. Плоть от плоти, не отдерешь теперь, так что мучайтесь, никуда не денемся. За себя стоять будем.
– До упора, – едва слышно добавил я. И, оторвавшись от стены, поплелся к двери. Диденко ничего не сказал, даже не кивнул в ответ на мое прощание. Я вышел и пешком двинулся к перекрестку.
Пустота охватила теплым одеялом. Так и брел в ней, без мыслей, без чувств, пока не добрался до места. Остановился посреди перехода, ровно на том самом месте, где увидел, как достает из кармана «Вальтер» и целится старик.
Уже ничего не напоминало о вчерашней трагедии. Мимо пробегал на красный народ, толкая, чертыхаясь. Я бросил взгляд на часы, надо же, подошел в точности через сутки. Только сейчас людей куда больше. И красного автобуса нет.
Может, целился старик все же не в него? А может, куда проще – его на переходе и переклинил осколок, и задыхающийся мозг воспринял красный автобус как нечто, что он давно искал, ждал, думал – ушло, но нет, вернулось из небытия, восстало – и снова здесь. Что-то из давно прошедшего.
Нет, скорее, из недавнего, из сегодня, накатило на память, нещадно давя и пятная кровью прежде белоснежные бока. Что-то страшное, от которого и защитить себя и всех можно лишь одним способом. Как на войне.
Зажегся зеленый, но я так и остался стоять. Все могут оказаться правы, и никто не прав. Я не могу найти ответа, хотя старик оставил почти все для решения загадки.
Пустота внутри разгорелась, я расстегнул ворот кожанки. Не понимаю почему, но мне кажется, что старик все же попал в цель. Только не успев понять этого.
Я оглянулся на дома, мимо которых должен был бродить еще вчера, посмотрел на пустырь, на перекресток. Вздохнул и медленно побрел к остановке. Не сегодня, может, когда-нибудь еще, но не сегодня.
Бело-зеленый автобус подошел, открыл двери и поглотил меня.








