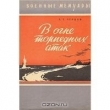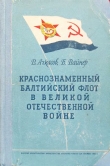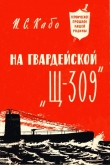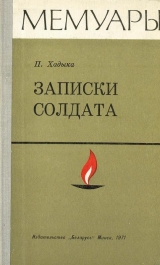
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Павел Хадыка
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Ревел ветер, нас заносило снегом. Лошадь обессилела и через каждые десять – пятнадцать шагов останавливалась. Снег на ней таял, и она вся дрожала. Наконец остановилась совсем и на наше «но-но» перестала реагировать. Когда мы добрались до ее головы, оказалось, что впереди какой-то высокий сугроб, возможно, лес. Начали руками разгребать снег и наткнулись на что-то твердое. Почти сразу же услышали глухой лай собаки.
Ревущий буран заглушал наш крик, и за преградой никто не отзывался. Я взял в санях винтовку (их было у нас две) и начал стволом пробивать снег. Стена оказалась плетеной из прутьев. Наконец лай собаки приблизился, а вскоре послышался и голос женщины. Она спрашивала, кто там. Я всунул голову в пробитую дыру и ответил, что мы – двое военных, сбились с дороги, очень просим пустить нас переночевать. Но женщина заявила, что пустить нас не может, а если мы начнем ломиться, она станет в нас стрелять.
Из дальнейших переговоров мы узнали, что это дом лесника и никакой деревни вблизи нет. Мы оказались в восьми-девяти километрах в стороне от нашей дороги, где-то на окраине лесного массива.
Чтобы доказать наши мирные намерения, разрядил и выбросил в лабаз свою винтовку.
– Мы не грабители, вот наше оружие, впустите хотя бы в лабаз, иначе замерзнем, – убеждали мы.
Видно, передача винтовки подействовала, хозяйка позвала парня лет пятнадцати-шестнадцати, который появился с зажженным фонарем и охотничьим ружьем. Посоветовавшись, они подали нам деревянную лопату для расчистки снега, а сами стали открывать плетенные ворота.
Мы очень обрадовались, когда очутились в крытом дворе, и не знали, как отблагодарить нашу хозяйку.
Лабаз оказался довольно вместительным, примерно двадцать метров в длину и десять в ширину. Здесь было сравнительно тепло. Сюда выходили двери из дома, сарая и погреба, а посередине стоял рубленый колодец, у одной стены были сложены дрова.
Распрягли лошадь и укрыли ее тулупом. Хозяйка пригласила в дом. Даже не верилось, что мы в безопасности. А буран ревел.
Лесника Вали Мухометжанова дома не было. Четыре дня тому назад он уехал на совещание. Кроме хозяйки дома был их приемный сын, казах по национальности. Они его взяли в одной кочевой семье в тридцатые годы, когда группа казахов уезжала из Кустанайской области куда-то на юг.
Хозяйка, Зугра Мухометжанова, по национальности была татаркой. Муж тоже татарин. Она оказалась очень гостеприимной, приготовила ужин из кролика, заварила душистый чай. Мы вынули свои продукты. Сели к столу. Хозяйка сказала, что мы сильно перемерзли и желательно было бы выпить по сто граммов водки, но водки в доме нет.
Накануне выезда из Владимировки председатель сельского Совета пригласил нас на ужин, где среди гостей оказался председатель сельпо. Нашу просьбу отпустить нам из магазина немного хлеба, консервов и пол-литра водки председатель сельпо удовлетворил. В день выезда мы заглянули в магазин, где для нас был завернут пакет. Расплатившись и поблагодарив за продукты, мы уехали. В дороге пакет не раскрывали, было не до него. И вот теперь извлекли водку и разлили по рюмкам. Но при первом глотке обнаружили, что вместо водки нам подсунули керосин. Настроение испортилось. Конечно, мы поужинали с аппетитом, но очень возмущались обманом, тем более перед такой дальней и тяжелой дорогой.
Буран нас задержал в лесной сторожке более чем на сутки. Пришлось еще ночевать. Случай заезда сюда в столь ненастную погоду Зугра объяснила тем, что на этой лошади здесь не раз бывал начальник школы Успанов. Мы с ней согласились, так как знали страсть начальника к охоте.
На вторые сутки мы выехали в Кустанай. Буран стал немного тише, но все еще свирепствовал. Километров пятнадцать мы ехали лесом и хорошо различали дорогу.
В Рыбное прибыли, когда уже было темно. В дом моего названного отца привела сама лошадь. Хозяин нашему приезду обрадовался. Убрав лошадь, ушел искать водку, но буран угнал его от домов, и он оказался в двух-трех километрах от деревни на озере с названием Кочковатое. Там сориентировался и только к утру добрался домой. На водку нам явно не везло.
Ночное отсутствие хозяина нас очень беспокоило, но выходить на розыск хозяйка не решалась и нам не советовала. У ворот дома, на столбе, висел какой-то кусок железа, и мы по очереди выходили с молотком и звонили, подавая сигнал. Но сигнала хозяин не слышал.
Дровами Владимировка обеспечивала школу бесперебойно.
Весной пришлось мне побывать в дальней деревне Алексеевке, где школа купила трактор «Форд Путиловский». Перегон на подсобное хозяйство из-за отсутствия в школе тракториста пришлось делать мне. Еще в 1929 году я окончил автокурсы в Минске и неплохо водил машину. Алексеевский колхоз был очень богатый. Мы любовались прекрасными лошадьми, рогатым скотом, чудесными производителями, хорошими постройками. Колхоз имел собственную электростанцию, которая подавала свет даже в дома колхозников.
В 1933 году школа получила две грузовые автомашины – «АМО-Ф-15» и «ГАЗ-А». Теперь она была полностью обеспечена своим транспортом.
Летом ко мне обратились жены начальствующего и преподавательского состава доставить их за 40—50 километров в степные вишневые заросли за ягодами. Просьбу пришлось уважить.
Кустанайские степные дороги летом совершенно не похожи на зимние, они доступны любому транспорту. Но когда поднимаются сильные ветры, возникают пыльные бури.
Заросли ягодника вишни – это не отдельные деревья и даже не кустарники. Низкие ягодники тянутся на километры. Кусты высотой в 30—40 сантиметров напоминают заросли черники, только покрыты они красными гроздями спелых плодов, которые по размеру меньше ягод нашей вишни, немного кислее. Но вполне годны для употребления в свежем виде и для приготовления варенья, настоек, джемов.
Мне пришлось бывать на сборе степной вишни два-три раза.
В ближайшие заросли в выходные дни из Кустаная прибывало много людей, а за 80—100 и более километров выезжали на автотранспорте специальные заготовительные группы из Троицка, Карталов, Магнитогорска и других рабочих центров.
Плоды спелой вишни там в большом почете.
Летом 1934 года школа в полном составе выехала в Алма-Ату, где приняла от одной воинской части благоустроенные летние лагеря за городом. В них мы и стояли до сентября. Лагерь располагался в фруктовых садах, в которых было много яблок, особенно чудесного Вернинского апорта.
Таким образом, школа приблизилась к столице республики. В 1935 году она окончательно переехала в Алма-Ату. Предоставленные школе стационарные помещения в городе были удовлетворительными. Под квартиры отвели три двухэтажных дома, и постоянный состав разместился хорошо.
В том же году сняли с работы Успанова. Обязанности начальника школы временно возложили на меня. Лекции читали работники центрального партийного и советского аппарата, что значительно улучшило учебный процесс. Кроме того, курсанты получили возможность закреплять свои знания на практической оперативной работе.
В 1936 году Наркомат обороны СССР присвоил мне воинское звание капитан.
В январе 1937 года мою семью постигло большое горе – умер сын Вова. Ему было 8 лет. Как это случилось, никто не видел. Дети играли во дворе, соседский мальчик Избасаров бросил камень в моего сына и попал в переносье. Образовалась рана, началось заражение крови. Мальчика положили в клинику Совнаркома Казахстана, но спасти его не удалось. Это было исключительно тяжелое горе в моей семье.
В том же году я окончил вечернюю среднюю школу при 1-й алма-атинской дневной школе. Получил свидетельство о среднем образовании. И сразу же поступил на заочное отделение Центральной Высшей школы в Москве (ЦВШ).
И наконец в 1937 году наша семья еще раз увеличилась. У нас родился мальчик – Борис.
1937 год был и для школы особым годом. Сдали в эксплуатацию новое здание учебного корпуса. Прибыл новый начальник школы – Федор Иванович Рыбалкин. До этого он был начальником пограничного отряда где-то на границе с Маньчжурией.
Школа расширилась. Были оборудованы хорошая библиотека, клуб, организован духовой оркестр. Школа превратилась в солидное учебное заведение, готовила квалифицированные национальные кадры.
Обновился командно-преподавательский состав. В 1938 году убыл начальник школы Ф. И. Рыбалкин.
Из многих желающих поступить в ЦВШ было зачислено из Алма-Аты только два человека – работник политотдела П. И. Ильченко и я. В данное время он подполковник в отставке, живет в Алма-Ате. С сентября 1937 по сентябрь 1939 года у меня наступила учебная страда. С Ильченко мы усердно занимались.
Одна из комнат моей квартиры была превращена в учебный кабинет, где я почти ежедневно засиживался до двух-трех часов ночи. Работать и одновременно учиться было очень тяжело. Но знания мне были очень нужны для дальнейшей работы. Нельзя руководить людьми с высшим образованием, не имея этого образования самому.
В работе особенно много помогали мне заместитель начальника школы по политической части Михаил Петрович Баюшев (ныне пенсионер, живет в Минске) и преподаватель Н. И. Зайцев, прибывший в школу вместе со мной по окончании Московского государственного университета имени Ломоносова (ныне пенсионер, живет в Каунасе).
Начальника школы по-прежнему не было, и на меня легла чрезмерно большая нагрузка. В дополнение ко всему летом 1938 года меня вызвали в Москву на трехмесячные курсы переподготовки начальников школ и их заместителей по учебной части. Одновременно пришлось сдавать зачеты и на курсах и в ЦВШ.
На курсах читали лекции видные политические и государственные деятели, такие, как Е. М. Ярославский, Змеул, И. И. Минц, Кудрявцев, академик П. И. Степанов, первый заместитель наркома иностранных дел В. П. Потемкин, а также Герой Советского Союза М. Т. Слепнев и другие.
Побывали на экскурсии в музее Владимира Ильича Ленина и многих других музеях Москвы. Посетили многие театры и концертные залы. Проехали по каналу Москва – Волга.
Учеба на курсах осталась в моей памяти навсегда.
Летом 1939 года мы с Ильченко отбыли в Москву для сдачи государственных экзаменов за ЦВШ. Окончание учебы для меня и моей семьи было большим событием, все волновались, переживали.
Наконец экзамены остались позади. 15 или 16 сентября состоялся выпускной вечер. В тот же день нам выдали свидетельства об окончании ЦВШ. Многие выпускники, в том числе и мы с Ильченко, за успешную учебу получили путевки в санаторий. Наши путевки были в Ялту.
Отправились на Курский вокзал. Подъезжаем и видим – всюду у радиорепродукторов стоят толпы людей и что-то внимательно слушают. Мы тоже подошли. Передавалось заявление Советского правительства о переходе нашими войсками границы с Польшей с целью освобождения Западной Белоруссии. Я был настолько взволнован и обрадован, что невольно на глазах появились слезы. Сбылась мечта – моя родина объединяется с Советской Социалистической Республикой. Теперь я уже не зарубежник.
Ильченке заявил, что в Ялту не поеду, путевку сдам и буду просить разрешения выехать в Ворониловичи. Возвратился в министерство и подал заявление. Там сказали, что вопрос с выездом будет решен через некоторое время, а теперь следует выехать на место прежней службы.
Возвратясь в Алма-Ату, написал два или три письма в Ворониловичи. Очень хотелось поскорее узнать, что там и как. Но только в ноябре пришло долгожданное письмо от брата Александра, в котором он коротко сообщал о семье и приглашал приехать в гости. В декабре получил разрешение на выезд с женой на месяц в Ворониловичи.
Сборы были короткие, подарки давно закуплены.
В Минске пересели на поезд, идущий в Брест. Вот и станция Нехачево. Сходим с поезда. Нас встречает брат Александр. Сразу узнаем друг друга. Объятия, поцелуи, путаные вопросы:
– Как дома?
– Как доехали?
– Как у вас?
– А у вас?
От станции Нехачево до деревни Ворониловичи – сорок километров, а ехать надо на санях, декабрь, холодно, мороз более сорока градусов. Сыну Борису два года. Замерзнет ребенок. Дочь 13 лет осталась в Алма-Ате у нашего друга Исидора Минаевича и его жены Марии Андриановны Кукс. Как довезти ребенка? Наконец устроили его у жены на груди под зимним пальто, сверху накинули какой-то тулуп, привезенный братом. Ноги укрыли сеном.
Сорок километров проехали с одной остановкой в местечке Коссово, где зашли в дом, обогрелись и размяли отекшие ноги, привели себя в порядок.
В Ворониловичах нас ждали. Была и радость, были и слезы. В первый вечер в наш дом собралась буквально вся деревня. Негде было повернуться. Многие стояли на скамейках у стен. Слышались разговоры:
– Ну, вы уже посмотрели, пропустите нас!
На нас смотрели с нескрываемым любопытством, как на пришельцев с другой планеты. Молодежь не знала нас. Более пожилые здоровались и вступали в разговор.
Но в первый же вечер мы с женой были и возмущены. Кто-то пустил слух, будто одежда на нас не наша, а выдана нам Советами (так называли органы Советской власти в Польше). Выдана временно, только на период поездки в Ворониловичи, по возвращении ее придется сдать назад. И мы снова будем ходить полураздетыми. Подарки же получены специально для обмана населения.
Двадцатилетняя агитация против Советской власти, видимо, дала свои плоды. Находились люди, которые верили всяким небылицам о Советском Союзе. Верили, хотя сами хорошо знали, что от притеснения польских властей и тяжелых условий жизни очень многие из деревень и даже из тех же Воронилович бежали в Советский Союз.
Чувствовалось, что густо насажденная агентура польской дефензивы продолжала свои провокационные действия, распуская слухи о нашей стране один нелепее другого.
Как-то жена постирала белье и вывесила сушить в закрытом сарае, где складывались дрова, а мать, натянув веревку во дворе, перевесила его туда, ближе к улице. На вопрос, почему она это сделала, мать ответила:
– Пусть посмотрят, что у вас есть белье, и даже шелковое.
Оказывается, кто-то распустил слух, что у нас нет белья.
Очень грустно было слушать нелепые сплетни и вместе с тем смотреть на тяжелые условия жизни моих односельчан.
Рядом с нашим домом стояла халупа соседа Матвея Козла. Он и его сын Филипп жили очень бедно. К ним через разбитое окно кухни постоянно забирались чужие коты и лакомились молоком из кувшина, обмакивая туда лапу и облизывая ее потом.
Сын Филиппа приходил к нам всегда босиком. Он даже к своему отцу на гумно, где цепями молотили рожь, прибегал босиком, а зима была холодная, и ему приходилось попеременно стоять то на одной, то на другой ноге, согревая их о голень по очереди. И отец не обращал на это внимания.
Григорий Ахраменя на мой вопрос, как жилось при Польше, рассказал:
– Знаешь, Павлюк, я всю жизнь охотился за землей. Как сам знаешь, своей земли у меня было мало, и мне хотелось прикупить 3—5 гектаров. Денег не хватало, а земля была дорогая. Продавали землю помещики, – объяснял далее Ахраменя, – или разорившиеся крестьяне, уходившие в города на поиски лучшей жизни. Но крестьянская земля была очень плохая, песчаная, малоурожайная. Помещицкая была куда лучше, но и намного дороже. В нашем Коссовском повете не было ни одного торга, на котором я не присутствовал бы. Но за 19 лет земли так и не купил.
Вечерами собирались ко мне товарищи по детству, по совместной жизни в Оренбурге. Приходили и старики. Многие приглашали к себе домой. Некоторые были моими близкими товарищами. И все же они были не похожими на тех, которых я знал раньше. Они были другими, какая-то грань легла между нами.
Сначала я не понимал, что разделяет нас. И только через несколько дней заметил привитое им раболепство. Мне стали надоедать низкие поклоны от детей и до стариков, с обязательным снятием шапки, несмотря на сорокаградусный мороз. Никакие доводы, что я такой же, как и они, не могли их убедить. Низкопоклонство продолжалось.
Очень неприятны были и подачки. Да, настоящие подачки. Ко мне зачастили за советами: куда обратиться за розыском родственников, которые ушли в Советский Союз в период нахождения Западной Белоруссии под польской властью или остались в России с 1915 года. Обращались и с другими вопросами. И каждый обязательно приносил и клал в кухне кусочек сала, десяток яиц или немного масла. На мое требование взять подачки назад отвечали:
– Так положено.
Наш отказ от платы за советы был им непонятен.
Из друзей по Оренбургу в Ворониловичах были только Александр и Андрей Ерши.
Из старожилов меня навестили Николай Хадыка – сын моего дяди Антона, Григорий Ахраменя, Александр Суходольский, Игнат Козловский, Антон Рудый, Лука Баран, Максим Ахраменя, Антон Прокопеня и другие. Они рассказывали о тяжелой жизни при Польше, о вечных поисках заработка, дороговизне, о мучительном ожидании освобождения из-под власти польских оккупантов. Поведали и о политической борьбе белорусского народа против буржуазии и помещиков. Рассказывали о пожарах имений, купеческих контор, иностранных заготовительных складов в лесах, о подпольных организациях, тайной читке запрещенной литературы, слушании радио, об арестах и осуждении на многие годы активистов из многих деревень. Интересовались жизнью в Советском Союзе. Особо расспрашивали о колхозном строительстве. Наши беседы затягивались до позднего вечера.
В январе 1940 года с женой и сыном я возвратился в Алма-Ату.
В феврале 1941 года меня направили в город Владимир на курсы усовершенствования командного состава Красной Армии. Начальником курсов был полковник Иосиф Иустович Санковский.
Моя жена с детьми временно переехала в Минск к своим родственникам. Накануне Великой Отечественной войны семья оказалась разделенной.
ТРУДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Владимир – областной город с населением менее ста тысяч человек и промышленностью местного значения. Правда, уже начал строиться тракторный завод.
В прошлом Владимир претендовал на первозванную столицу центральной части великой, но разобщенной Руси. Как крепость, основан на высоком берегу реки Клязьмы князем Владимиром Мономахом в 1108—1109 годах. Сохранилось много исторических памятников. Успенский собор, построенный в 1158—1161 годах, Дмитриевский собор, возведенный в 1193—1197 годах, и Золотые ворота 1164 года, служившие главным входом в город. Во многих местах сохранился крепостной вал.
Наши курсы усовершенствования командного состава (КУКС) размещались на улице Фрунзе, в здании бывшего женского монастыря. Он был огорожен высокой каменной стеной, а для связи с внешним миром имел только одни ворота. По внешнему виду здание похоже на тюрьму, небольшие комнатки, напоминавшие камеры. Внутри двор без растительности. После Алма-Аты отсутствие зелени действовало угнетающе.
Это было мое второе пребывание в зданиях бывших монастырей. Летом 1936 года я отдыхал в санатории «Новый Афон» (Ахали-Афони). Впервые в жизни получил такую путевку, да еще на побережье Черного моря. Я был очень рад. На время своего отпуска семью отправил к родственникам в Минск, сам выехал в санаторий. До Сочи ехал поездом, а оттуда малым автобусом, вмещавшим десять – двенадцать человек. Из автобуса все мы, пассажиры, любовались необычным для нас пейзажем. Дорога, извиваясь, то удалялась, то приближалась к морю. Круто, а местами полого спускались Кавказские горы. Мы смотрели то направо, то налево. Вдруг кто-то закричал. С горы на большой скорости прямо на нас шла грузовая машина. Наш шофер растерялся и не смог предотвратить столкновения.
От удара груженной дровами машины наш автобус опрокинулся на правый бок. Произошло это в 6—8 километрах от Гагр. Жертв не было, но несколько человек получили повреждения, в том числе и я – вывих левой руки. Моя первая поездка на побережье Черного моря была омрачена.
Санаторий был размещен в бывшем Ново-Афонско-Симоно-Кананитском мужском монастыре, основанном в 1876 году. Здесь постоянно жил академик Украинской Академии наук Кинги. Я с большим удовольствием прослушал несколько его лекций по истории Кавказа и, в частности, по истории Нового Афона. Лекции сопровождались показом тех мест или предметов, о которых говорил академик. Мы совершали экскурсии по территории монастыря, рассматривали его достопримечательности, даже совершили с академиком поход на Иверскую гору, побывали там в развалинах бывшей римской крепости и античного храма, где хранилось много памятников старины.
Здание монастыря представляло собой замкнутый квадрат, в средине большой двор, на котором стоял собор и копия кремлевской Спасской башни с такими же курантами.
Из рассказов академика Кинги мы узнали, что для написания над царскими вратами собора иконы «Тайная вечеря» был приглашен из Италии какой-то знаменитый иконописец (фамилию не помню). Договорились о цене. Но когда иконописец прибыл в Новый Афон, скупой настоятель монастыря за работу предложил только половину цены. Художник страшно возмутился и решил оскандалить жадного настоятеля.
Разделив отведенную под икону площадь на две равные части, с левой стороны он написал Иисуса Христа и шесть апостолов, снял леса и драпировку и предложил администрации принять икону за половину обещанной настоятелем цены. Поднялся скандал, начались угрозы, требования воссоздать всю икону с двенадцатью апостолами. Настоятель согласился уплатить полностью запрошенную иконописцем цену. Но ничто не помогло. Иконописец твердо заявил, что он никогда не переделывал своих работ. Единственное, на что он согласился – за доплату написать копию только что воспроизведенной им части иконы и на правой стороне отведенной площади и обязал это сделать одного из своих учеников. В результате получилась «Тайная вечеря» с двумя Христами и у каждого по шесть апостолов сбоку.
Собор именовался Александровским в честь императора Александра III. Скандал и тяжба настоятеля с иконописцем длились до октября 1917 года.
Владимирские курсы подчинялись непосредственно Наркомату обороны. Я был в 16-й учебной группе. Она состояла из командиров-пулеметчиков, имевших звание от старшего лейтенанта до майора включительно.
В одной группе со мной были капитаны Н. В. Ермилов (ныне пенсионер, живет в Минске) и Горшков, москвич. Было среди нас четверо награжденных орденами Красного Знамени за гражданскую войну.
Из постоянного состава курсов запомнились начальник – полковник Иосиф Иустович Санковский (в войну генерал-лейтенант), комиссар – полковой комиссар Зиновий Григорьевич Кузнецов, начальник учебного отдела полковник Александр Иванович Дубинкин (во время войны служил вместе со мной в одной части), командир батальона майор Андрей Михайлович Маликов.
Из преподавателей помню полковника Анциперова, майоров Хотемкина и Звингула, капитана Кинцеса (в войну генерал-майор). Руководителем нашей пулеметной группы был орденоносец майор Герасим Ефимович Фондеранцев (ныне полковник в отставке, живет в Минске).
На курсах была очень хорошая учебная база. Кабинеты по тактике, артиллерии, стрелковому оружию, связи, топографии и военной химии были хорошо оборудованы. Имелись новейшая материальная часть, наглядные пособия. Учиться было с кем и с чем.
Очень много времени отводилось на полевые занятия. Мы ходили в походы на сорок – шестьдесят километров с полной солдатской выкладкой снаряжения, зачастую с ночевками в деревнях и даже в лесах, в примитивных лагерях, в плащ-палатках. Питание готовили сами в котелках из сухого пайка, полученного на руки.
Полевые занятия были очень интересные и полезные.
На курсах поддерживалась строгая дисциплина, особенно ревностно за ней следил полковник Санковский. Он был очень серьезным. Выделил группу слушателей, которые назначались дежурными по курсам. В эту группу включил и меня. Должен сознаться, что дежурить при полной выкладке снаряжения и без ночного сна было очень тяжело.
Увольняли в город редко. Больше ходили по городу в строю – на полевые занятия, в баню и на экскурсии. Экскурсии занимали почти все наши выходные дни.
Вначале нам выдали бывшее в употреблении хлопчатобумажное обмундирование и ботинки с обмотками. Большинство слушателей наматывать обмотки не умело, они всегда развязывались и тянулись под ногами, мешая движению строя. Особенно плохо было с ними в ночных походах и во время тревог. И только на третьем месяце обучения нам выдали хотя и старые, кирзовые, но все же сапоги.
Тревожило нас, курсантов, международное положение. Быстрый захват гитлеровцами одних государств, присоединение к фашистскому блоку других создавало реальную угрозу нам.
Очень хотелось прочитать в газетах, услышать по радио или хотя бы от командования курсов, даже просто от людей о каком-либо поражении немецких войск во Франции или в другом месте. Но таких ободряющих сведений или хотя бы слухов не было.
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года наш батальон был в шести – восьми километрах от города, на занятиях. Мы сдавали зачеты: «Батальон в наступлении ночью». Одно из подразделений находилось в обороне, остальные – в наступлении. Я был с пулеметом «максим» и деревянной трещоткой в боевых порядках наступающих.
Примерно в шесть часов утра к командиру батальона подъехала легковая автомашина, и тут же мы услышали сигнал горниста «отбой». Занятия прекратились. Последовала команда «сбор». Батальон быстро построился. У автомашины стоял полковник И. И. Санковский.
Мы ожидали разбора незаконченных занятий, полагая, что у нас были какие-то непростительные ошибки и занятия придется повторить сначала. Но полковник сел в машину и уехал в направлении города. Почему нас сняли с занятий, мы не знали. Где-то впереди запели песню, но тут же последовала команда:
– Отставить петь!
Во дворе здания курсов нам почему-то не подали команду «разойтись», а приказали следовать в клуб. Вскоре сюда прибыли и остальные батальоны, пришел весь постоянный состав курсов.
На сцену поднялись И. И. Санковский и З. Г. Кузнецов. В зале наступила тишина. Начальник курсов сделал ошеломляющее сообщение:
– В 4 часа 00 минут сегодня, 22 июня 1941 года, фашистская Германия совершила вероломное нападение на нашу Родину – Союз Советских Социалистических Республик – и уже бомбила целый ряд наших городов.
В числе городов, которые подверглись бомбежке, он назвал и Минск. А там моя семья. Что будет с ней?
О чем говорил затем комиссар курсов, я не помню. Все мои мысли были о Минске, о семье. Как они там? Возможно, уже погибли? Теперь не мог простить себе, что перевез их из Алма-Аты.
Из клуба завтракать не пошел. Попросил у кого-то папиросу. Закурил, хотя уже несколько лет не брал в рот папирос. Побежал на почту, откуда послал семье в Минск телеграмму, чтобы они немедленно выезжали в Алма-Ату. Тут же написал и письмо. На почте стояла огромная очередь наших курсантов.
Весь день я только и думал о семье. Наша квартира и вещи находились в Алма-Ате. Какая совершена роковая ошибка? А ведь все предвидели, что рано или поздно Германия нападет на нас. Несмотря на договор о ненападении, Гитлер не отказался от лозунга «Дранг нах Остен» (поход на Восток), от своих идей мирового господства. И в такой обстановке я послал семью поближе к западной границе!
Сообщение о бомбежке наших городов еще не говорило об успехах немцев вообще. Мы ждали сообщений о разгроме зарвавшихся фашистов у наших границ.
В 12 часов дня слушали заявление нашего правительства. Оно подняло дух и вселило веру в нашу победу.
У кабинета начальника курсов стояла очередь слушателей с ходатайствами послать их в округа, в которых происходили бои и жили их семьи. Я тоже написал рапорт и просил направить меня в Западный особый военный округ. Но всем нам отказали.
Ночь прошла без сна. Вспомнилась вся жизнь: гражданская война, бои на Восточном фронте, на Кавказе. Но тогда почти не было танков и авиации. Передвижение артиллерии осуществлялось только на лошадях, а войска шли пешим порядком. Теперь все же много машин, танков, самолетов, подвижность войск возросла. Было ясно с самого начала, что война будет иной.
На третий день войны, 24 июня, когда мы занимались, в класс зашел из штаба курсов писарь и попросил разрешения сделать объявление. Он зачитал список слушателей, которым надлежало немедленно явиться к начальнику курсов. В этом списке был и я, а всего около двадцати человек.
В кабинете Санковского находились комиссар Кузнецов, несколько штабных и хозяйственных работников. Нам приказали убыть в распоряжение Наркомата обороны, в Москву. Старшим назначили меня. Оружие, снаряжение и учебные пособия распорядились не сдавать, а оставить в пирамиде, в общежитии. Разрешили заменить на складе обмундирование и обувь. Пакет с документами обещали вручить при отъезде.
Мои друзья Ермилов и Горшков в список не попали.
Итак, конец учебе. Мой путь теперь в действующую армию. Но почему сначала надо ехать в Москву? Возможно, это к лучшему – в Наркомате обороны буду просить направить меня в Западный особый военный округ, чтобы попасть в Белоруссию.
Проводить нас собралось много слушателей. Мы простились со всеми и сели в автобусы.
Рано утром были в Москве. Город еще спал. На улицах никого. Вот Исторический музей, ГУМ, собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Кремль, Спасская башня с курантами, которые два раза в сутки слушает вся страна. Серебряные пушистые елочки, Мавзолей Владимира Ильича Ленина, два часовых у входа. Все на своих местах, никаких изменений. Мои спутники смотрят на Мавзолей Ленина и думают, думают. Я тоже думаю и мысленно докладываю Ленину: «Дорогой Владимир Ильич – война». И кажется, слышу ответ: «Ничего, спокойней, выстоим, победим».
Машины и людей оставляю у здания ГУМа, а сам с пакетом иду в Наркомат обороны. Разыскиваю нужный подъезд, вхожу в комнату дежурного, докладываю о прибытии. Предлагают отпустить машины назад, во Владимир, а людей построить. Объявляют назначение в части. Всех оставляют в Москве. Высказываю просьбу направить меня в Западный особый военный округ, но мне отказывают. Дежурные автобусы развозят нас по частям. Группу из четырех человек, в том числе и меня, доставляют в Лефортово, в здание Военного училища имени Верховного Совета РСФСР.
Как я мечтал раньше, еще в мирное время, попасть в это прославленное училище, которое после революции размещалось в Кремле, и его слушатели стояли на посту у кабинета Владимира Ильича Ленина. Не только все курсанты лично видели Ленина, но и Владимир Ильич знал многих из них. Моя мечта тогда не сбылась. Мне пришлось войти в здание училища теперь, на четвертый день Великой Отечественной войны.
В Лефортово я получил назначение на должность заместителя командира 257-го отдельного пулеметного батальона, который предстояло сформировать здесь же. Остальных моих товарищей по Владимирскому КУКСу направили в другие части.