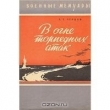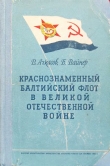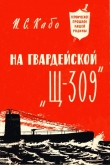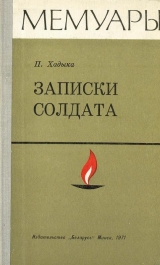
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Павел Хадыка
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
– Как-то в конце августа или в начале сентября, – со слезами на глазах рассказывала жена, – ко мне пришла знакомая, бывшая соседка по дому на площади Свободы, Юстина Лапова. Она была вдовой, на руках двое малых детей. Мы пошли на пригородное колхозное поле, где была уже выбрана картошка, и стали перекапывать землю, отыскивая отдельные, оставшиеся в земле клубни. У нас уже было по два-три килограмма картошки, когда на поле появился какой-то мужчина. Он быстро подошел к нам, назвал себя полицейским, отнял у нас лопаты и картошку и начал избивать нас. Мы плакали, просили его вернуть нам лопаты и картошку, объясняли, что у нас малые дети, а лопаты одолжили у знакомых и нам нечем за них расплатиться. Но ни лопат, ни картошки он не вернул. Даже пригрозил, что если мы еще раз появимся на его поле, он нас постреляет. Больше мы сюда не стали ходить.
В это время произошел еще один печальный случай. Сын, оправившись от болезни, стал выходить во двор дома.
– Однажды я его одела в поношенное пальтишко с желтыми металлическими пуговицами, – с дрожью в голосе рассказывала жена. – На пуговицах были якоря. Как на грех, во двор зашло несколько немцев. Я быстро вышла и хотела взять мальчика на руки. Но меня опередил один немец. Он что-то прокричал по-немецки, подошел к ребенку и начал с силой отрывать пуговицы на пальтишке. Некоторые пуговицы были пришиты прочно и отрывались с кусками сукна. Ребенок закричал диким голосом, а фашист со злом бросил оторванные пуговицы на землю, начал топтать их ногами и выкрикивать какие-то ругательства. Потом стал угрожать мне. Я совершенно растерялась и не знала, что делать. Наконец фашист толкнул ногой ребенка, и тот упал. Я подбежала, схватила сына на руки и унесла в дом. Ожидала выстрела в спину. Но немцы ушли.
В городе начались аресты и расстрелы невинных людей. Жизнь стала невыносимой. И жена окончательно решает уйти из Минска.
Но куда? Кто приютит с двумя детьми? Тогда все жили в нужде и страхе. Но, как говорится, свет не без добрых людей. Сначала ее приняла у себя добрая тетя Оля Шиманская. Но и там стало трудно жить. Не хватало продуктов. Зимой 1941 года жена с детьми пешком пошла в Ворониловичи, хотя дороги толком не знала и неизвестно было, как отнесется к ней брат Александр. Но другого выхода не было. Надо же как-то спасать детей. Помнила лишь название деревни, да еще Барановичи и Ружаны. От деревни до деревни шла с детьми дней двадцать. Всех уверяла, что возвращается домой в Ворониловичи, что муж был учителем и погиб во время бомбежки в Минске. Заходила только в старые, как ей казалось, бедные дома. Большинство людей относилось к ней сочувственно, разрешали заночевать, давали поесть. Все интересовались, что и где видела. В то время многие семьи и одиночки шли кто на запад, а кто на восток, ища пристанища у родственников или у знакомых.
Много людского горя увидела в пути. Запомнилась ей ночевка в деревне Боровики Слонимского района. Приютили жену в ветхом домике две старенькие сестры, одной было лет семьдесят, а второй еще больше. Сына одной из них накануне расстреляли фашисты, а сына второй сестры арестовали, и она не знала, жив ли он. В домике они остались вдвоем, беспрерывно плакали и проклинали оккупантов.
Постелив на полу, жена с детьми легла спать. Было очень холодно, но после тяжелого перехода все вскоре уснули. Часа в два ночи одна из хозяек разбудила жену.
– Встаньте, женщина, в нашем доме второе горе – сейчас расстреливают моего сыночка.
Сестры зажгли свечи, стали на колени перед иконами, начали плакать и молиться. Под печкой пел петух. Жена тихонько спросила у одной старушки, кто им сообщил, что ее сына расстреливают. Та ответила:
– У нас в доме нет петуха, а под печкой поет, как петух, курица. А это к несчастью.
И женщины молились всю ночь до изнеможения. Разубедить их в суеверии было невозможно. Жена тоже плакала вместе с ними, но облегчить их страдания ничем не могла.
Утром, попрощавшись, ушла дальше, а они, бедные, остались в своем холодном домике с тяжелым горем на сердцах.
Брат Александр принял жену с детьми хорошо. Несколько месяцев ели его продукты, а позже жена стала шить крестьянскую одежду, шапки, фуражки и тем зарабатывать на пропитание. Весной и летом работала на крестьянских полях за продукты. Но оккупационные власти преследовали ее повсюду.
Как-то утром в один из летних месяцев 1942 года прибыл отряд немцев. Всех жителей согнали за деревню и стали проверять, кто прописан и в каком доме живет.
Жена, оставив сына с детьми моего брата, стала с дочерью ожидать, что будет дальше. В толпе кто-то сказал, что часть Белоруссии немцы присоединяют к Восточной Пруссии и потому собираются провести паспортизацию всего населения. Что будет после паспортизации, неизвестно.
Проверив документы, всех местных распустили по домам. Жену с дочерью и временно прописанного в деревне кузнеца Ивана Семеновича Жака взяли под охрану.
Жена растерялась. Куда ее поведут? Как быть с сыном? Оставлять в Ворониловичах или брать с собой? А вдруг их расстреляют? Ведь расстреливали же немцы семьи командиров Красной Армии только за то, что их мужья и отцы находились на фронте. Если расстреляют, тогда сын пусть остается у родственников. Позже он расскажет, как и где погибли его мать и сестренка. Жаль, что рядом стоит дочь. Ей только 16 лет. Может, и она осталась бы в живых, если бы ее не брала с собой, когда выгоняли за деревню.
Женщины подняли крик, плач, начали просить немцев освободить задержанных. А более смелые начали собирать подписи жителей деревни под заявлением, в котором утверждали, что муж задержанной – уроженец Воронилович, был учителем, уехал в Минск и там погиб во время бомбежки. Жена с детьми вернулась на его родину. Под заявлением подписались почти все жители деревни. И эту петицию вручили офицеру.
У жены взяли паспорт. Посмотрели, что он выдан в Алма-Ате, но, к ее счастью, прописка на нем была минская. Жену и дочь освободили, но документы не вернули.
Позже по ходатайству брата Александра, за взятку, местные власти выдали жене и дочери, наравне с другими жителями деревни, немецкие паспорта.
В конце 1942 года жена с детьми переехала в Ружаны. Но и там ей пришлось пережить кошмар фашистского «нового порядка».
Она сняла квартиру в доме по улице с названием Свиная. Начала принимать заказы на пошив одежды. Этим зарабатывала на продукты питания.
Жена рассказывала, что народ в тех местах хороший. Близкие и даже дальние родственники, особенно из деревень Байки, Воля, Кулеши, помогали ей всем, чем могли. Кто корзинку картошки принесет, кто крупы или муки даст, а иногда и кусок мяса положит, воз дров привезет. Но особенно мы с женой благодарны моему родному брату Александру Михайловичу, за бескорыстную помощь, оказанную ей и детям в то тяжелое и опасное время.
Но и в Ружанах жизнь моей семьи постоянно висела на волоске. Чаще всех навещал ее мой племянник – сын брата Александра – Николай. Однажды по какому-то подозрению фашисты избили его шомполами.
Взрослое население немцы выгоняли на разные работы. Однажды, работая на вырубке молодой ольхи, маскировавшей подход к деревне, Николай наступил на поставленную кем-то мину. Взрывом тяжело ранило племянника.
Николая положили в местную больницу в Ружанах. Он весь был в гипсе, правая нога в нескольких местах оказалась переломанной, тело обожжено.
Жена часто навещала его в больнице и передавала продукты питания, присланные его родителями. Что могла, приносила и свое.
Больница от ее квартиры находилась недалеко, часто к нему ходили одни дети. Как-то Николай попросил принести ему бутылку холодной воды. На следующий день утром жена, одев сына, вместе с соседским мальчиком отправила его в больницу с водой. Прошло порядочно времени, а мальчики не возвращались. Это встревожило жену. Вблизи дома их не оказалось. Стала искать на других улицах. Вдруг с пустыря до нее донеслись лай собак и приглушенный крик ребенка. Бросилась туда и – остолбенела. Жуткая картина представилась ей.
На пустыре стояла группа немцев, а три овчарки прыгали на пытавшегося подняться с земли, кричавшего диким голосом, нашего ребенка. Жена настолько была потрясена происходившим, что лишилась речи, не могла произнести ни слова. Все в ней омертвело. Не помнит, как добежала до ребенка и отняла его у собак.
Фашисты с громким смехом ушли с пустыря.
Как потом рассказали жене, это оккупанты обучали молодых собак нападать на людей.
Со слезами на глазах жена взяла на руки истерзанного, обезумевшего от страха ребенка и с большим трудом добралась домой. Какой дикий случай! Фашисты не считали местное население за людей. Они убивали, грабили, насиловали.
Жить в Ружанах стало страшно. Но куда податься? Где найти город, деревню или хотя бы дом, в котором можно было бы остановиться и относительно спокойно жить? Вернуться в Ворониловичи не могла – там разместился немецкий гарнизон.
Ушла с детьми в деревню Воля к Михаилу и Адаре Гайдук.
Вскоре жену с детьми взяли партизаны в свой лагерь.
От брата я узнал страшную трагедию. Фашистские изверги полностью уничтожили деревню Байки. 22 января 1944 года они расстреляли 987 стариков, женщин, детей. Среди них и мою сестру Варю, ее мужа Семена, 15-летнюю дочь Лиду и 10-летнего сына Анатолия. В Байках погибло около двадцати моих родственников. На третий день мы с братом посетили могилу безвинно погибших жителей деревни Байки. Я был потрясен этим зверством. У меня не укладывалось в голове, как такое могли совершить люди, считающие себя цивилизованными. Расстреливать детей! За что? В чем был виноват ребенок?

Жертвы фашизма в деревне Байки. Справа налево: Семен Прокофьевич Кава, сын Толя, дочь Лида и жена Варвара (сестра автора).
С тяжелыми впечатлениями возвращался я в свою часть. Все, что видел, для меня, конечно, не было новым. Это было продолжением варварства фашистов, как и в первые дни войны. Я уже видел разрушенные города, пепелища и траурные печные трубы на месте сожженных деревень. В лохмотьях, истощенное, встречало нас население, старческий вид имели дети, освобожденные из фашистской неволи.
Сейчас, в сентябре 1944 года, я увидел свою семью, жену и детей в таком же состоянии, раздетых и истощенных. Они прожили три года на своей родной земле, но под тяжелым гнетом фашистского «нового порядка».
Радовало лишь то, что уже были освобождены Красной Армией советские города и деревни, первыми оккупированные фашистскими головорезами, и война шла за пределами Белоруссии. Каждый понимал, что скоро будет освобождена вся советская земля и война перейдет на территорию тех, кто ее начинал.
Будучи в Минске, Дзержинске, Барановичах, Слониме, Ружанах, я видел уже расчищенные от разрушенных домов улицы, а в Минске даже эшелоны с лесом и кирпичом для ремонта того, что можно было восстановить, хотя бы временно. Еще не было в городах и деревнях нужного количества рабочей силы – все мужчины находились на фронтах, – а работы по восстановлению разрушенного хозяйства уже начались. В Минске бросалось в глаза – на фоне обвалившихся и закопченных дымом зданий, чудом сохранившихся стен возвышался всем хорошо знакомый Дом правительства. Взрыв здания подпольщикам и минерам удалось предотвратить. Огромной разрушительной силы фугасы удалось обезвредить. В Доме правительства уже восстанавливали дверные проемы и стеклили окна. Ремонтировали и другие дома. Жизнь в республике постепенно начинала входить в свою колею.
Одновременно с жилым фондом восстанавливались здания культуры. В уцелевшем от бомбежек Белорусском театре оперы и балета теперь жили целые семьи, с детьми и имуществом. Здесь я встретил и семью моего знакомого П. М. Чагана.
Обо всем увиденном в пути и особенно в Белоруссии я рассказал товарищам по службе: Малахову, Балабутевичу, Людчику, Урецкому, Синявскому, Луковкину, Муртазину и доложил своему непосредственному начальнику генералу А. А. Байкову. В кругу близких мне товарищей без моего ведома был сделан сбор вещей и продуктов. Один дал пару нательного белья, другой – простыню, третий – банку консервов из своего доппайка, и все это было послано посылкой моей семье. Этот товарищеский поступок я с благодарностью помню и теперь. Посылка, несомненно, на первых, порах послужила ощутимым подспорьем моей семье.
А на фронтах тем временем шли ожесточенные бои. Инициатива как на земле, так и в воздухе была на стороне наших наступающих войск.
Еще в середине июля войсками Белорусских фронтов были освобождены последние белорусские города – Пинск, Волковыск и Гродно. А после освобождения 4 июля Полоцка наш фронт вступил на территорию братской республики Литвы. В октябре войска фронта вели бои уже за освобождение Клайпеды, вышли к Балтийскому морю у города Либава и отсекли таким образом немецкую группировку, находившуюся в Латвии, Эстонии и на Курляндском полуострове, от войск в Восточной Пруссии.
В январе 1945 года наши части штурмом овладели Клайпедой. С освобождением этого города была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков Советская Литва. 20 января был взят Тильзит, и войска нашего фронта вступили на территорию Восточной Пруссии.
Памятными для меня были бои за Клайпеду, Тильзит и особенно за Кенигсберг и Пиллау, в которых мне лично пришлось участвовать. Бои были исключительно тяжелыми. Немцы отчаянно сопротивлялись. Но они были обречены. Отступать некуда.
Сотни вагонов ежедневно прибывали с боеприпасами и боевой техникой на фронтовые склады. Здесь круглые сутки без сна и отдыха, а зачастую и без горячей пищи, шла напряженная работа. Кроме личного состава складов работали сотни еще не окрепших от ранений и контузий бойцов и командиров из запасного полка. Здесь, как и на передовой, в любой момент можно было погибнуть от своей неосторожности, или неосторожности товарища, или во время бомбежки складов вражеской авиацией. Но никто не жаловался на усталость или ушибы от падения с тяжелым и опасным грузом. Не уходили с погрузочных площадок даже во время бомбежек. У всех была одна мысль – скорее разгрузить вагоны и погрузить на автомашины снаряды, патроны, мины, ручные гранаты и отправить их на передовую в войска, штурмовавшие последние бастионы врага.
Хочется вспомнить титанический труд начальников складов полковника Никонова, инженер-майоров Железовского, Б. Б. Шульмана, капитана Толстикова, пиротехников и оружейников, которые в любых условиях, даже под обстрелом, хладнокровно и умело руководили работами с опасным, но срочным грузом.
Работа на артиллерийских складах была поставлена отлично, и не раз личный состав, как и на передовой, награждался орденами и медалями.
Хотя бои на нашем фронте закончились взятием Кенигсберга и Пиллау, но еще долго пиротехникам и оружейникам пришлось сортировать на складах боевую технику и особенно трофейное вооружение и боеприпасы.
Моя служба под командованием Героя Советского Союза генерал-полковника Николая Михайловича Хлебникова продолжалась и после 9 мая 1945 года.
Мой рассказ подходит к концу. Хочется кое-что обобщить, подвести итоги.
Став беженцами в 1914—1919 годах, многие ниловцы оказались рассеянными по губерниям России и не вернулись в Ворониловичи. Из 15 семейств, находившихся в Оренбурге, в рядах Красной гвардии и Красной Армии сражалось одиннадцать человек: Иван Мартынович Ахраменя, Петр Осипович Бондарец (погибли в гражданскую войну), Максим Мартынович Ахраменя, Михаил Герасимович Баран, Александр Романович Ерш, Игнат Петрович Козловский, Николай Яковлевич Суходольский, Павел Прокопьевич Тур, Павел Исидорович Тур, Лука Иванович Юнаш и я.

Бывшие беженцы 1914—1920 годов из деревень Ворониловичи, Щитное и Загаличи – участники гражданской войны. Сидят (слева направо): Д. И. Соломка, М. М. Ахраменя, П. М. Хадыка, П. А. Ахраменя, А. Р. Ерш. Стоят: Н. З. Кульба, П. И. Мошка, Д. А. Макаревич, А. М. Химач, И. П. Козловский, П. П. Макаревич. (Снимок 1970 года).
В Отечественную войну против немецко-фашистских захватчиков на фронтах сражался 51 человек.
Погибло в боях за Родину 13 человек: Петр Яковлевич Ахраменя, Александр Степанович Дрозд, Андрей Лукич Ерш, Виктор Михайлович Ерш, Николай Максимович Ерш, Алексей Михайлович Прокопеня, Дмитрий Алексеевич Суходольский, Михаил Игнатьевич Суходольский, Николай Алексеевич Суходольский, Алексей Павлович Тур, Василий Степанович Тур, Иван Иванович Тур, Федор Алексеевич Тур.
В партизаны ушло 10 человек, из них погибло двое – Константин Фомич Суходольский и Василий Павлович Суходольский. Последний схвачен немцами и замучен в фашистских застенках.
Еще нет памятника погибшим в гражданскую и Отечественную войны ниловцам. Но придет время, когда такой памятник с именами героев будет сооружен. К нему станут приходить пионеры, комсомольцы, родные погибших, в День Победы возлагать цветы, слушать рассказы, как наш народ боролся и отстаивал Советскую власть.
В Ворониловичах теперь центральная усадьба колхоза «Заря». Он объединяет восемь деревень: Ворониловичи, Капли, Товцвилы, Островок, Верчицы, Щитное, Лососина и Клепачи.
На центральной усадьбе построены здания сельского Совета, почты, АТС, правления колхоза, медицинского пункта, клуба и библиотеки, школы-десятилетки, магазина, бани, хранилища зерна, ремонтных мастерских, гаража, животноводческие помещения.
В деревне 115 домов. Все электрифицированы. Больше половины семей имеют телевизоры. Во многих домах газовые плиты. Все выписывают газеты и журналы.
Труднопроходимая раньше улица Воронилович теперь засыпана гравием-щебенкой, укатана катком и освещается электролампочками.
Некогда медвежий угол, теперь, при Советской власти, стал одним из культурных центров в Пружанском районе Брестской области.
Много ворониловцев работает в промышленности, на новостройках, на целинных землях. Многие трудятся учителями, врачами, инженерами, служат на командных должностях в Советской Армии. Особенно много молодежи учится в высших и средних специальных учебных заведениях, готовится стать достойной сменой старшего поколения.
После увольнения в запас я с семейством остался в Белоруссии, которая за двадцать пять послевоенных лет не только восстановила промышленность и сельское хозяйство, но и быстрыми темпами развивает их дальше, вместе с другими республиками успешно строит коммунизм. Красивым городом стал Минск.