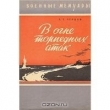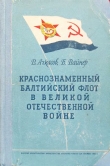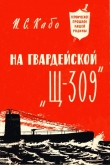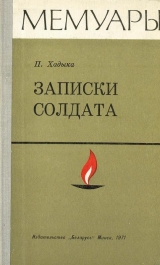
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Павел Хадыка
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Сплошного фронта как у нас, так и у белых не было. Полк двигался по дороге, преследуя отступавших белоказаков. Бои шли главным образом за населенные пункты. Справа и слева от нас, в пяти-шести километрах, двигались колоннами другие полки.
Отсутствие сплошного фронта давало возможность проникать конным подвижным группам белых в наш тыл. Были случаи захвата белыми наших посыльных с донесениями и приказами. Так белые перехватили и угнали транспорт с зимним обмундированием. В свою очередь, наша конная разведка хозяйничала в тылу у белых.
Части отходившего противника состояли главным образом из оренбургских и уральских казаков. Отступая, они везли с собой семьи, гнали скот. Поэтому они отходили медленно, оставляя в деревнях много больных тифом и даже раненых казаков. Переполненные людьми населенные пункты и отсутствие медикаментов создавали условия для вспышки эпидемии. Сыпным тифом болело и местное население.
Мы вынуждены были во избежание заболеваний размещаться в сараях и других холодных постройках. Но все равно не убереглись. В период боев в районе Покровское – Куспа заболел и убыл на лечение Поспелов. Меня назначили начальником пулеметной команды.
На первых порах мне было трудно, допускал ошибки. Ночью при взятии села Покровское я приказал открыть огонь из всех пулеметов. Командование полка строго отчитало меня за это. Огонь из пяти-шести пулеметов выдал противнику нашу огневую мощь, была потеряна внезапность нападения.
Но и противник обнаружил все свои огневые силы, открыв огонь по вспышкам наших пулеметов. В пулеметной команде убитых не было, и это смягчило мою вину. У противника потери были значительные. Он в панике бежал, оставив большой транспорт и два орудия.
В последующих боях я был более предусмотрителен.
Самый тяжелый бой мы держали за село Царьградское. Приказ о наступлении наш полк получил своевременно, а посыльных в 433-й и 435-й полки перехватили белые. Оставив транспорт в селе Покровское, рано утром мы повели наступление на Царьградское, полагая, что справа и слева пойдут в атаку наши соседи. Мы оказались одни против трех полков белоказаков. К пяти-шести часам вечера мы все же выбили противника из Царьградской, но к белым подошла помощь, и наш полк оказался в окружении.
Начали пробиваться назад в Покровское. Но в чистом поле нас прижали к земле. Образовав круговую оборону, мы изо всех сил отбивались. Не знаю, кто командовал полком, но я видел Шереметьева в цепи с винтовкой в руках. Он командовал «рота пли» и сам стрелял по наседавшей коннице белых.
С боем, тесня цепи белых, мы медленно продвигались к Покровскому, которое, в свою очередь, было окружено казаками. Там все штабные командиры и писаря, а также повозочные отбивались из винтовок. В Покровском полк снова занял круговую оборону. Бой прекратился только ночью.
Мы не досчитались многих своих товарищей, но артиллерия и большинство пулеметов были с нами. В этом бою ранило Шереметьева, но из полка он не убыл.
Через несколько дней бригада выбила противника из Царьградской и погнала его дальше.
Интересный эпизод произошел при взятии Джембиты. Шел сильный снег. Полк сбился с направления и вышел в тыл казаков. Разобравшись в обстановке, мы подошли к Джембите с противоположной стороны. Белые ожидали нас с другого направления и перевели за реку Уил все свои части, тыловые подразделения и уничтожили за собой мост.
Наше появление в тылу вызвало у белых панику. Река была покрыта еще тонким льдом, он не выдерживал тяжести даже одного человека. Вновь строить мост не было времени. Тогда казаки соорудили живой мост. Они распрягли из повозок тридцать – сорок верблюдов, ввели их в реку, поставили в два плотных ряда головами наружу, привязали их друг к другу, а на спины положили доски и плетеные заборы, снятые ворота.
Через такой мост переправили на другой берег повозки, верховых лошадей, людей, а орудия в исправном состоянии опустили в реку. Мост оставили нам.
Во многих местах подо льдом стояли груженые повозки, лежало имущество.
В декабре заболел тифом наш командир полка Александр Степанович Шереметьев, его отправили в госпиталь. Больше я с ним не встречался. Шереметьева в полку очень любили. Он был исключительно смелым в бою и хорошим товарищем вне боя. Он часто бывал у нас в команде, но больше всего любил конную разведку, во главе которой стоял лихой оренбургский казак Гусев. Шереметьев часто сам выезжал в разведку, после чего принимал решения.
В декабре 1919 года белогвардейцы на Уральском фронте были разбиты и фронт ликвидирован. Нашу бригаду перевели в город Уральск.
В Уральске свирепствовал тиф. К счастью, мы пробыли там недолго. По железной дороге нас перевезли к Волге, в город Владимировка. Был декабрь. Стояли сильные морозы.
Паровоз нашего поезда обслуживали мы сами: ежедневно выделяли наряды людей пилить дрова и носить воду из колодцев или рек.
Пилили все, что предлагала администрация станций. Запас шпал, телеграфно-телефонные столбы из запаса штабелей и даже разбирали железнодорожные сараи и небольшие складские помещения. Пил было мало, и те сильно затупленные, поэтому часто меняли людей.
Воду из колодцев или речки передавали в ведрах по цепочке. Иногда цепочка была очень длинная, и к паровозу доходило не более полведра воды, а на одежде людей образовывался лед.
На новом месте встретили нас недружелюбно. Кулачество и церковники собрались с хлебом и солью, подготовили хоругви и колокола, намереваясь встречать белогвардейского генерала Мамонтова. Но вместо него приехали мы.
Здесь наши полки получили пополнение людьми, дали нам транспортные средства, зимнее обмундирование. Готовили к переброске вверх по Волге, к Царицыну.
Однако в начале февраля 1920 года вместо Царицына штабы, людской состав полков и артиллерию по железной дороге направили в Астрахань. Из санного и колесного транспорта составили гужевой эшелон. Начальником назначили меня. Для охраны оставили мою пулеметную команду и конную разведку полка под командованием Гусева. Транспортный эшелон своим ходом двинулся в Астрахань. Предстояло пройти более 300 километров.
Волга была замерзшей и занесенной снегом. По ней прокатали хорошую санную дорогу. Местами встречались высокие снежные заносы – перекаты, вблизи сел – проруби, в них поили скот и ловили рыбу. Зачастую от села к селу дорога шла берегом. В некоторых селах мы останавливались на отдых и пополняли запасы фуража.
Все обошлось благополучно. К месту расквартирования прибыли в середине февраля. Наш полк разместился в селе Черепаха, за Казачьим Бугром Астрахани.
Полком теперь командовал Астрелин, тоже оренбургский казак. Фамилий всех комиссаров не помню, они почему-то часто менялись. Дольше всех комиссарами были Башилов и Сериков. Командиром 1-го батальона был астраханский рыбак Бугров. Остальных командиров не помню.
Пулеметная команда состояла из четырех взводов, по два пулемета в каждом. Командиром 1-го взвода был Тимофей Ермолаев – человек атлетического телосложения. Поговаривали, будто он готовился выступать борцом в оренбургском цирке. Был он уроженцем села Георгиевское Чернявского уезда Сырдарьинской губернии, ныне Чимкентской области. В 1916 году участвовал в восстании местного населения против мобилизации в царскую армию, затем бежал в Оренбургскую губернию, где и жил до революции. Хорошо владел восточными языками.
Командиром 2-го взвода был Мясников из Пензенской губернии, 3-го взвода – Шаров из Вятской губернии. Фамилию командира 4-го взвода запамятовал, знаю, что родом из Харьковской губернии. Большинство пулеметчиков являлись коренными жителями Оренбурга. Но были саратовцы, пензенцы, астраханцы и даже армяне.
Штаб пулеметной команды состоял из одного писаря – Григория Черкасова из Саратовской губернии и посыльного Ивана Панфилова – уроженца Оренбургской губернии. Должность старшины занимал Колков, фуражира – Захаров. Оба сибиряки, солдаты царской армии из пулеметных частей. Старшина отвечал за материальное и боевое обеспечение людского состава, а фуражир – конского состава. Они умело обеспечивали команду всем необходимым, даже в самые тяжелые времена.
Тачанок было мало, пехоту они не устраивали. Пулеметы перевозили на пароконных, облегченного образца повозках-фургонах, очень удобных и вместительных. Патроны перевозили на двуколках.
Расчет пулемета состоял из шести-семи человек. Им придавалась пароконная повозка. Лошади подбирались самые сильные.
Я любил пулеметную команду. Это был дружный, спаянный коллектив, никогда не подводил в бою.
В период стоянки в Черепахе пополнился людской состав полка, увеличилось количество лошадей. Подразделения усиленно занимались боевой подготовкой, готовились к новым боям и походам. Наша бригада здесь вошла в состав 11-й армии, которой командовал М. И. Василенко, а членом Военного совета был Сергей Миронович Киров.
Остались в памяти налеты деникинских самолетов на Астрахань и стрельба из пулеметов по ним. Для меня это было первое крещение с воздуха.
В начале марта, как только тронулся лед в низовьях Волги, на одной из пристаней Астрахани нас погрузили на баржи и под пыхтение маленьких буксиров отправили на станцию Оля. Начался новый поход.
КАВКАЗ
Полк занял самый левый фланг 11-й армии, а возможно, и всего Южного фронта. Левее нас было Каспийское море. Предстояло пройти примерно 800 километров от Астрахани до Баку. Сначала шли по территории Астраханской губернии с русским населением, а затем – по калмыцким степям с очень редко встречающимися населенными пунктами.
Шли в полной боевой готовности, но противника перед нами почти не было. Изредка где-то возникала перестрелка, возможно, конной разведки с незначительными белыми бандами, но артиллерия и пулеметы в бой не вступали. Еще в январе – феврале группы войск 11-й армии прошли впереди нас и вели бои за освобождение Ставрополя.
Иногда мы останавливались на ночевку или дневку в калмыцких кишлаках. На наши вопросы, сколько километров до того или другого населенного пункта, калмыки обычно отвечали:
– Два вода, три гора и еще два ровный места, – или вытягивали вперед губы и говорили: – Вут, вут, вут, – скоро.
Как мы позже стали понимать, каждый «вут» был примерно равен десяти километрам. Мы считали, сколько раз он скажет «вут», а затем определяли расстояние. Второй вариант ответа для нас был более понятным.
Однажды, когда остановились на ночевку, хозяин калмык показал нам своих богов. Из угла юрты он извлек ящик, в нем хранилось несколько десятков небольших кусков досок, на которых были изображены красками фигурки человека, рыб, зверей. Все они имели какое-то название и подразделялись на хороших и плохих богов. Каждый раз, когда хозяин отправлялся на рыбную ловлю в Каспийское море или продолжительную охоту, он брал с собой соответствующего бога и в зависимости от успеха в будущем считал его хорошим или плохим. Хорошие боги в праздники смазывались жиром и были промаслены, а плохие боги были сухие и никакими почестями не пользовались.
Иногда командование полка брало калмыка проводником. Он всегда был верхом, очень тепло одет и босиком. Беспрерывно бил пятками по бокам лошади, видимо, согревая этим ноги, но лошадь никак не реагировала и шла шагом. Проводниками они всегда были честными.
Переход оказался тяжелым. Из-за недостатка продовольствия и усталости появились больные, отстающие. Их ложили на повозки и без того загруженные. В результате лошади тоже обессиливали и не могли тянуть по пескам тяжелые грузы. Зачастую пулеметчики впрягались в повозки и перетаскивали их через песчаные барханы, ручьи и речки. Дорог не было. Одни пески и пески.
Это был тот же путь, по которому год назад шла и погибла от холода и тифа 11-я армия, коварно преданная изменником Сорокиным. Но тогда она шла с Северного Кавказа в Астрахань. Мы же шли в обратном направлении – из Астрахани к Северному Кавказу.
По войскам отдали распоряжение, если встретятся останки людей, предавать их земле. В пути находили заржавевшие орудия, кухни, железные части повозок и стрелковое оружие. Все деревянное было сожжено отступавшими.
Положение наше значительно улучшилось, когда подошли к Черному Рынку, Святому Кресту (Прикумск) и затем к Кизляру. По рассказам местных жителей, в Святом Кресте в 1919 году белогвардейскими бандами был повешен герой гражданской войны Иван Антонович Кочубей, который во главе кавалерийской бригады прикрывал отход 11-й армии к Астрахани. В январе 1919 года, больной тифом, он попал в руки белых. Деникинцы предложили ему на выбор – или перейти на службу к ним, или его повесят. Кочубей умер, но не изменил Родине. После Кизляра стали часто встречаться мелкие и крупные реки, они тоже затрудняли наше движение.
Особенно тяжелой оказалась переправа через Терек. Паром связали из деревянных пивных и винных бочек. Быстрое течение реки часто разрушало его.
На подступах к Порт-Петровску мы увидели чудо. В обгороженном каменными стенами небольшом квадрате горел огромный костер. Особенно волшебным было зрелище ночью. Когда-то пробившийся через земную кору нефтяной газ был кем-то, а возможно и грозой, зажжен. И вот горит десятилетиями, а может, и сотнями лет никем не использованный природный газ. Единственное, что сделал человек, – это огородил его каменной стеной. Мы долго любовались фейерверком и грелись здесь.
В Порт-Петровске произошли важные события. Нашу бригаду расформировали и передали в известную нам еще по Оренбуржью 20-ю стрелковую дивизию. Наш 434-й полк мало кто знал. Он просуществовал только один год. Это был самый обыкновенный, без громкого имени, но и не имевший поражений полк. Сюда я вступил рядовым бойцом, а вырос до начальника пулеметной команды. В совершенстве овладел пулеметом «максим». У меня о полку сохранилось самое хорошее воспоминание.
Дивизией командовал бывший начальник обороны Оренбурга Михаил Дмитриевич Великанов. Комиссаром был Карл Карлович Ратнек, член партии с 1910 года, начальником штаба – Борис Владимирович Майстрах.
Мы были очень довольны, что вошли в известную дивизию. В ее составе насчитывалось девять стрелковых полков, от 172-го до 180-го. Кроме того, сюда входили кавалерийский полк, артиллерийские и другие подразделения.
20-я стрелковая дивизия была сформирована в 1918 году в Пензе и сначала носила название 1-й Пензенской пехотной дивизии. В составе 1-й армии Восточного фронта вместе с 24-й Симбирской-Железной и 25-й Чапаевской дивизиями она сражалась с белочехами на Волге и белогвардейцами на Южном Урале. В сентябре 1919 года ее перебросили на Юго-Восточный фронт, где вошла в состав 10-й армии и громила деникинские войска. В апреле 1920 года ее передали в состав Кавказского фронта, которым командовал М. Н. Тухачевский, а членом Военного совета был Серго Орджоникидзе.
Наш 434-й полк тоже расформировали, а личный состав передали 176-му стрелковому полку. Командиром его назначили Астрелина. Из командиров батальонов остался только один наш Бугров, остальных заменили. Произвели замену многих командиров рот, хозяйственных и штабных работников. В полку стало много незнакомых людей. Меня оставили начальником пулеметной команды.

Начальник пулеметной команды 434-го (176-го) стрелкового полка П. М. Хадыка. (Снимок 1921 года).
Вскоре мы начали новый поход в направлении Баку. Он был тоже тяжелым, но улучшилось снабжение продуктами и фуражом.
В Дербенте остановились на продолжительный отдых. Разместили нас по частным квартирам. Я попал к кавказскому еврею, очень разговорчивому человеку. Он рассказал, что на окраине Дербента одна из скал повернута отвесно к городу. Еще из глубокой старины для бездетных мусульманских женщин эта стена является священным местом. Сюда совершают паломничество не только бездетные женщины Дагестана, но и Азербайджана. Обряд заключается в том, чтобы утром, до восхода солнца, голыми руками, без дополнительных предметов, вбить в эту стену гвоздь. Только тогда можно рассчитывать на то, что будут дети. Неудачницы часто тут же кончали жизнь самоубийством, спрыгнув в пропасть.
Местное население, среди которого было много русских, особенно рыбаков и нефтяников, относилось к нам очень хорошо. Они радостно встречали нас и помогали всем, чем могли. Особенно мы нуждались в ремонте и замене обуви, и местное население оказывало нам в этом большую помощь.
3 мая 1920 года дивизия прибыла на станцию Баладжары, что в двенадцати – четырнадцати километрах от Баку. Наш полк разместили в аулах Сарай и Мастакриз. После длительного перехода Астрахань – Баку мы получили наконец долгожданный отдых для себя и лошадей, а главным образом, возможность помыться, заменить белье, произвести ремонт одежды, обуви, упряжи.
Местное население встретило нас хорошо, помогало продовольствием и материалом для ремонта. Простояли мы здесь около двух недель. 15—16 мая полк погрузили в вагоны и по Закавказской железной дороге отправили в город Ганджу (бывший Елизаветполь, ныне Кировабад). Здесь расквартировали штаб дивизии и два полка. Наш полк доставили на станцию Акстафа, а затем пешим порядком перебазировали к грузинской границе. Штаб полка расквартировали в городе Казах, батальоны – по аулам. Пулеметную команду разместили в ауле Дашсалаглы. Однако вскоре взводы отправили по батальонам. Со мной остался только один взвод.
Разместились мы по частным домам. Надо сказать, что большинство жителей аула относилось к нам очень хорошо. Хотя мы питались отдельно, почти ежедневно наша хозяйка давала нам буйволиного молока, очень густого и жирного. Мы ели его впервые. Расходовали на приготовление супа и каши. Есть его цельное с хлебом, как коровье, мы не могли. Часто нас угощали брынзой, которую я ел тоже впервые.
Хотя женщины аула носили чадру, но в присутствии нас они ходили без нее. В Казахе, а затем и нашем ауле Дашсалаглы я услыхал интересный анекдот, рассказываемый азербайджанскими женщинами: «Стоит группа женщин с опущенными с головы на шею чадрами. Вдали показалась группа идущих мужчин. Одна женщина громко говорит: «Закройтесь, идут мужчины». Другая, посмотрев в ту сторону, отвечает: «Нет, это не мужчины, это русские».
В двадцатых числах мая нам стало известно, что в Баку готовилось восстание мусаватистов – членов мусульманской националистической партии крупной буржуазии, помещиков и духовенства. Но там быстро навели порядок.
26 мая произошло восстание в Гандже. Мусаватисты захватили большую часть города. В наших руках оказалось лишь несколько кварталов и станция Ганджа.
В наших аулах и в городе Казах стало тоже неспокойно.
30 мая полк сосредоточили на станциях Акстафа и Тауз, а ночью погрузили в вагоны и направили в Ганджу. Пулеметы распределили по ротам. У меня в резерве остался только 1-й взвод, который и раньше бывал в моем распоряжении и вводился в бой в самый ответственный момент или на решающем участке, где надо было взять укрепления врага или удержать свои позиции.
Всю ночь в пути не спали, были готовы к отражению нападения. Командир полка с охраной ехал на паровозе.
До станции Шамхор доехали благополучно. Начало светать. На перроне нас ожидал представитель от командира дивизии. После короткого совещания командир полка отдал приказ – в бой вступим немедленно, разгрузку лошадей и повозок произведем при помощи подручного материала. Приспособим даже двери от вагонов. Предстояло только преодолеть последний участок между станциями Шамхор и Ганджа.
Шамхор стоит значительно выше Ганджи, и наш поезд очень хорошо виден повстанцам. Случилось так, как мы и ожидали. Как только поезд прошел несколько километров, мы подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Вся артиллерия дивизии, размещавшаяся в Гандже, была захвачена мусаватистами. Часть артиллеристов попала в плен. К орудиям мятежники насильно ставили наших пленных, а когда те отказывались или плохо стреляли, их тут же расстреливали и сбрасывали в глубокий колодец. Я потом видел этот колодец, из него было извлечено более 20 трупов. И все же ни один снаряд в наш поезд не попал.
На станции мы разгрузились в течение 2—3 минут, поротно, развернулись в цепи и пошли в наступление. Я на некоторое время задержался у поезда и руководил разгрузкой лошадей и повозок. Их тоже быстро, без всяких трапов, спустили на землю и направили в ближайшие дворы и укрытия у вокзала.
Вслед за нами прибыл еще один полк. Всего наступление повели пять пехотных полков и шесть кавалерийских. Их поддерживали огнем 57 орудий и две бронемашины.
На стороне мятежников было 10—12 тысяч человек и 1800 солдат и офицеров из 1-й Азербайджанской дивизии, составленной преимущественно из людей, служивших в мусаватистской армии.
Вскоре усилилась винтовочная и пулеметная стрельба с нашей стороны. Полк вошел в соприкосновение с повстанцами. Он наступал в первом эшелоне. Открыли огонь артиллеристы.
Мы оказались в новых для нас условиях. Между городом и станцией находились сотни небольших индивидуальных виноградников, огородов и садов, и каждый такой участок был огорожен каменными или глинобитными дувалами, своеобразными стенами. Для противника они служили исключительно удобными оборонительными укреплениями. Для нас же – препятствиями, взять которые можно было только с помощью артиллерии или штурмом. Но штурм был сопряжен с большими потерями.
С вокзала в город через все эти своеобразные крепостные лабиринты вела только одна дорога или улица. Противник держал ее под непрерывным ружейным и пулеметным огнем. Других дорог или проездов не было, вернее, – мы их не знали. В бой ввели и мой последний резерв, 1-й пулеметный взвод Тимофея Ермолаева. Я находился в одном из взводов на передовой. Правда, часто выходил в тыл, откуда проверял обеспечение боеприпасами пулеметов.
Кто-то передал, что меня вызывает командир полка. Я доложил о делах в пулеметной команде. После этого он познакомил меня с двумя командирами, которые окончили Астраханские пулеметные курсы и прибыли в наш полк для дальнейшего прохождения службы. Здесь же Каверина определили моим помощником, а Петрунина – командиром взвода, хотя пока вакантной должности не было. Каверину я поручил обеспечивать доставку патронов, а с Петруниным пробрался в 1-й взвод. Здесь действовало около шести пулеметов.
Самым трудным было столкнуть повстанцев с первых укреплений вблизи вокзала. Когда их выбили оттуда, наши войска, под прикрытием дувалов, стали, хотя и медленно, продвигаться вперед. Потери несли обе стороны. Мы применили гранаты для разрушения препятствий.
В середине дня тяжело ранило в ногу Тимофея Ермолаева. Командование взводом я передал Петрунину. Спустя некоторое время навестил Ермолаева в вагоне, приспособленном для раненых. Он громко стонал, скрежетал зубами, просил крепкого табака, хватался руками за спинку кровати, гнул ее на себя.
К вечеру мы достигли города Ганджа. На центральной площади захватили все орудия нашей дивизии. Часам к одиннадцати ночи полк вышел на противоположную сторону города. Из-за темноты и усталости преследовали повстанцев недалеко.
Подразделения провели ночь там, где она их застала. На следующий день на более опасных участках были оставлены заставы, а остальные подразделения сняты и отведены на отдых. Преследование врага продолжали только кавалерийские части.
Пулеметная команда разместилась на Елизаветинской улице в здании бывшей гостиницы «Лондон». Мы не досчитались многих своих как старых, так и новых пулеметчиков и командиров.
Состоялись похороны погибших. Ганджа разделяется горной речкой Ганджинкой на две неровные части – большую мусульманскую и меньшую армянскую. Это две вечно враждовавшие нации. Во время восстания один полк нашей дивизии стоял в армянской части города, своевременно занял оборону по реке Ганджинка и удержал свои позиции. Население помогало бойцам.
Ганджа – один из самых древних городов Азербайджана. Здесь сохранилось много памятников старины. Промышленности никакой не было. Правда, некоторая часть населения занималась выращиванием коконов для шелковой нити. Но это оказывалось под силу только зажиточной части населения. Была сильно развита торговля.
В городе много мечетей. Существовали старинные фанатические обычаи и обряды. Об одном хочется рассказать. Этот культ носит название «шахсей-вахсей».
Как-то вечером вскоре после подавления восстания мы услышали на улице сильный шум, крик и бой барабанов. Все вокруг осветилось факелами. Я подал команду тревоги и позвонил в штаб полка, откуда мне передали, что это идет какой-то праздничный обряд, вмешиваться нельзя и на улицу рекомендовалось не выходить.
Шествие двигалось по нашей улице, мы начали наблюдать из окон. Огромная масса мужчин, одетых в белые штаны и рубашки, построенная в колонну по 10 человек, с зажженными факелами, в ногу, под бой барабанов шла по мостовой и громко кричала: «шах Хусейн, вах Хусейн». В такт шага с полного размаха мужчины ударяли себя то одной, то другой рукой в грудь.
Это изуверское самоистязание в память о каком-то великомученике Хусейне продолжалось в течение трех дней. Наиболее фанатически настроенные участники, а некоторые за плату от богачей и духовенства первый день били себя руками в грудь, на второй день – специальными цепями по спине, а на третий – кинжалами в лоб. После такого «праздника» больницы оказывались переполненными искалеченными людьми.
В 1929 году правительство Азербайджана категорически запретило эти фанатические шествия и обряды как на улицах, так и в закрытых помещениях.
В Гандже мы много ели турецких орехов, их привозили повозками из гор. Недозревшие, они находились в скорлупе, как в футлярах. Скорлупа с внутренней стороны содержит какие-то дубильные вещества и сильно красит. Наши руки поэтому были окрашены и долго не отмывались.
На базаре было много помидоров. Их очень хорошо приготавливал мой помощник Каверин. Одессит, до революции беспризорный, он в 1917—1918 годах подростком торговал газетами. Был исключительно находчив, весельчак, знал много анекдотов. Очень быстро вошел в семью пулеметчиков и стал всеобщим любимцем.
Простояли мы в Гандже месяц. Полк нес гарнизонную службу и занимался учениями. Хорошо запомнилась стрельба из пулеметов в десяти – двенадцати километрах от города в горах. На стрельбе присутствовали командир дивизии М. Д. Великанов и командир полка. Попадания из пулеметов были точными. Многие пулеметчики получили тогда благодарности. В заключение провели стрельбу по мишеням одновременно из 20 пулеметов. Результат был исключительным.
В начале июля полк погрузили в вагоны и вновь перебросили к грузинской границе. Расквартировали в тех же аулах Дашсалаглы и Капаклы, а один батальон – в Караджемерлы.
Однажды я поехал к пулеметчикам, которые стояли в Караджемерлы. Аул этот находится в десяти – двенадцати километрах от станции Акстафа. И вот здесь я увидел невероятное. В ауле стоял классный железнодорожный вагон на колесах, под ним было только одно звено рельсов со шпалами.
Как попал вагон в аул? Один из местных жителей рассказал, что зимой 1917/18 года вагон доставили со станции Акстафа путем перестановки двух облегченных звеньев железнодорожных рельсов. Тянули его быки. Живет в вагоне очень важный мулла.
Здесь в районе Акстафы произошло большое событие в моей личной жизни. Во время проведения партийной декады или месячника меня вызвал комиссар полка и после беседы о моем прошлом и на другие темы предложил вступить в РКП(б). Должен сознаться, что в политических вопросах я тогда разбирался слабо. Лишь усвоил хорошо, что Октябрьская революция под руководством большевиков, во главе которых стоит В. И. Ленин, свергла царизм, буржуазию, помещиков и всю власть и богатства в стране передала народу. Вот за эту народную власть мы воюем. Меня вскоре приняли в ряды партии большевиков.
В конце сентября – начале октября полк снова погрузили в вагоны и по железной дороге направили в Дагестан. Прибыли в Порт-Петровск (Махачкала), а оттуда направились в Темир-Хан-Шуру. Из-за большой крутизны и изгибов железной дороги к паровозу цепляли только по шесть – восемь вагонов.
Пулеметная команда разместилась в здании бывшей женской гимназии. Темир-Хан-Шура (теперь Буйнакск) – маленький городок, но он был административным центром Дагестана. Здесь наш полк пополнили кубанцами и бывшими «зелеными».
Кстати, о гимназии. Здесь была хорошая библиотека, и я впервые прочитал «Войну и мир» Толстого. Затем стал читать все, что находил в библиотеке. Увлекся Толстым. После «Войны и мира» прочитал «Воскресенье», военные рассказы. Моя общеобразовательная грамотность началась со Льва Николаевича Толстого.
Вторым событием в Темир-Хан-Шуре было то, что ко мне в пулеметную команду впервые прибыл политрук. Фамилии его теперь не помню. До революции он работал приказчиком на каком-то рыбном промысле в Астрахани. После – администратором там же. Добровольно ушел в Красную Армию. Между нами как-то сразу возникли натянутые отношения. Но военная служба есть служба, нравится товарищ или нет, а приказ надо выполнять. После первого боя политрука перевели в стрелковую роту, и я потерял его из виду.
Наш полк состоял из двух батальонов. В 1-м батальоне было 350—400 человек, во 2-м – 200—250. Полковая артиллерия – четыре орудия, пулеметная команда – восемнадцать – двадцать станковых пулеметов. Конная разведка – шестьдесят – восемьдесят человек.
В начале октября были получены тревожные сведения из крепости Гуниб, которая находится в 115—120 километрах от Темир-Хан-Шуры, в глубине Кавказских гор. Через два-три дня в район Гуниба выступил 1-й батальон под командованием Бугрова. Батальон усилили двумя полковыми орудиями и восемью станковыми пулеметами. С пулеметчиками уехал мой помощник Каверин. Батальон благополучно прибыл в Гуниб, по пути были лишь небольшие стычки с повстанцами. Комбат проинформировал по телеграфу командование полка о положении в районе. Одновременно просил ускорить высылку продовольствия, так как на месте обеспечить им батальон нет возможности.
Вскоре под охраной конной разведки в Гуниб направили продовольствие и фураж. Из Гуниба навстречу транспорту выслали роту. Она и приняла транспорт. Конная разведка вернулась в Темир-Хан-Шуру. Но на следующий день из Гуниба получили неприятное сообщение: между аулом Хаджал-Махи и Георгиевским мостом, на последнем переходе к Гунибу, роту охраны разбили и продовольствие отняли. В Гунибе батальон находится на осадном положении.
Девятого или десятого октября из Темир-Хан-Шуры выступил 2-й батальон и все остальные службы полка. Через аулы Дженгутай, Урма и до Левашей мы прошли без боя. Но в ауле Леваши нас встретили враждебно.