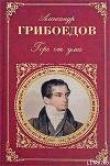Текст книги "Голубые следы"
Автор книги: Павел Винтман
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
«Я люблю тебя, мое время…»
Я люблю тебя, мое время,
Не за то, что ты лучше вчерашних.
За винтовки привычное бремя,
За косые полеты шашек.
Пусть мы часто теряем стремя,
Пусть еще далеко до цели,
Я за то люблю тебя, время,
Что умру я не на постели.
1941
Автобиография
Если б я не писал стихов,
Верно, был бы уже командиром.
Я б смотрел на рождение мира
Через пламя ночных костров.
Я бы шел впереди бойцов,
Вел в атаку, в разведку ползал.
Я принес бы большую пользу,
Если б я не писал стихов.
1941
Голубые следы
Нет, не зря торжествует охотник,
Поднимая ружье на бегу, —
Остаются в просторах холодных
Голубые следы на снегу.
С этой долей поэту б сравниться,
Как ружье, поднимая строку,
А стихи на холодных страницах —
Голубые следы на снегу.
1941
«Дорога торная, дорога фронтовая…»
[1]1
Это и все следующие стихотворения, наброски к поэме присланы поэтом в письмах жене из военного училища, а затем из действующей армии.
[Закрыть]
Дорога торная, дорога фронтовая,
Поникшие сады, горящие стога,
И в злой мороз, и в зное изнывая,
Идти по ней и вечность постигать.
Такая в этом боль,
тоска кругом такая
В молчанье деревень
и в дымном вкусе рос…
Дорога торная, дорога фронтовая,
Печальная страна обугленных берез.
5/IX–1941
«Мне легко ходить по свету…»
Мне легко ходить по свету,
Шевеля листвою слов,
Мне не надобны советы
Критикующих ослов.
И в боях кровопролитных,
Где дрожат и не ужи,
Мне не надобны молитвы,
Я и так останусь жив.
Если ж путь уже измерен,
Если сочтены года,—
Я хочу упасть, не веря
В то,
что умер навсегда.
Не поймут моей дороги —
Голубой,
как луч сквозь дым,
Люди медленного бога,
Люди маленькой звезды.
4/XI–1941
«Мне снятся распечатанные письма…»
Мне снятся распечатанные письма,
И блеск пера на цензорском столе,
И кляксы черные. О, сколько, сколько лет,
Как на сукне зеленом повелись Вы.
И ручка в поисках измен, как
пистолет,
И радость мимо, горе – мимо,
счастье – мимо.
О жесткая войны необходимость,
О сгустки чувств людских
на цензорском столе.
14/XI–1941
Путеводное
В боях мы не грубеем – только руки,
А сердцем стали, кажется, нежней.
Нас осеняют светлые хоругви
Любви к народу, к родине, к жене.
Без жалоб мы пускаемся в дорогу,
И где-нибудь, на энском рубеже,
Последний шаг мы отдадим народу,
Последний вздох – оставленной жене.
Мы потому уверены в Победе,
Нам потому неведом жалкий страх,
Что юность наша с мужеством —
соседи,
Что нежность наша – ярости
сестра.
9/I–1942
«Это – город Ташкент…»
Это – город Ташкент,
перекресток далекой разлуки.
Путь к тебе на восток,
мой маршрут убегает на запад.
Над забитым вокзалом —
зимний ветер дорожной разрухи
Теребит, будто флюгер, прокисший,
зачумленный запах.
Оттолкнувшись звонками
от сыпнотифозных плакатов,
Поезд бросился в ночь,
кукарекнув простуженным горлом.
Кто мне может помочь разобраться:
это поезд ли мчится на запад,
Или мир на восток вместе с сердцем
моим непокорным?
Непокорное сердце мое!
Весть из дому, как дар, ожидая,
Мы сквозь битвы пройдем,
завоюем любые твердыни,
Мы пройдем сквозь разлуку, любую беду
побеждая,
Чтоб вернуться к тебе, дорогая моя,
невредимым.
Это будет в Ташкенте, в Москве
иль на занятых землях немечьих…
Я не знаю еще ни минуты, ни часа,
ни года.
Только это свершится на улице
Радостной встречи,
На проспекте Победы,
у площади Счастья народов.
23/I–1942
«Мы жили странными порядками…»
Мы жили странными порядками,
Но все же, все же – хорошо!
Гордились девичьей прядкою,
Искали рифму к «Равашоль».
Все наши песенки под окнами,
Все нарушенья тишины,—
Все это было перечеркнуто
Одним движением войны.
Любимая, пойми тоску мою:
Не страх погибели в бою,
Пойми, о смерти я не думаю
И, если хочешь, не боюсь.
Я болен грустью, как экземою, —
Ведь если даже не умрешь, —
Ни песен наших, ни друзей моих,
Ни молодости не вернешь.
30/I–1942
«Обыденный день превращается в вечер…»
Обыденный день превращается в вечер.
Скамейки еще не успели остыть.
А в парке уже начинается вече
Друзей моих – умных, веселых, простых.
Но ветер и лбы, и скамейки остудит,
Обыденный вечер – обычная ночь…
Но встал человек
в старомодном костюме,
Рукою взмахнул – и обыденность прочь.
Оркестр, в грозу превращающий будни,
С раскатами грома мешающий медь!..
Неужели, ребята, мы больше не будем,
Как летние ливни, в аллеях шуметь?
Идут легионы на запад без страха,
Мне этого мало, мне надо скорей,
Чтоб снова взмахнул своей палочкой
Рахлин
В затихшем саду на высокой горе.
15/II–1942
«Смиренно дождавшись, чтоб стаял лед…»
Смиренно дождавшись, чтоб стаял лед,
Зиму проспав, как медведь в берлоге,
Весною на задние лапы встает
Самая подлая биология.
И сердце, припомнив интимный покой,
Томит соловьем и кукует кукушкой…
Война ведь не только холодный окоп,
Не только патроны, снаряды и пушки.
Есть у войны и другое лицо —
Страшней, чем гримаса ограбленных
дочиста,
Война – это хриплая ругань бойцов
И жуткое женское одиночество.
Нам враг своей кровью заплатит за кровь,
Своею разрухой за нашу разруху,
И взорванным кровом – за взорванный кров…
Но чем он заплатит за нашу разлуку?..
14/III–1942
На рождение дочери
Я не знаю, как писать об этом, —
Маленькая девочка пришла.
И, дыханьем радости согреты,
Рушатся и мысли, и дела.
Ей, конечно же, еще неведом
Давний и нехитрый мой расчет,
Что она назначена полпредом
Даже до рождения еще.
Ей дано, как маяку в тумане
Океана одиноких дней,
Сделать каждую улыбку маме
Постоянной нотою моей.
20/III–1942
«Не нужно слов. Слова бывают лживы…»
Не нужно слов. Слова бывают лживы.
Не нужно клятв, произнесенных вслух.
Но если мы с тобою будем живы —
Поверит мир в предназначенье двух.
Наверно, мы смешны, как могикане.
Пришла война, мгновенно развалив
Не слишком прочно пригнанные камни
И верности, и чести, и любви.
Погас в сердцах последний чистый лучик,
Возлюбленных забыты имена.
И таинству совокупленья учит
Чужих невест приезжий лейтенант.
Но мы с тобой… К чему пустые речи?
Не нужно клятв, произнесенных вслух.
И если суждено свершиться встрече —
Поверит мир в предназначенье двух.
30/III–1942
«Солнце ударило шапкою оземь…»
Солнце ударило шапкою оземь
И притаилось в загадочной позе,
Будто подруга плясать приглашает.
Темень нелепая, темень ночная.
Тьма на рассвете обрушится боем…
Спляшем, любимая буря, с тобою!
4/V–1942
Наброски к поэме
Вступление
Мы любим Родины простор:
Покой ее станиц,
Несмелый облик деревень,
Водоворот столиц.
Мы любим Родину, как жизнь,
Но нет греха и в том,
Что дом, в котором родились,
Любимый самый дом.
Что мир, где отроком грустил
И юношей мечтал,
Милее разных Палестин
И прочим не чета.
Мой город в синеве аллей
Спокоен и высок.
Косые листья тополей —
Как в седине висок.
Не молод город мой, но он
Милей мне всех других…
Ему да будет посвящен
Мой неумелый стих.
22/IV–1942
К главе «Город»
Лежат дороги, как кресты,
С дерев спадает позолота,
И гложет неизбывный стыд,
Томит щемящая забота:
Бросая город свой в беде,
Ты как изгнанием наказан,
Не оправдание тебе,
Что ты уходишь по приказу.
Смотри: закат на куполах,
Как на высоком пьедестале.
Зачем же вышел ты на шлях?
Зачем же город свой оставил?
«Чего ты требуешь, мой стыд?
Приказу этому покорный,
Взрывать днепровские мосты
Уже шагает взвод саперный.
Чего трубишь ты, мой горнист?
Ведь враг жесток, а мир – огромен».
А стыд ответил:
«Возвратись!
Умри у стен родного дома».
И я назад сомнений груз
Понес, расспрашивая встречных.
Один ответил – город пуст,
Другой – в сомненье поднял плечи.
А третий посмотрел в глаза,
Как брат – тревожно и устало,
И хриплым голосом сказал,
Что войск, конечно, не осталось,
Что город взят врагом в кольцо,
Что взрывы город окружили,
И что безумных храбрецов
Остались кое-где дружины.
Лежал на куполах закат,
Как позабытое оружье.
Я другу посмотрел в глаза
И предложил: «Вернемся, друже!»
И мы пошли. Был вечер тих,
Как тень на фоне дымных кружев…
Я друга встретил на пути,
Но кратки сроки этой дружбы.
Закат стал заревом простым,
С другими слившись постепенно.
Саперы рушили мосты
В седые воды Борисфена.
24/XI–1941
«Есть песня старая и злая…»
Есть песня старая и злая
«Как поздно встретились с тобой».
Любимая! Тебя узнал я
В глухой сумятице перед бедой.
А ты росла вполне счастливой,
Училася в десятом классе.
Ну как, скажите мне, смогли б Вы
От ста других отличить Асю?
О, негатив эпохи нашей!
Среди проявленных грозою
В Орле нашлась такая Маша,
В Москве нашлась такая Зоя.
Согреты Родины заветом,
Просветлены решеньем лица.
Нельзя такую не заметить,
Нельзя в такую не влюбиться.
Мы поздно встретилися, Ася,
Но, может, раньше и не надо —
Ведь битва только началася,
А мы уже с тобою рядом!
20/III–1942
К главе «Первая победа»
И тогда к нам пришел человек,
В ночь одет, как в одежду простую,
С покрасневшими крыльями век
От усталости или простуды.
– Что, – спросил он, – умрем как один
У могилы Аскольда и Дира?
Позаботились об ориентирах,
Чтобы легче вас было найти? —
И ему возразили ребята:
– От греха тебе лучше уйти.
Нам сдается, что ты провокатор.
– Я ценю пылкость ваших сердец,
Я и сам, мне поверьте, не скептик,
Только есть понадежней рецепты,
Чем такой романтичный конец.
Здесь остаться – действительно грех!
Шутки в сторону! Будем знакомы.
Вот мандат – представитель обкома,
А в дальнейшем – товарищ Сергей…
И когда через час с небольшим,
Получив и пароль и задание,
Вдоль подножий покинутых зданий
Мы по мертвому городу шли,
Повторил мой задумчивый друг,
Что сказал командир напоследок:
– На горе опустевший редут —
Это первая наша победа!
11/V–1942
Харьковскому фронту
Мы шли на бой во власти древних
правил —
Щадить детей, лежачего не бить…
А нас поили злобой и отравой,
И я клянусь – мы не умели пить.
Мы научились пить вино военной славы,
Пусть горечь Керчи в крепости вина,
Но повторится вновь
победный день Полтавы,
Как повторился день Бородина.
22/VI–1942
Память
Читать стихи готов везде:
И на реке при лунном свете,
И в оправданье – на суде,
И – как махорку – перед смертью.
…Зачем мне груз любимых книг:
Сельвинский, Тихонов, Багрицкий,
Когда глаза зажмурь на миг —
И перелистывай страницы?
Тебя любить готов всегда:
В тепле супружеской постели,
В разлуки черные года,
В порывах огненной метели.
Зачем же мне в боях твоя
Хотя бы карточка простая?
Глаза закрою – не таясь,
Со мной ты рядом вырастаешь.
Как хорошо таить в себе
Стихи и прозу, лед и пламень.
Как благодарен я судьбе
За эту дьявольскую память!
25/VI–1942
Письма с войны

Письма Павла Винтмана Зинаиде Сагалович.
* * *
15.10.41 г.
Зинуся!
Отпущен в город на небывалый срок (в будний, конечно, день) – целых два часа. Это за успехи в сегодняшних экзаменах. За инспекторскую стрельбу, т. е. стрельбу в присутствии нач. школы, получил благодарность, ибо выбил 30 очков из 30. Только что сдал зачет по оружию, тоже, конечно, блестяще. Плюс к этому – не отстал сегодня во время «броска» – 12 км за 1 ч. 10 м. В результате – еще одна благодарность и прогулка на почту. Так что, как видишь, не без успехов и успехи не без награды…
Относительно «второй нашей встречи» – глупые детские бредни. Но ты, очевидно, настроена плакатно, а я – плакально… Должен же кто-нибудь остаться в живых после этой бойни!!! Пусть это будет, если не я, то хотя бы ты и он…
Любимая! Жду каждой твоей строчки. Ради бога, побольше и почаще. Целую крепко-крепко.
Твой, пока живу и дышу.
Пин
* * *
4.11.41 г.
Любимка моя!
Вот уже несколько дней, как я собираюсь ответить на твое письмо от 22 числа (я получил его 27), но до сих пор еще не написал ответ. Во-первых, и это основное – как всегда, некогда; во-вторых, неважное настроение. То есть не вообще неважное, а, вернее, перемежающееся, как малярия, что ли. Жизнь моя сейчас разбилась на две части. С утра до послеобеда все по-старому, вернее, вроде того, но намного хуже. Потому что мне ужасно не повезло с новым подразделением – я попал в окружение мальчишек из школы… На весь взвод всего несколько человек, с которыми можно перекинуться словом. Правда, с одним пареньком я подружился. Он работник радиовещания, образование у него небольшое, всего одногодичная специальная школа (после 10-летки, конечно), но не в этом дело. Он очень хорошо знает поэзию и поэтов, в особенности, как и я, современных, как и я, немного пописывает и вообще мы с ним «созвучны». Надо сказать, что он обладает большим критическим чутьем и беспощаден к формальным промахам, так часто у меня встречающимся. Вторая половина моей жизни – это клуб. Ежедневно мы туда ходим, готовим программу «Красноармейского театра малых форм». Я, конечно, работаю в своем жанре – пишу пролог, концовку и т. п.
Между прочим, я на вечере буду читать стихи. Пошло в ход старое: «Баллада о любимом цвете», «Возвращение», «Нет, не романтичный парус» и в особенности большим успехом пользуется «Взятие города Н.» (помнишь «Шесть суток на город ложились снаряды…»). Это последнее, вероятно, напечатают в военной окружной газете «Фрунзовец»…
Ты просишь написать тебе обещанные стихи. Обещанного не шлю – у меня, как всегда, замысел один, а из-под пера выходит всегда что-нибудь неожиданное, такую штучку я тебе направляю.
Родная моя! Не надо отчаиваться и переживать! Все как-нибудь устроится, все будет хорошо, будут еще у нас с тобой светлые дни! В этом отношении я непоколебимый оптимист, что бы там ни было – мы победим. Да и я лично еще не потерял надежды на встречу с тобой, на счастье и на Жизнь! Ведь я – счастливчик, может быть, действительно я родился под счастливой звездой, а?
Крепко целую.
Твой Пин
* * *
14.11.41 г.
Желанная моя! Зайчонок милый мой!
Действительно это просто бессовестно, так редко тебе писать, ведь вот уже шесть дней, как я тебе отправил последнее письмо, и уже 3 дня (!), как я собираюсь написать ответ на твое письмо. Но, ей-богу, не было возможности – очень напряженная неделя. Впрочем, об этом сегодня тебе писать не хочется. Ведь я такой счастливый! Счастливый потому, что у меня есть ты, моя единственная, моя хорошая. Я не знаю, кого мне благодарить за это, и если бы был бог на небеси, я бы день и ночь молился ему. В общем, как это у Симонова:
В этой маминой мирной стране,
Где приезжие вдруг от внезапных простуд умирают,
Есть не все, что им нужно, не все,
Что им снится во сне.
Не хватает им малого —
Комнаты с шелковой шторой,
Чтобы долго шептаться, то нежничая, то грубя,
В общем, им не хватает той самой, которой…
Им – не знаю кого. Мне – тебя.
В том месте, где я поставил «птичку», меня вчера прервали, прозвучала команда и… Так всегда. Поэтому и у меня много хороших, нужных, нежных, а главное, – уже найденных слов остаются ненаписанными. Но это письмо я все же и закончу таким же нежным, как и начал его, сколько бы дней ни прошло с тех пор, как я его начал.
Помню, я писал:
Как хорошо, что каждый год
Желтеть березам белоногим,
Что дан им выход, дан исход,
Отринув летние тревоги,
По ветру бросив рыжий хлам,
Воспоминаний не жалея…
А хвойным – людям и лесам,—
Намного в жизни тяжелее.
Ну, так сейчас, из всех качеств человека, я благословляю одно – память, потому что она дает мне возможность быть с тобой (я ведь помню каждое прикосновение, каждый взгляд, каждый жест, каждый поцелуй…) И знаешь, девочка, я раб своей памяти… Я тебя помню всякой – и сердитой, и ласковой, и спокойной, и страстной. Но всего лучше ты мне помнишься в один из дней июля 39 года. Точнее, это было второго числа. Ты приехала из Москвы, а назавтра я уходил в снайперские лагеря. Я долго тебя уговаривал куда-нибудь пойти. Ты согласилась, и мы решили поехать на лодке. На площадке 8 номера я тебе читал написанное специально для этого случая:
Небу ночному – блестунья зарница,
Туче седой – легкокрылая птица,
Колосу – дождь. Ты одна у меня,
Зина, Зинуся, Зиница моя.
Потом мы допоздна катались на лодке, потом купались, а самое главное – на лодке мы поговорили о главном и кое-что решили окончательно. Это, конечно, был знаменательный день в нашей жизни, но примерно так же я могу описать любой другой день, наш день. Ну, разве я не богаче любого Креза? Да, забыл, еще две подробности – на площадке трамвая ты мне сказала: «Неужели я достойна таких стихов?», а на камнях мы засели, и мальчишки помогли нам столкнуть лодку в воду. Помнишь?
В каждом своем письме ты напоминаешь мне о моих стихах… Как я тебе благодарен за это! Ведь ты – моя поэтическая совесть. У меня очень много заготовок, но очень мало законченных стихов. Закончить удается только то, что задумывается и выполняется в один присест. Тем более нечего думать о прозе, а у меня, как на грех, несколько замыслов, решение которых я не представляю себе иначе, чем в форме новелл.
Один замысел такой: несколько рассказов под общим названием «Письма к мертвым» или еще что-нибудь в этом роде. Представь себе отделение или взвод, постоянно действующие в боях. У меня погибло несколько товарищей. К ним продолжают идти письма. Что делать с письмами? Отсылать обратно, все равно не дойдут. Уничтожить? Можно, конечно, но еще лучше прочитать. Ведь на фронте люди откровенны, и я все знаю и о сердечных, и о домашних делах моих покойных друзей. Вот рассказы и должны представить несколько таких писем в переслойку (по Хемингуэю хотя бы), с описанием смерти или последних минут жизни того человека, которому послано письмо. И таких писем к одному и тому же человеку может быть несколько – ведь люди привыкли к тому, что ответы из действующей армии приходят не сразу. Это, конечно, только схема, но простор для драматических коллизий здесь огромный. Отголосок этой темы звучит и в другом стихотворении, которое удалось закончить:
Привет всем нашим. Они не обижаются, что я пишу все тебе и тебе, а не им?
Твой Пин
* * *
24.11.41 г.
Здравствуй, Любимка!
Начала моих писем не блещут разнообразием – всегда начинаю с извинений, что мало и редко пишу, и всегда жалуюсь, что мало получаю от тебя писем. Так будет и сегодня. Вот уже неделя, как я тебе снова не писал (если не считать случайной открытки), и вот уже две недели, как я от тебя ничего не получил… Мне со своей стороны объясниться легко: за последние две недели я сдал два экзамена. Экзамены сдал, конечно, на «отлично», но это чепуха. Куда важнее другой экзамен – я совершил за это время несколько усиленных маршей (например, вчера: 40 км+бой+40 км) и ни разу не отстал… Правда, у меня была возможность отправиться на «губу» (гауптвахту) за довольно крупный поступок – я, будучи в карауле, потерял боевой патрон, но с божьей помощью патрон был на следующий день разыскан, и я таким образом спасен. И еще местная природа тоже подложила нам свинью – то очень холодно, а зимнее обмундирование нам не выдали и не выдадут – следовательно, здорово мерзнем, то оттепель и, значит, непролазная грязь, и в сапогах аквариум. Впрочем, как я уже говорил, это не имеет никакого значения. Я очень хорошо переношу эти трудности…
У меня здесь было несколько интересных встреч. Одна из них с Мишей Витебским, моим сокурсником. Другая – с одним капитаном-артиллеристом, приехавшим с фронта на отдых. Сначала о Мише. Он был на уборочной в колхозе Харьковской области. Отсюда его призвали в школу младших танковых специалистов, но впоследствии отчислили по приказу о студентах-пятикурсниках (помнишь, я тебе писал). И он в простоте душевной вернулся в Киев. Это было уже 4 сентября. Пробыл в Киеве до 13… Выехал он вместе с Васей Ковалевым. В Дарнице их бомбили, и поезд разделили на две части. В одну попал он, в другую – Вася. Его поезд проскочил, а через два часа после его прохода немцы заняли станцию Ромодан и захватили поезд, в котором ехал Ковалев…
Капитан – это интересная встреча совсем в другом роде… Он мне очень много рассказывал о фронте, и, оказывается, что он, несмотря на свою ультраточную профессию, является сторонником Толстого по вопросу о стихийности войны и невозможности управлять отдельным боем и всем ходом военных действий вообще. Все примеры, которые он приводил, весьма убедительны, но я тебе о них расскажу в другой раз, при встрече, что ли!
Перехожу к обещанным стихам. Как я уже говорил, это должна быть поэма. Условное название «Город». Глава, которую я тебе посылаю, рисует возвращение героя в город после намерения эвакуироваться. В общем, ты все поймешь сама:
Ну, вот и все. Надеюсь, что в следующем письме или через письмо я смогу послать тебе следующую главу «Здесь был Батый». Она уже начала продвигаться вперед. Жду от тебя отзыв на эти строки.
Целую крепко-крепко. Привет всем.
Пин
* * *
30.11.41 г.
Зайчонок, родная моя!
…У нас здесь снова начался ад кромешный – поход на походе сидит и походом погоняет. За последние 10 дней, например, 3 выхода на стрельбище (15–15 км), один 40-километровый поход – учение (отражение парашютного десанта) и целых 5 ночных занятий на разные темы… По всем признакам дело идет к концу. Вероятно, числа 1-го января ты меня сможешь уже поздравить… Осточертело до чертиков. Спишь и во сне видишь петлицы с золотым кантиком – хоть какой-то признак самостоятельности… Есть в этом и еще одна сторона: кончу, смогу выслать тебе аттестат рублей на 300. Это будет неплохая помощь… Кроме этого, право, не знаю, что писать и о чем писать.
Стихов новых нет, вернее, новых законченных – нет, а набросков и мыслей хватает. Но все обрывки – нет свободного времени и не хватает сил на малейшее творческое усилие.
Между прочим: у нас здесь был как-то разговор: а что будет после? Жорка говорит, что в самом лучшем случае для нашего поколения больше не будет радостных дней, и ссылается при этом на Ремарка – продолжение «На западном фронте без перемен», а я ничего не ответил, но про себя подумал: «Ничего мне и не надо, только бы был я снова вместе с тобой, моя единственная, моя желанная».
Целую крепко-крепко.
Твой, неизменно твой Пин
* * *
7.12.41 г.
Здравствуй, девочка моя хорошая!
…Ты просишь, чтобы я подробнее писал о своем житье-бытье… Но что мне писать? Что поза-позавчера мы утром были на стрельбище (12–12 км), а ночью на ночных учениях? Что позавчера нас подняли ночью по тревоге, и мы сделали форсированный марш километров 30 для ликвидации какого-то мифического прорыва? Что из похода нас погнали в баню, откуда мы вернулись в два часа ночи, что в 5 часов мы уже встали и пошли на стрельбище, а между 2 и 5 меня еще раз разбудили за то, что мои ботинки были выдвинуты из-под кровати не на 3, а на 5 см? Что сегодня первая за неделю ночь, когда я спал больше 6 часов?.. Прости меня, но об этом писать не хочется… Я лучше напишу тебе о том, что за форсированный марш я ни разу не отстал, что чувствую себя физически значительно окрепшим, что все эти тяготы я переношу в 3 раза легче, чем все остальные ребята (не все, конечно, а большинство), что все это так в конце концов и нужно, потому что времени осталось мало и, может быть, через 10 дней (и не может быть, а наверняка) ты сможешь меня поздравить с выпуском, а себя со званием жены кадрового командира РККА. Это событие тесно переплетается и с ответом на одну твою просьбу. Я очень мало, вернее, ничего не смогу сделать для приезда наших из Энгельса в Термез в роли курсанта, но я смогу им это очень легко устроить после окончания последнего в моей жизни учебного заведения…
Вот сейчас перечитал все твои письма, чтобы не забыть еще какого-нибудь вопроса… А внимание, сердце, ум рвутся к совсем другим строкам, и светло и хорошо делается вокруг. Как это у Сельвинского:
Снежинка моя, мой светик,
Как хорошо с твоей стороны,
Что ты существуешь на свете.
Девочка моя милая! Как я хочу быть с тобой, быть около тебя! Ведь я даже не знаю, когда произойдет это событие, которого моя дорогая трусиха так боится! Это будет в декабре? В январе? Он будет гражданином горького 41 года или года светлой победы – 42? Не надо так трусить. Боец должен быть мужественным на своем посту. А это сейчас твой пост… У нас будет ребенок!
Боже, когда мы будем вместе?
Целую.
Пин
* * *
11.12.41 г.
Любимка!
…Ходят определенные слухи о выпуске 15 этого месяца… Есть ли надежда на свидание после конца? Право, не знаю. Отпуска, конечно, не дадут… Все же в душе моей теплится надежда, что это все-таки состоится – мы увидим друг друга, мы будем вместе. Иначе и быть не может, моя хорошая, моя единственная…
Зинуська! Наконец-то ты откликнулась на мои стихи. Очень рад получить твои замечания и попытаюсь некоторые из них опровергнуть. Во-первых, я поступил опрометчиво, не предпослав отрывку маленького предисловия. Герой моей поэмы, то есть, собственно, я, после приказа об эвакуации покидает город, но возвращается обратно, побуждаемый любовью к своему городу (идея – любовь к своему дому, это символ любви ко всей Родине). Он встречает на дороге друга (идея – кратки сроки этой дружбы, но это последняя дружба, побратимство, скрепленное кровью). Вероятно, он встретит на баррикаде девушку (может быть, Дору), может быть, он полюбит эту девушку – ведь настоящая любовь – родная сестра героической смерти. А они погибнут, как герои, вместе со своим городом. Теперь о возражениях.
1. Существует выражение «стенящая боль» т. е. боль, ни на секунду не ослабевающая, не прекращающаяся, постоянно беспокоящая. Отсюда – «стенящая забота».
2. Не «неизбитый», а «неизбытый», т. е. который нельзя «избыть» – от которого нельзя избавиться.
3. Приказ об эвакуации – всегда вынужденный, следовательно, в нем отсутствует сила, приказ же, сдающий город без боя за каждый дом, и того слабее. Поэтому к нему применимо слово «вялый», кроме того, ведь эвакуация не приказывается, а только разрешается, и в следствии этого строка такого приказа не может служить оправданием… перед самим собой.
4. С сожалениями, повторяю [неразборчиво] дважды – ты права. Надо их чем-нибудь заменить. К примеру: «Другой небрежно поднял плечи». Что это за сомнения? Очень просто. Сомнения в том, следует ли уйти из города.
5. Права ты также и в отношении строки «клянутся, исполняют гимны». Слово «исполняют» жуткий прозаизм. Что же касается самих «гимнов», то это, конечно, уступка романтике и поражение реализма, однако мне захотелось почему-то наградить храбрецов чертами фанатизма. Посмотрю, как развернется картина баррикады. Если не сумею оправдать [неразборчиво] ее защитников, гимны придется выбросить…[5]5
Строка, о которой речь, в публикуемом в этой книге отрывке опущена.
[Закрыть]
Теперь о твоих словах «О серой шинели и о судьбе поколения». Оказывается, что общая судьба молодых еще далеко не общая судьба. Кроме меня да тех, кто ушел в армию в первые дни по комсомольской мобилизации, все мои сокурсники были эвакуированы из Харькова в Самарканд, а ныне находятся в Ташкенте… У меня к ним и чувство зависти, и чувство недоумения: как можно продолжать изучать язык и литературу в такое время. Во всяком случае, написать им сейчас почему-то меня не тянет. Очевидно, я это сделаю уже тогда, когда буду лейтенантом, долго этого ждать не придется…
Ну, о чем еще написать, о погоде, что ли?
У нас – зима. Небольшие морозы, но с сильными холодными сырыми ветрами. Много приходится быть в поле и без зимнего сильно мерзнем. Дали нам, правда, шлемы (будёновки), и я сам себе достал поганенькие ватные перчатки, но все это мало помогает, потому что мерзнет главное – ноги. А они постоянно мокрые, их негде обогреть, и невозможно просушить портянки. Это единственное уязвимое место в броне моего стоицизма. В остальном все по-старому, все вполне терпимо.
На этом я закончу.
Целую крепко.
Твой Пин
* * *
3.01.42 г.
Здравствуй, родная моя!
Я так давно тебе писал, что уже даже не помню, когда это было. За это время в нашей жизни произошли большие изменения, произошел целый ряд событий: а) Начался Новый год; б) Родилась наша дочь; в) Мне присвоили звание лейтенанта и направили пока что в Чкалов в распоряжение штаба Южно-Уральского военного округа. Куда нас денут дальше, одному богу известно. Да здравствует телеграф, давший мне возможность узнать и откликнуться на эти события, ибо написать письмо ввиду чрезвычайной загрузки выпускными экзаменами не было никакой возможности. Экзамены я сдал; на «отлично», сдал лучше всех, за отдачи приказа на атаку получил благодарность от присутствовавшего на экзамене командующего САВО генерал-майора Курбаткина…
Родная моя! Как это все неудачно получилось, что именно теперь я лишен возможности получить от тебя весточку и что вообще это, вероятно, последнее письмо, которое к тебе нормально дойдет, потому что брошу я его в Ташкенте, а из Европы письма ходят крайне неаккуратно. День в Ташкенте попытаюсь использовать для телефонного разговора с вами, чего бы это ни стоило, но я этого добьюсь.
На этом вчера я вынужден был закончить. Вот я и в Ташкенте. Поговорить по телефону не удалось, но черт с ним! Все равно голос по телефону твой не узнать, да и слышно было бы, вероятно, плохо. А впрочем, как жаль…
Сижу сейчас в комнате Тольки Барана и спешно дописываю письмо, потому что через час отходит поезд, и я могу опоздать… Посылаю тебе мою фотокарточку. Говорят, что я неплохо получился. С дороги буду писать еще и, наверное, чаще, а это письмо хочу бросить тут, чтоб оно скорее дошло.
Целую тысячу раз, привет всем, всем и в первую очередь нашей Инге.
Твой Пин
* * *
9.01.42 г.
Вот я прибыл – в Чкалов. С дороги, хотя и хотел написать, но так-таки не написал. В вагоне было темно, на душе скверно и писать положительно не хотелось. В Чкалове я не остаюсь, направлен в г. Бугуруслан. Место знаменитое – чапаевским именем славное… Кем я буду, мне до сих пор неизвестно, знаю только, что направлен в стрелковую дивизию, которая начинает формироваться…
Написал в поезде маленькое стихотворение, которое привожу:
Привет всем и всем. Целую крепко-крепко свою единственную, свою подругу и свою маленькую дочь.
Твой Пин
* * *
15.01.42 42 г.
Моя бесконечно близкая!
Вчера отправил тебе письмо, а сегодня пишу второе. Причин этому несколько, а главное – то, что отсутствие конвертов лимитирует размеры письма, а писать очень хочется и пока что есть о чем. Думаю, впрочем, что ты не протестуешь, тем более, что неизвестно еще, сумеешь ли ты мне ответить так скоро, ведь телеграммы идут сейчас столько, сколько и письма, а письма идут долго. Во всяком случае, я здесь пробуду не меньше месяца…
Зинуся! Как это чертовски неудачно совпало – мой выпуск и события нашей жизни. Ведь я не только не знаю дня рождения моей девочки, не знаю твоего самочувствия, не знаю ее имени – я еще и телеграмме, в которой говорится, что ты здорова, а она существует, не доверяю как следует, – слишком мало времени прошло от твоего письма, полученного 20, и телеграммы от 25, и ты за это время не могла еще выздороветь. Кроме того, телеграмму можно послать и без тебя, а вот письмо дело другое. Да и вообще, что говорить… Между нами такие расстояния, что страшно делается. Боже! вот опять уже нет места и можно только написать одно слово: Люблю.
Твой Пин
* * *
23.01.42 г.
В прошлом письме я тебе писал, что у нас стоят морозы 40°. Сведения мои несколько устарели. Сегодня у нас 61°. Или нечто вроде того, стоят вот уже неделю и нельзя сказать, что это содействовало высоте моего морального состояния, тем более – работа уже началась, а валенок еще нет… Сколько мыслей – и все печальных. О нашей разлуке, о нескорой встрече и даже о нескорой весточке от тебя… Тоска меня сегодня совсем заела, но «Если что велико, – так это коэффициент полезного действия грусти на душу поэта». А поэтому кончаю с презренной прозой и перехожу на стихи…