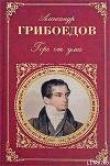Текст книги "Голубые следы"
Автор книги: Павел Винтман
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Павел Винтман
Голубые следы
О Павле Винтмане
Имя автора этой книги вместе с именами его соратников, погибших в бою за Родину, начертано на могильном обелиске, возвышающемся в степи под Воронежем. О том, чтобы не забылись их имена, позаботились студенты-следопыты Воронежского университета. Почти через тридцать лет после нашей Победы они обнаружили на околице деревни Шилово братскую могилу – последний привал поэта-солдата Павла Винтмана, стихи которого были напечатаны благодаря их старанию в газетах Воронежа, Москвы, и в киевском журнале «Радуга». А в 1977 году в Киеве была издана первая книга поэта «Голубые следы». Откуда это название? Его подсказало одно из стихотворений:
Нет, не зря торжествует охотник,
Поднимая ружье на бегу, —
Остаются в просторах холодных
Голубые следы на снегу.
С этой долей поэту б сравниться,
Как ружье, поднимая строку,
А стихи на холодных страницах —
Голубые следы на снегу.
Что ж, согласимся с этой метафорой, пусть стихи будут как голубые следы, только не на снегу, не в холодных просторах и не на холодных страницах, а в благодарной человеческой памяти.
С портрета, который был приложен к книге, смотрел на читателя совсем молодой человек: большие глаза, высокий лоб, курчавые волосы. На петлицах шинели – по два кубика – знак того, что фотография сделана в самом начале войны, когда погон еще не было.
Всматриваясь в благородное юношеское лицо, я узнаю в нем черты моего поколения, узнаю своего однокашника по Киевскому университету в самый канун Великой Отечественной.
Тогдашние дни и ночи были как провода под высоким напряжением. Казалось: дотронься до них обнаженной рукой – тотчас ударит током. Все было насыщено зарядом приближающейся грозы.
А занятия в университете шли своим чередом. И многие студенты, как ни в чем не бывало, писали стихи. И мы читали их друг другу запоем.
По университетскому коридору можно было обойти все здание и вернуться к исходной точке. Вот там-то, прислонясь к какому-нибудь подоконнику или вымеривая неторопливым шагом коридорные перегоны, Павел Винтман, который был моложе меня на два-три курса, читал:
Над степью недобрые тучи —
недобрые люди…
Ой, что ж это будет?
Стрелою летучей по нашим дорогам
Просвищет тревога…
Недобрые люди —
над степью недобрые тучи.
За грех наказанье.
Я плáчу.
Я плáчу слезою горючей
О Киеве стольном, о Суздале славном, о ярой
Рязани.
Это – строки из большого цикла «Татарская степь», над которым тогда работал молодой поэт. В стихах говорилось о давних делах: о кануне Куликовской битвы, а воспринимались они отнюдь не как исторические. И не случайно была избрана такая тема. И не случайно мы с Павлом показывали эти стихи Николаю Ушакову и Леониду Первомайскому – нашим поэтическим учителям, которые отнеслись к «Татарской степи» весьма благосклонно. Не случайным оказалось и письмо Ильи Сельвинского к Винтману, датированное 3 января 1940 года. «Хорошо уже то, – писал Сельвинский, – что написаны стихи, хотя и близко к блоковской манере, но хорошо, со вкусом, с ясным ощущением времени. Такие строки как
Всех сосчитать, что заснули мертвецки,
Я не берусь.
Станы татарские, тьмы половецкие,
Храбрая Русь.
запоминаются надолго. У них широкое дыхание, певучесть…» В том же письме Сельвинский отметил близость стихов Винтмана к украинской песенной стихии, очень высоко отозвался о стихотворении «Взятие Киева» и попросил поэта прислать ему «просто стихи, написанные в разное время и по разным поводам: любовные, политические, пейзажные и т. д.»..
Стихи Павел готов был читать без устали. А мне не надоедало слушать их. Нравилась сама манера чтения. Нравилось то, что П. Винтман читал без опасения «понравится или нет?». Он сразу заговорил среди нас без робости, как власть имущий. Но самое главное заключалось, конечно, в том, что он полнее, глубже, определеннее многих из нас выражал ощущение или, лучше сказать, предчувствие близящейся грозы.
Отворяются двери судьбы,
Ты выходишь из отчего дома…
Меня всегда настораживали в нем эти фатальные «двери судьбы». Он предельно предчувствовал не только неизбежность смертельной схватки, но и свою гибель в ней. Однако самое удивительное и только ему присущее было то, что говорил он об этом без тени трагизма, совершенно спокойно.
Однажды он мне сказал: «Поэт должен прямо идти навстречу смерти. Только так он сможет по-настоящему свидетельствовать о жизни и о людях». В этих утверждениях не было никакой наигранности. В нем жила неукротимая воля к действию, чем во многом напоминал он мне Лермонтова. Он был убежден, что поэт не может жить вне борьбы. Опасность, которой он подвергается в смертельной схватке, несравненно ниже идеи, его воодушевляющей.
Пренебрежение личной опасностью являлось своеобразным выражением чувства гражданского долга. Вот почему мне не показалось странным стихотворение, которое он прочел после наших длительных разговоров о войне, тогда уже захлестывавшей все новые и новые страны Европы:
Над нами с детства отблеск молний медный,
Прозрачный звон штыков и желтый скрип
ремней.
Во имя светлой будущей победы
Нам суждено в сраженьях умереть.
А превратности истории между тем были совсем близки. Грянул гром, я простился с Павлом, и нам суждено было уже никогда не встретиться. Исполнились, к великому сожалению, все его предчувствия. Я хотел было сказать «мрачные предчувствия», – но опять-таки по отношению к П. Винтману это было бы сказано неточно. Сознание необходимости смерти во имя жизни, в котором преобладает порыв гражданственности, не предполагает эпитета «мрачный».
Отполыхала война. Наш университет, где мы учились, дружили, слагали стихи, сгорел дотла и возродился вновь. Мы добились той «светлой победы», во имя которой было суждено «в сраженьях умереть» многим, многим из нас.
В послевоенные годы я ничего не слыхал ни о Павле Винтмане, ни о судьбе его стихов. Казалось, они утеряны навсегда. Но в наследство от П. Винтмана остались не только его стихи, но и его подвиг. А подвиг – тоже вдохновенное творение духа.
И сегодня вспоминаются строки, в которых, как мне кажется, поэта на сей раз обмануло его предчувствие:
Родиться, вспыхнуть, ослепить,
Исчезнуть, не дождясь рассвета…
Так гаснут молнии в степи,
Так гибнут звезды и поэты.
Нет, не согласен! Поэт не исчез до рассвета, не погас, как молния в степи, не померк, как звезда. Поэт хорошо поработал: выковал щит, который уберег его от всесокрушающего времени. Щит этот – слово, стихи.
На свете существуют две категории людей, которые, несмотря на некоторую схожесть, противоположны друг другу. Я имею ввиду фанатиков и одержимых. Фанатики ослеплены какой-либо идеей, которая затемняет их сознание, затуманивает мысль. Другое дело – человек, одержимый своим любимым делом, своей увлеченностью во имя общечеловеческого блага. Такими были многие великие мыслители, художники, изобретатели, ученые, путешественники, открыватели новых земель и новых дорог к светлой жизни. Я всегда восторгаюсь такими людьми. К ним принадлежит и мой друг – поэт Павел Винтман, который был буквально одержим поэзией.
Вот письмо, которое он написал жене с фронта, в самые трудные военные будни, когда, казалось, было не до стихов: «Самую большую радость мне доставил маленький томик стихов Маяковского с „Облаком“. А мне сейчас так хотелось бы перечитать самое любимое: Маяковского, Пастернака, Асеева, Блока. Так много связано в моей жизни со стихами – и юность, и любовь, и дружба. И всего этого не вернешь, то есть всего, кроме любви, ибо она со мной, моя любовь к тебе, и в жизни, и в смерти».
Замечательное письмо! Как много оно говорит о человеке, его написавшем!
В этой книге – лучшее из того, что сохранилось в архиве жены поэта – Зинаиды Наумовны, лучшее из того, что поэт успел создать за 23 года своей жизни.
Я перечитываю давно знакомые строки. И кажется мне, будто я по огромному гулкому коридору обошел здание нескольких десятилетий и возвратился к исходной точке. Звучит живой голос Павла. Мы как бы снова стоим с ним, прислонясь к одному из университетских подоконников, и читаем стихи. И мне воочию открывается великая познавательная сущность лирики как сугубо исторического явления. Дело в том, что лирика всегда разная на разных этапах развития общества. И самые сильные стихи Павла Винтмана запечатлели общественную психологию именно определенных лет, непосредственно предшествовавших войне. Они вобрали в себя чувство молодого человека как раз той поры, а не какой-либо иной, и, стало быть, вобрали в себя самый дух неповторимого времени. Как всякое истинно поэтическое произведение, они продолжают жить, ибо чувство любви и долга, мужества и дерзания, жажда жизни и самопожертвования выражены в них без поэтической позы – искренне, убедительно, горячо. Молодым поэтом найдены слова, соответствующие его утверждению:
В человеке есть большая сила,
Если он спокойно говорит.
Стихи поэта-воина, пришедшие из прошлого, воздействуют на развитие уже совсем иных поколений.
Таково чудо поэзии.
Леонид Вышеславский
Голубые следы
Я хочу упасть, не веря
в то,
что умер навсегда.
«…Вы, может, правду говорите…»
…Вы, может, правду говорите,
Но как не петь мне,
Когда я точно знаю ритмы
Всего на свете?!
Когда два мира сабли скрестят
И вновь – бороться,
Напьемся мужества из песни,
Как из колодца!
1936
Предгрозье
Что может быть лучше предгрозья?
Тревогой весь мир опоясан.
Лишь ветер, как шапкою Оземь,
Как ухарь-казак перед плясом,
Ударит – и ждет подбоченясь.
В мгновенья молчанья глухого
Таинственно, полно значения
Любое случайное слово.
И сердце в тревоге у каждого,
Пока вдалеке громыхает,
И ждешь: начинается страшное,
А начнется – гроза простая.
Что может быть лучше предгрозья?
1937
«Хоть и запад давно не алел…»
Хоть и запад давно не алел,
И восход был еще далек,
Воздух чуточку стал светлей,
Луч прозрачный на воду лег.
Рябь пошла от луча, и к ней
Потянулся шурша камыш.
Любопытный он так же, как мы,
Ловит тайны в ночном окне.
Звезды тоже скользнули к лучу,
Но, казалось, их кто-то держал.
И они от избытка чувств
Стали яростнее дрожать.
Это началось рядом совсем,
Расплескалось совсем далеко,
Голос девушки плыл над рекой,
Как рассвет.
1937
Гравюра
От бега полощется грива,
От ветра распахнута бурка.
Гром – как снарядов разрывы.
Ночная атака —
буря.
От быстрого бега —
почти неподвижные гривы,
От резкого ветра —
крылатая бурка, как буря,
От громкого грома
не слышно снарядных разрывов.
От молний высоких
ночная атака —
гравюра.
1937
Петербургская ночь
Нам о прелестях Ваших
нарассказано множество лестного,
Вам в словесности русской,
как в кресле удобном и прочном,
Петербургских романов героини белесые —
Бестелесные белые ночи!
Вас хвалить, почитай, повелося от самого
Пушкина,
Я ж ни белую полночь, ни девичью горницу
белую,
Ни Татьяну со взором, стыдливо опущенным,
Никогда героиней романа не сделаю.
Это с первой любви у меня —
первой песни моей неумелой,
Все от первой любимой —
жестокой, дразнящей и жгучей,
От начальных объятий, рождающих первую
смелость,
От начальных ночей: чем темнее, тем лучше.
Я влюблен во внезапные ночи бесстыдного
Крыма,
Что приходят без сумерек, сразу, надежно
и просто,
Я хочу, чтоб меня обнимали не руки, а крылья,
Чтоб не спать, а летать
сквозь прошитые звездами версты.
Петербургская ночь.
Что в хваленой твоей бестелесности?
Кто такую прозрачность, такую безвольность
захочет?
Ты не женщина. Нет. Ты – явленье небесное,
Полнокровной природы плоскогрудая дочь…
1937
«Хмуро. Серо. Пелена…»
Из В. Сосюры
Хмуро. Серо. Пелена.
Я страдаю —
и она.
Я молчу – она в слезах.
Плачу я – она молчит.
Лишь рука в моих руках
Лихорадочно дрожит.
1936
«Сад во время прежних весен»
Сад во время прежних весен
Этот был ли?
Разве был он полон песен,
Сказкой, былью?
Воздух густ, хоть не дыши им,
В ветви – прозвездь.
Соловьиный по вершинам
Ветра просвист.
Ветра просвист, ветра трели,
Песнь в полтона.
Как в реке, в тени аллеи
Пары тонут.
Над рекою ветер веет,
Ветер вольный
Поднимает над аллеей
Смеха волны.
Тополь берегом над нами,
Дымкой тронут, —
Так и ждешь, что под ногами
Звезды дрогнут.
1936–1937
«Упала, скользнув по небу черному…»
Упала, скользнув по небу черному,
Высокая зарница, почти что молния,
Встречная девушка, почти девчонка,
Меня ночною тревогой наполнила.
Она мне напомнила, в сочетании с зарницей,
Мою единственную, мою далекую,
Которая изредка дарит страницы
Писем, исчерканных вдоль и поперек.
Ту, чей приезд на день иль неделю
Похож на февральскую оттепель
Или зарницу —
секунду светлее,
Потом – темнота, оторопь.
1937
Голубой звон
Степь со всех четырех сторон,
Воздух дрожит от зноя.
Вот говорят: малиновый звон,
А я бы сказал – голубой он.
Вслушайся только: звенит земля,
Морей голубые глубины.
И если у девушки глаза звенят —
Они обязательно голубые.
1937
Быль
Шла девица – краса,
Золотая коса
Через море, через горы,
Через лес, через бор.
Шел парень лесом,
Был парень весел.
Шел парень бором,
Был парень гордым.
Шел бором, кинул взором.
Был взором взорван.
Парень ждал, не дышал:
До чего ж хороша!
Не кивнула,
Не моргнула,
Только мимо прошла.
Только…
1937
Весенние стихи
I. ВступлениеII. Для друга, для силы
Был вечер.
Февраль.
Я стоял на перроне.
Был инеем поезд,
Как проседью,
Тронут.
Был крайний вагон
Фонарем окровавлен,
И друг
За вагонным окном
Закивал мне.
Потом паровоз,
Обрамленный парами,
К составу прирос.
Потом буферами,
Площадками,
Красным огнем отрезал он
Того, кто уехал
От нас – на вокзале.
Был месяц февраль.
И вечер такой же —
Дрожанием сердца
На прежний Похожий.
И круг абажура…
И ласковый голос…
И мир
Разрастался,
С желаньем знакомясь.
В мгновенье,
Когда
Мир рванулся на убыль,
Замкнувшись
В горячие, терпкие губы,
Из дерзкой,
Чрез голову хлещущей, силы
Уверенность в песне
И в счастье
Родилась.
Для друга,
Который уехал на север,
Для силы,
С которой я в счастье поверил,
Для милой,
С которой я счастье взлелеял,
Я песню пою
О весеннем веселье.
III. Для друга, для силы, для милой
Весна в этот раз начиналась не просто:
Не солнечным зайцем в растекшейся луже,
Не выкриком птичьим сквозь звездную россыпь,
А залпом последним наскучившей стужи.
Мне чудилась в этом особая прелесть,
Что даль и земля под лучом не согрелись,
Что ветер колючий
Не трепет весенний,
А радость какую-то миру посеял.
И снег —
Неуклюжий, красивый и мокрый,
Он в белую полость укутывал окна,
Он вескими блестками ветви украсил.
И мне захотелось у солнца украсть их,
Чтоб спрятать унизанный хвоею снег
На память об этой сумбурной весне,
Когда гнутся ветви под блеском в дугу,
Когда, прекращая тревожащий гул,
Прекрасная тяжесть рвет провод на части,
Как жизнь мою, груз непомерного счастья!
…И в паузу будней ты с песней вошла.
Был мир – как матрос, распахнувший
бушлат,
Открывший тельняшку и смуглое тело;
Был мир полосат —
голубой был и белый,
Когда мы втроем через город к Днепру
Прошли.
И молчанье лежало вокруг.
И свежестью дуло на нас настоящей.
Мы были втроем среди ветра и счастья.
И снег.
Был он мягкий, красивый и мокрый,
Он четким рисунком ложился на локон,
Он прядь, точно чернь серебро, покрывал.
И я признаюсь – я чуть-чуть ревновал,
И я прижимал эту прядку к устам,
И снег с теплотою сражаться устал,
И дрогнули льды,
И в синеющей выси
Последние белые клочья повисли.
Их ветры весенние вдаль унесли,
И это – трофеи
Мои и весны.
1937–1938
Увертюра
Это лето промчалось под знаком потресканных
губ,
Ненасытных и злых, как земля в это знойное
лето.
Как сребристый июль, я забыть никогда
не смогу
Трепет первых вопросов, молчание первых
ответов.
Ты влекла меня в мир —
только мне или всем? – неизвестный.
Замолкали сверчки, увертюру к ночи отыграв,
Мир был полон тепла, неожиданно ярких
созвездий,
Мир колючих ресниц и нестрашных преград.
Мир был зыбким – в нем тонешь, не ищешь,
на что опереться,
Мир был легкий и радостный.
Может быть,
чуточку глупым,
Потому что за подвиги, за победы
над рвущимся сердцем
Был в награду не орден, а губы.
Мир был странный и —
мне или всем? —
неизвестный.
Впрочем, я ведь не первый,
Называющий девушку песней,
А губы припевом.
1938
Экспромт
День весенний – голубая бестолочь.
Зимний ветер – голубая бестия.
Это ж надо им на землю вместе лечь —
Солнцем греть, а зимним ветром выстегать.
Дорогая недовольна встречею,
Холод слов… Но в паузе – амнистия.
Это ж надо им на сердце вместе лечь —
Солнцем греть, а зимним ветром выстегать.
1938
«Ветер осени, жесткий и мглистый…»
Ветер осени, жесткий и мглистый,
Обрывает холодные листья.
Капли горькие капают с дуба…
Это губы твои, это губы.
Ветер осени, пасмурный ветер,
Обнажает застывшие ветви,
Ветви скрючены яростной мукой…
Это руки мои, это руки.
Ты проходишь соседней аллеей,
Не подходишь ко мне, не жалеешь.
Погляди на меня хотя бы,
О Сентябрь, мой Сентябрь.
1939
«На что мой тонкий вкус?..»
На что мой тонкий вкус?
На что мой мозг
ученый?
На что мне жизнь? Что смерть в конце концов?
Мне б только знать, что в час кончины черный
Наклонится ко мне любимое лицо.
И я, моя любовь, навеки твой невольник,
Мне невозможно без тебя уснуть.
Я так ищу тебя, как берег ищут волны,
Чтобы окончить свой суровый путь.
1939
«Кто дал тебе такую власть…»
Кто дал тебе такую власть,
Такую власть, красу такую,
Что гордый рад к ногам упасть,
Упасть и плакать,
Прах целуя?
Тебе не полюбить меня —
Неловок и лицом не вышел,
Но сотни рифм тобою дышат,
Теперь навеки
Ты – моя.
1939
«Над паровозом шуршащий ковыль…»
Над паровозом шуршащий ковыль
Белого пара и сизого дыма…
Символ прощаний и встреч – это
Горькие руки, холодное имя.
Как он жесток, поворот,
Сделавший близкое злым и далеким.
Что мне осталось? Усталость, покой,
Шорох стихов в тишине одинокой.
К Вашим услугам окно, как трюмо,
Локон поправили, взоры – как стрелы.
Образ мой стерт поездной кутерьмой,
Образ мой стуками стрелок раздавлен.
Над паровозом шуршащий ковыль
Белого пара и сизого дыма…
Символ прощаний и встреч – это
Горькие руки, холодное имя.
1939
«Ты болен, старый мир…»
Ты болен, старый мир, ты безнадежно болен,
От первого толчка рассыпаться готов,
Жестокий, как сатрап, и жалкий, как невольник,
Ты мчишься в пустоте, сквозь легион годов.
И этот год – он над тобой, как ворон,
На жирном мясе трупов раздобрев.
…Сегодня 39. Завтра 40.
И близок час, когда начнется бред.
1939
«Несть измены в легком поцелуе…»
Несть измены в легком поцелуе,
В ласковом пожатии руки,
Что с того, что смотришь на другую?
Что пройдешься об руку с другим?
Но разлука – едкая отрава,
От нее всегда на сердце муть.
Потому, что горе и отрада
Достаются только одному.
1939
Олимпийцу
Ты, смертный, хочешь богом стать,
Спокойно книгу судьб листать,
Страданьем не платить за стих,
Купаться в вечной радости.
Нам, людям, лучше быть людьми,
Неверный миг судьбы ловить.
Нам счастье на вес золота.
Жизнь божья невеселая.
Из всех богов – Вулканом быть,
Вулканом быть – огонь любить,
Огонь любить – металл ковать,
Друг с дружкой скалы сталкивать.
1939
Метафора
С полудня небо крылось тучами,
В жнивье корежились поля.
Сомненьем и желаньем мучимы,
Сближались небо и земля.
Потом разверзлась тьма кромешная,
Потом – где небо, где земля?
Потом давай скорее смешивать,
Что можно и чего нельзя.
И так сплелись —
расстаться трудно им…
Просторы неба
прояснив,
Коснулся ветерок предутренний
Полуопущенных ресниц.
1939
Березка
Бывает: склонилась березка,
В свое отраженье врастая,
Как будто девчонка-подросток
Впервые о милом гадает.
И, только сойдясь с нею запросто,
Рукою коры касаясь,
Поймешь по наплывам и наростам:
Березка совсем седая.
1939
Почему плачет ива
На обрыве, над зеленым озером,
Где рассвет мохнатым покрывалом,
Молодая гибкая березонька
Голубому ветру отдавалась.
Легкокрылый, упоен победою,
Легкомысленный веселый ветер,
Хвастая, торопится поведать он
О грехе березки всем на свете.
Стукнет сплетник в каждую оконницу…
Ох ты, девичья ославленная участь!..
Со стыда склонила ветви донизу,
Стала ивой, ивою плакучею.
1939
Из окна
Прямой и нежданный ударил дождь,
Летний шумливый ливень.
Такой, что без зонтика и галош
Пройти ни за что не смогли бы вы.
А под навесом (кругом гроза)
Двое. Такие счастливые,
Что мимо них, не зажмурив глаза,
Пройти ни за что не смогли бы вы.
1939
«Гроза надвинулась, как ты…»
Гроза надвинулась, как ты —
Я без труда тебя узнал:
Такие ж смуглые черты,
Такие ж синие глаза.
Такую принесла беду,
Что покорилось все вокруг,
Что даже одинокий дуб
К ней протянул сплетенье рук.
Прикосновение дождем…
Как я – твоих холодных губ,
Он так же безнадежно ждет,
Влюблен, безропотен и глуп.
1939
Глядя на тебя
«Что тебе, моя родная, снится?..»
Что тебе, моя родная, снится?
Что твой сон, любимая, тревожит?
Вздрагивают длинные ресницы,
На большую бабочку похожие.
На большую бабочку ночную,
Что в саду по вечерам гудит.
Хочется коснуться поцелуем,
Да боюсь тебе не угодить.