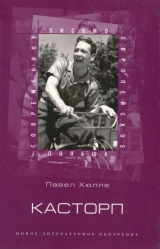
Текст книги "Касторп"
Автор книги: Павел Хюлле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Теперича вам не искупаться, – она наливала воду в таз, – пришли пораньше, а хозяйка ингаляцию принимают. Вот и ждите. Хозяйка велела принести горячей воды, чтоб не простыли. Ну чего? – только сейчас она украдкой взглянула на Касторпа. – Берите стул, садитесь и грейте, что промочили. А сигары эти, – она указала на ящички с «Марией Манчини», – так они сказали, уже уплочено. – И вышла, хлопнув дверью.
Хотя осуществленные таким способом добрые намерения госпожи Вибе сильно смутили Касторпа, он с удовольствием закурил сигару, передвинул стул и опустил озябшие ноги в таз с горячей водой. Из ванной доносились восклицания и приказы. Кашубке поминутно бегала в спальню хозяйки, чтобы принести оттуда то соли, то еще что-нибудь. Продолжалось это так долго, что Касторп, вытерев согревшиеся наконец ноги, надел тонкие шелковые носки, халат, лег на кровать и заснул. А когда через несколько часов проснулся с головной болью и сосущей пустотой в желудке, свет в квартире госпожи Вибе уже не горел. Первой мыслью его было, что надо поесть, и еще: как он мог проявить такое легкомыслие и лишиться обеда и ужина? Кроме того, следовало принять ванну – но можно ли посреди ночи подымать шум?
Однако все прошло на удивление гладко. С зажженной свечой в подсвечнике он первым делом отправился на кухню, где стоя проглотил две булочки с сыром и выпил молока. В ванной жар в колонке еще не угас, благодаря чему в его распоряжении оказался изрядный запас теплой воды. Когда, выкупавшись, он возвращался в комнату, его слуха достиг доносящийся из-за дверей спальни госпожи Вибе храп, перемежающийся тихими, прерывистыми, словно бы нервными всхлипываниями. Осторожно закрыв за собой дверь, Касторп задул свечу и скользнул в постель. Но сон не желал приходить. Наш герой долго ворочался с боку на бок, и в голову лезли разные мысли. Ему вспоминался последний разговор с дядей Тинапелем, прогуливающиеся по Эспланаде пары, колесный пароходик «Ганза», на котором он катался по гамбургскому порту еще с отцом, и прощальная гримаса фрейлейн Шаллейн, когда он уезжал. Ни одно из этих воспоминаний – беспорядочно появлявшихся и сразу же исчезавших – не заслуживало внимания. Первый, еще не очень глубокий сон принес перемены. Вначале шумело море, словно дом на Каштановой стоял прямо на пляже. Потом Ганс Касторп неожиданно оказался в своей детской, где открывал дверки кукольного театра. На сцене стояли: Король с Королевой, чуть подальше Паж, Шут, Рыцарь и Астролог.
– Нравится тебе, когда хорошо произносят заученные роли? – услышал он уже знакомый дрожащий, с хрипотцой голос. – А может, они предпочитают гулять в саду?
Только сейчас, глядя ей прямо в глаза, он понял, почему она так очаровала его в курхаусе. Чуть выступающие скулы в сочетании со своеобразным, немного капризным изгибом губ придавали ее лицу экзотическую прелесть, какую-то двусмысленную, притягательную чуждость. Он молча подошел к ней, а когда она положила ему на затылок ладонь, почувствовал, как от каждого пальца исходит тепло нагретых солнцем дюн и веет жарким дыханием морского ветра. Прикосновение было таким чувственным, что, проснувшись утром, Касторп еще несколько минут остро его ощущал.
За завтраком и кофе он старался разгадать – наверно, впервые в жизни – поразительную логику сна. В том, что ему приснилась незнакомка из сопотского курхауса, не было ничего удивительного. Но почему она появилась в его детской именно тогда, когда он склонился над своей любимой игрушкой? И вдобавок был уже не ребенком, а – если можно так сказать – нынешним, сформировавшимся Гансом Касторпом. В конце концов, все это могло с большим или меньшим успехом объясняться теорией отражения давних или совсем недавних переживаний в произвольных комбинациях. Однако чем вызван странный вопрос о хорошо заученных ролях и прогулках в саду? Вряд ли событиями последних дней, недель или месяцев. Да и прежде он ничего похожего не слыхал и ни в одной книге не прочитал, то есть вопрос не был подсказан – прямо или косвенно – прошлым опытом. Так что же его в таком случае навеяло?
Уже на остановке, садясь в трамвай, Касторп обнаружил, что не захватил с собой – как делал каждое воскресенье – карты города. Упущение, хоть и пустяковое и ничем не грозившее, вызвало у него раздражение.
«Неужели из-за одного сна, – подумал он, – я начинаю забывать о мелочах?»
Однако четверть часа спустя, когда трамвай, проехав Большую аллею, приближался к железнодорожному вокзалу, произошло нечто гораздо более странное. Осмотр Старого города, прогулка вдоль Мотлавы и, наконец, портер в кабачке «Под оленем» – все, чем он так наслаждался в прошлые воскресенья, вдруг показалось Касторпу серым и скучным. Ему захотелось перемен. Настолько сильно, что он не раздумывая выскочил из трамвая возле вокзала, купил билет второго класса до Сопота и сел в первый же поезд.
«И ничего тут нет особенного, – размышлял он. – Стоит ли упрекать себя за решение провести воскресенье не там, где поначалу планировал, не совсем так, как обычно?»
В купе он сел напротив мужчины в темном котелке, погруженного в чтение «Анцайгера». С минуту смотрел в окно на все быстрее убегающий назад перрон, на портовые краны, пока их не заслонил направляющийся в Кёнигсберг скорый, а затем перевел взгляд на газету. В глаза ему бросился заголовок на первой полосе: «Простой полицейский раскрывает страшное преступление» и ниже подзаголовок: «Подмастерье золотильщика убил и расчленил своего хозяина!» На всю заметку, состоящую из двух десятков коротких фраз, в обычной ситуации у него ушло бы не больше минуты, но для человека, который заглядывает украдкой в чужую газету, чувствуя себя примерно так же, как безбилетный пассажир (не имеющий права пользоваться тем, за что не заплатил), чтение – дело нелегкое, да и удовольствия не доставляет. Тем не менее Касторп не мог оторваться от газетной страницы, для маскировки проделывая различные отвлекающие движения. Дважды поправил крепко завязанные шнурки, поворачивался лицом к окну, за которым мелькали огороды, рощицы и какие-то домишки, вынимал платок и вытирал совершенно сухой нос, в промежутках – поспешно и жадно – возвращаясь к чтению. Молодой подмастерье по фамилии Пудровский перед самым закрытием лавки убил ее владельца, Эрнста Хоффмана, а затем – как следовало из заметки – оттащил тело несчастного в подсобное помещение, чтобы там, в маленькой мастерской, разрубить на части. Потом – с помощью своей невесты, чья фамилия не была указана, – он уложил останки в деревянную тележку, прикрыл брезентом и в сгущающихся сумерках повез ужасный груз с улицы Золотильщиков через центр в сторону Вжеща. Полицейский Глобке в тот день возвращался домой пешком. У него болела голова, и он решил прогуляться. Сам факт, что в эту пору двое молодых людей тащат за собой по краю Большой аллеи тележку, не вызвал бы подозрений, если б не то, что – вопреки новейшим правилам движения колесного транспорта и пешеходов – тележка сзади не была освещена. Поэтому Глобке остановил их, дабы сделать внушение; заканчивая же свою речь, увидел, что из-под брезента высовывается и падает на мостовую кисть руки в белом манжете. Задержанные не оказали сопротивления. В участке подмастерье Пудровский признался в содеянном, взяв всю вину на себя, однако объяснить свои мотивы отказался. Преступники не похитили из лавки никаких драгоценностей – вероятно, намеревались сделать это позже, спрятав труп. Заметка завершалась информацией, что полицейский Глобке за проявленную в неслужебное время бдительность будет представлен к награде. Справившись с этой последней фразой, давшейся ему с наибольшим трудом, потому что вагон затрясся на стрелке, Касторп откинулся головой на спинку сиденья и устремил взгляд в окно.
– Вы удивлены? – услышал он низкий, теплый голос своего попутчика. – А может, страшновато стало?
Мужчина в котелке опустил «Анцайгер». Его серые глаза сверлили Касторпа с нестерпимой агрессивностью.
– Я знал старика Хоффмана, – он щелкнул пальцами по газетному заголовку. – И всегда ему говорил: не бери на работу поляков! Но у него были свои взгляды. Либеральные, – незнакомец сердито выпятил губы. – Ну и кончил соответственно. А может, вы, прошу прощения, тоже либерал? Мне это совершенно безразлично, будьте хоть ослом, я только хочу вас предупредить, что здесь, в этом городе, мы в несколько особом положении. Им только дай палец, мигом отхватят руку!
Последние слова мужчина произнес уже из-за газетного листа, вновь погружаясь в чтение. Теперь глазам изумленного Ганса Касторпа предстала светская хроника, из которой можно было узнать, что крымский князь Темир Булат Гудзунати с супругой Альмирой посетит Гданьск и остановится в гостинице «Deutsches Haus». Касторпу вспомнился Кьекерникс. Будь голландец сейчас рядом с ним в купе второго класса, выпад случайного попутчика – наглый и решительно противоречащий правилам хорошего тона – не остался бы без ответа. Сам же он предпочел промолчать – не потому, что имел особое мнение или, напротив, не знал, что сказать, а по очень простой причине: он чувствовал себя виноватым. В конце концов, не читай он чужую газету, этому ужасному типу не к чему было бы прицепиться. К счастью, поезд уже приближался к Сопоту, и Касторп с облегчением, не сказав даже «до свидания», вышел на перрон.
Перед вокзалом стояло несколько колясок с развеселой компанией. Табличка на столбике предлагала желающим отправиться на воскресную экскурсию в лесную корчму «Большая звезда», где гостей ожидают смолистый воздух, чудесные виды, родниковая вода и превосходная кухня. Секунду Касторп колебался, не сесть ли ему в одну из этих колясок – раз уж он с самого утра положился на волю случая, следовало бы продолжать в том же духе, – однако тут же поймал себя на лицемерии. Ни о каком случае и речи не шло. Ему захотелось погулять по прибрежному променаду и выпить пива на веранде курхауса исключительно потому, что он рассчитывал снова увидеть ту пару. И стало быть, желание это – пускай подспудное – надо исполнить или по крайней мере попытаться исполнить, коли уж он ему поддался и даже изменил характер воскресного времяпрепровождения. «Странно, – подумал он, – почему я корю себя из-за сущего пустяка?» Конные экипажи медленно двинулись к лесистым холмам, он же – проводив взглядом веселую компанию купцов и чиновников, возглавляемую несколькими пожилыми господами в старомодных пелеринах и цилиндрах, – направился через рыночную площадь к морю, куда вела полого спускающаяся вниз Морская улица. В отличие от полного приятных сюрпризов вчерашнего дня, когда он ездил в Сопот за сигарами, сегодняшние смутные ожидания с каждой минутой все больше нагоняли на него тоску.
Добрый час он провел на молу. Потом выпил портеру за тем же, что накануне, столиком. Затем пошел через парк в сторону Северных Лазенок: там по случаю воскресного дня – хотя морские купальни уже закрылись – было много гуляющих. Берегом моря он вернулся в курхаус и пообедал на веранде ресторана. Ни овощной суп, слишком густой от заправки, ни телятина под соусом бешамель – сухая и волокнистая, ему не понравились. Вдобавок, когда, за кофе и сигарой, он попросил «Анцайгер», оказалось, что есть только «Данцигер цайтунг», в котором заметка о преступлении подмастерья золотильщика была напечатана на третьей полосе; кстати, там ни словом не упоминалось о руке, упавшей с тележки на мостовую.
Еще какое-то время он прохаживался по павильону минеральных вод, откуда видна была площадь и новые светлые стены водолечебницы, с которых еще не полностью сняли леса. Хотя народу везде было немало, меланхолическое настроение конца сезона давало о себе знать на каждом шагу: об этом говорили вялые движения кельнеров, падающие листья, закрытые киоски, выгоревшие флаги, пролетки, тщетно поджидающие клиентов перед гостиницами. Похоже, делать тут было нечего. На углу улицы Виктории Ганс Касторп остановился перед витриной фотоателье. «Эльза Лидеке из Берлина» – как сообщала скромная надпись под выцветшим от солнца портретом, – выигравшая конкурс на герб курорта, улыбалась ему не слишком искренне, словно по принуждению. «Зачем я сюда приехал, – с горечью подумал Касторп. – Это ведь совершенно бессмысленно!» И в ту же минуту, отвернувшись от витрины с твердым намерением сегодня же приступить к систематическому изучению уравнений Вейерштрасса, чтобы в математическом мире чистых понятий открыть для себя широкую, надежную дорогу, увидел ту пару.
Они шли по Морской улице, которая в этом месте слегка расширялась. Мужчина держал в правой руке небольшой пакет – это могла быть завернутая в бумагу книга или блокнот. Женщина помахивала зонтиком, чехол которого, очень яркий, совершенно не подходил к ее темному костюму и наброшенной на плечи серой накидке. Они оживленно беседовали, поминутно останавливаясь на тротуаре. Он перекладывал пакет из одной руки в другую, она вертела ручку зонтика, будто ввинчивая кончик в тротуар. Касторп медленно, чтобы не вызвать подозрений, направился в их сторону. К его радости, когда он пересек мостовую и ступил на противоположный тротуар, из ближайшей подворотни высыпала ватага ребятишек. Теперь он мог, не привлекая внимания, задержаться перед витриной аптекарского магазина, достать сигару и очень долго чиркать спичками, хотя, честно говоря, не имел обыкновения курить на улице – если не считать садиков при кафе или скамеек в парке. Затем, попыхивая «Марией Манчини», он не спеша последовал за парой вплоть до гостиницы «Вермингхофф». Там – у входа в гостиницу – надлежало безотлагательно принять решение: идти ли дальше к курхаусу, оставив их за спиной, или – что было рискованнее – войти внутрь. В обоих случаях ему пришлось бы пройти мимо них, поскольку пара – будто собираясь распрощаться – остановилась на тротуаре у самых дверей «Вермингхоффа», разговаривая по-французски. Он снова услышал уже знакомый мягкий русский акцент.
– Моя кузина, – рассмеялась она, – признает только Биарриц.
– Уж лучше бы Остенде, – ответил он. – Ты так не считаешь?
– Это очень далеко, – она перестала улыбаться, – слишком далеко.
Уверенным шагом, будто к себе домой, Ганс Касторп вошел в пустой вестибюль. Портье, не признавший тем не менее в нем постояльца, быстро и довольно резко спросил:
– Чем могу служить?
– Я бы хотел взглянуть на расписание поездов до Берлина, – столь же быстро ответил Касторп. – И чтоб в вагоне были спальные места.
– Есть только один поезд, в двадцать два тридцать.
– Ах вот как, – Касторп стряхнул пепел в пепельницу возле стойки. – Ну а до Бреслау?
– До Бреслау, – как эхо повторил портье, – прямого со спальными нет. Только летом, три раза в неделю.
– В таком случае, – Касторп краем глаза увидел, что незнакомка входит в вестибюль одна, без своего спутника, – попрошу, если можно, полное расписание.
Портье без слова подал ему толстую книгу в дешевом переплете под мрамор, на котором был вытиснен посеребренный императорско-королевский орел, выглядевший не слишком импозантно. Едва Касторп раскрыл расписание поездов Германской империи на странице, относящейся к Дрездену, женщина подошла к портье. Небольшой пакет она положила на стойку. Портье молча протянул ей ключ с цифрой семь; Касторп, склонившийся над расписанием, которое его совершенно не интересовало, уловил запах ее духов: фиалковый, с примесью мускуса. Вернув расписание, он вышел на улицу. И только пройдя несколько шагов, понял, что совершил нечто ужасное, чего ни одному мужчине, носящему его фамилию, не следовало бы делать во избежание позора; словом, ему стало нестерпимо стыдно, но в то же время он поразился тому, что оказался способен на такой непристойный поступок. Ибо, когда портье отвернулся, чтобы уважительно поклониться даме, коротко сообщившей ему уже на ходу: «Я уезжаю завтра утром», Касторп схватил оставленный ею на стойке пакет и, как мелкий воришка, спрятав его за пазуху, покинул гостиницу «Вермингхофф». Хуже того: будто в каком-то трансе, он поспешил вслед за незнакомцем, который, свернув с Морской на Южную, медленно направился – похоже, кружным путем – в пансион «Седан». Открытие, что эти двое живут не вместе и даже не в соседних номерах одной гостиницы, почему-то подействовало на Касторпа угнетающе. Постояв с минуту перед пансионом, он дождался появления незнакомца на веранде: мужчина уселся в плетеное кресло и, в узкой полосе электрического света, развернул «Анцайгер». Первые после нескольких солнечных дней дождевые тучи наползали на город со стороны залива. Холодный ветер гнал по улице Седан песчаное облако, в котором кружились сухие стебельки травы и опавшие листья.
«Неужели дядя Тинапель был прав? – подумал Касторп. – И если да, должно ли это меня тревожить?»
И зашагал в сторону вокзала, твердо решив забыть об этой истории и никогда больше к ней не возвращаться. Однако в доме на Каштановой возникла новая проблема: что делать с пакетом? Проведя пальцем по веленевой бумаге, перевязанной тесемкой из книжного магазина, он убедился, что внутри лежит книга, – но как поступить дальше? Сдержав любопытство, он, не заглядывая в пакет, спрятал его в ящик. И сказал себе, что на днях отправит посылку на адрес гостиницы «Вермингхофф» с припиской: «Оставлено в номере семь тогда-то и тогда-то…». Он и предположить не мог, какие последствия повлечет за собой это решение.
VII
Внешне Касторп держался великолепно. Когда Герман Берендт, однокурсник и тоже гамбуржец, как-то заговорил с ним в столовой о сенаторе Томасе Касторпе, он с удовольствием поддержал беседу о своем дедушке, даже вставил несколько невинных анекдотов и поговорок на северонемецком диалекте, изрядно развеселив окружающих. Когда все тридцать будущих кораблестроителей отправились с доцентом Хоссфельдом на Императорскую судоверфь, чтобы осмотреть корпус и водонепроницаемые переборки подводной лодки, он искренне восхищался новыми решениями, без смущения задавал вопросы, был неподдельно оживлен. Даже наткнувшись однажды в «Café Hochschule» на фон Котвица в обществе Эдгара Мацкайта и Вальдемара Розенбаума, он не поспешил по обыкновению, сдержанно поздоровавшись, отойти к отдельному столику с газетами, а подсел к ним, заказал портер и с удовольствием принял участие в разговоре: Розенбаум и Мацкайт – оба были из России – рассказывали о казаках, графе Толстом и нигилистах, бросающих бомбы.
Все это, однако, занимало его лишь частично. Нередко, погружаясь в задумчивость – иногда в самый разгар беседы, на лекции, в трамвае, на прогулке, за завтраком либо принимая ванну или читая «Анцайгер», – он отрывался от действительности, мыслями блуждая по одному лишь ему известным тропам. Иногда это становилось поводом для дружеского подтрунивания: кто-нибудь, увидев его в таком состоянии, громко кричал: «Ну и что ты на сей счет думаешь, Касторп?» Эффект получался комический: у возвращающегося к реальности мечтателя на лице появлялось такое изумление, что все вокруг разражались смехом. Серьезные неприятности начались только в ноябре, когда некоторые, на первый взгляд ничем не примечательные занятия в политехникуме стали наводить Касторпа на странные размышления.
Как-то в понедельник ассистент Вильгельм Беккер объяснял в машинном цеху принцип действия трехцилиндровой турбинной паросиловой установки; Касторп слушал, стараясь не пропустить ни единого слова. Работа установки зависела от давления, с которым сжатый пар поступал в первый цилиндр. С пятнадцати атмосфер оно падало до тринадцати, и высвободившаяся энергия приводила в движение мощный поршень. Во втором цилиндре давление пара с тринадцати опускалось до десяти атмосфер, и следующий поршень синхронно передавал уменьшившееся усилие на коленчатый вал. В третьем цилиндре на выпускном клапане давление составляло уже восемь атмосфер, и ослабевший пар, толкнув последний поршень, попадал в турбину. Разве не то же самое происходит со временем?
К такому выводу Ганс Касторп пришел на трамвайной остановке, сразу после окончания последних занятий. В зависимости от того, в какую щель попадает время, оно может течь быстрее или медленнее, сгущаясь или разрежаясь. Щель здесь, понятно, его собственный, человеческий ум, вне которого – это он знал из философии – время не существует, по крайней мере в том смысле, что его нельзя вычленить, выделить в чистом состоянии. Исходя из этого сравнения, хоть и отдавая себе отчет в том, что оно не безупречно, Касторп предположил, что события, подобно потоку пара в цилиндре, проплывают через его сознание то под большим, то под меньшим давлением. Стало быть, если движущей силой жизни является время – он сел в трамвай, предъявил кондуктору месячный билет и занял свободное место на передней площадке, – такую зависимость можно выразить функцией, начинающейся в точке рождения и уходящей в бесконечность. Но где же тогда момент смерти? Тут Ганс Касторп попадал в замкнутый круг собственных предпосылок: ведь если функция не имеет конца, она, скорее всего, не должна иметь и начала, иначе говоря, идет от минус до плюс бесконечности. Но тогда подобного рода приближения неприложимы к жизни: у нее есть начало и она всегда достигает конца – по крайней мере об этом свидетельствуют факты. А если время только иллюзия или, вернее, конструкция, созданная, подобно математическим формулам, для практических нужд? С помощью формул можно построить корабль, мост, автомобиль, но сами по себе они ведь ничего не значат.
Трамвай уже давно миновал остановку на Каштановой, и Касторп очутился в своем собственном, особом времени на склоне заснеженной горы. О близости других вершин из-за густого тумана можно было только догадываться, но не это сейчас его занимало. Он услышал глухое тарахтенье, словно где-то неподалеку по обледенелому спуску катились бочки или ящики. Через минуту туман слегка рассеялся, и Касторп разглядел в снегу узкую, вероятно, санную дорожку, по которой одна за другой, с равными промежутками съезжали странные, узкие, по-видимому больничные кровати. На самом деле это были сани для бобслея, которых он никогда прежде не видел, но его первая, медицинская, ассоциация оказалась не такой уж ошибочной: в санях, по горло укрытые верблюжьими одеялами, неслись вниз по ледяной дорожке покойники. Он понял это, потому что снежные хлопья не таяли на лицах, а оседали – у кого плотной коркой, у кого прозрачной вуалью. Именно под таким тонким покровом мелькнуло перед ним лицо его деда, сенатора Томаса Касторпа. Потом, среди многих других, мимо промчалась его мать, а в конце странной процессии он увидел канцеляриста из политехникума, досаждавшего ему своими абсурдными теориями. Как только снежная пыль за ними осела, Касторпу открылась панорама гор. Отражавшиеся от покрытых снегом вершин солнечные лучи били прямо в глаза, и он невольно зажмурился. Внизу, в долине, у его ног раскинулся Гданьск. Он видел башни костелов, ленту Мотлавы с лабазами по берегам и лабиринт улочек Старого города.
– Ты готов? – услышал он женский голос. – Хватит тебе отваги?
Она стояла в двух шагах от него. На лыжах, в мужском костюме и шапочке, напоминающей шлем авиатора, она была совсем не похожа на даму из сопотского курхауса, но он, разумеется, сразу ее узнал.
– Так вы говорите по-немецки? – обрадовался он. – И к чему я должен быть готов?
Она громко рассмеялась и вместо ответа указала лыжной палкой на город в долине, после чего стремительно, с резкими поворотами, понеслась вниз, вздымая облако белого пуха.
– Как же не говорить, – это был уже совершенно другой голос. – Мы тут говорим только по-немецки!
Над Касторпом склонился кондуктор. Тот самый противный тип, который в первый день так нагло к нему прицепился.
– Если кто и выпьет, мне что за дело? Лишь бы в меру. И вздремнуть можно, не воспрещается. Но платить надо. У вас только до Кленовой билет, а мы уже подъезжаем к Оливе. Если поедете обратно, извольте заплатить за два конца, уважаемый господин студент!
Неподалеку от стены аббатства, где была конечная остановка, рельсы разветвлялись, образуя длинную петлю, чтобы два трамвая – подъезжающий и отъезжающий – могли минуту постоять рядом. Выйдя из вагона в ноябрьские серые сумерки, Ганс Касторп нервно закурил сигару. Но разволновался он вовсе не потому, что, глубоко задумавшись и погрузившись в собственное время, проехал свою остановку, а совсем по иной причине: рядом с трамваем, на котором он приехал, на оливской рыночной площади его не поджидал другой, уже готовый в обратный путь, то есть возвращаться во Вжещ предстояло с тем же самым кондуктором, который вызывал у него самые неприятные чувства.
В парке, за старой оградой аббатства, воздух уже наполнился густым сумраком, однако здесь, на главной улице предместья, свет от окружавших остановку газовых фонарей и витрин нескольких магазинов рассеивал затаившуюся рядом темноту настолько, что трамвая можно было спокойно дожидаться, не теряя веры в прогресс и достижения цивилизации. Тем не менее Ганс Касторп ощущал нарастающую иррациональную тревогу, словно находился по ту сторону ограды, среди оробевших во тьме аллей, скамеек, клумб и черных зеркал воды.
На обратном пути, стараясь не замечать цепкого взгляда кондуктора, он попытался точно определить цвет ее глаз. «Серовато-голубые, – думал он, – а может, скорее голубовато-серые?» Да и откуда ему было это знать – ведь незнакомку он видел вблизи лишь дважды и ни разу – ни на веранде курхауса, ни в гостинице «Вермингхофф» – их взгляды не пересеклись. Почему же ему важен только оттенок глаз? Если бы он верил в реинкарнацию, переселение душ и тому подобные глупости, можно было б подумать, что они уже встречались когда-то, где-то, в иной действительности. Но такие бредовые идеи, пригодные для истеричных барышень и газетных хроникеров, наш герой решительно отвергал, хотя в последнее время они вошли в моду. Загадка так и осталась неразгаданной, и Касторп заставил себя прекратить бесплодные размышления, которые явно вели его в никуда.
Уже дома, когда Кашубке принесла ему в комнату ужин и пришлось оторваться от учебника геометрии, он подумал, что у него – как сказал бы доктор Хейдекинд – немного разгулялись нервы, и причиной тому переутомление и скверная погода, да еще он постоянно недосыпает. Поэтому он захлопнул книгу и решил отдохнуть, то есть лечь в постель и быстро заснуть. Однако осуществить это намерение ему помешала постучавшая в дверь госпожа Хильдегарда Вибе.
– Вы уж не откажите, господин Касторп, – на ней было вечернее платье, – сегодня годовщина смерти моего мужа, мы тут одни ее отмечаем, вот я и подумала, хорошо б вы хоть чуть-чуть с нами посидели, у нас пирожные есть, вино, ну пожалуйста.
– Мне очень жаль, госпожа Вибе, я неважно себя чувствую и, вероятно, завтра, – он сам удивился, как легко и без колебаний солгал, – пойду к врачу.
– Ужаснейшая досада, – именно так выразилась вдова. – И зачем нам столько пирожных?
Ужасно, однако, было нечто другое: музицирование госпожи Хильдегарды Вибе. Уже через минуту из гостиной донеслись звуки пианино. Хозяйка пыталась исполнить на плохо настроенном инструменте «Rondo alia Tupca». Бравурный марш несколько раз обрывался на четвертом такте, когда пианистка совершала одну и ту же ошибку. Понимая, что фальшивит, она возвращалась к началу, чтобы снова, в том же месте, ударить не по той клавише. Это было похоже на музыкальную шкатулку, которая, сколько ее ни заводи, не способна полностью воспроизвести мелодию: испорченный механизм в определенный момент дает сбой. Наконец, после множества попыток, хозяйка просто пропустила трудный фрагмент и стала играть дальше; но, когда уже казалось, что ей удастся благополучно добраться до конца, она опять сфальшивила и опять вернулась к началу, чтобы еще раз ошибиться на четвертом такте. Потом в гостиной воцарилась тишина, однако ненадолго – это был всего лишь перерыв. Касторп не мог поверить своим ушам: за стеной вдруг в четыре руки заиграли «Отголоски весны». Поминутно, после каждой ошибки, музыка прерывалась и госпожа Вибе громогласно обрушивалась на Кашубке: «Ну что ты выделываешь, нескладеха, разве я тебя так учила?!» или: «Не на пальцы гляди, а в ноты!» Произведение, которое семнадцать лет назад Штраус доверил оркестру и дивному сопрано Бьянки Бьянчи, в квартире на Каштановой звучало жалко и уныло, напрочь лишенное венской легкости, из которой оно родилось.
Будь жив обер-лейтенант, играла бы сегодня госпожа Вибе в четыре руки со своей прислугой? У Касторпа сразу улучшилось настроение: он вообразил, как описывает эту сцену Иоахиму. Кузен, который в будущем, скорее всего, и сам дослужится до обер-лейтенанта, был бы просто ошеломлен, а придя в себя, вероятно, задал бы вполне логичный вопрос: «А раньше ты слышал, как она дает уроки этой девке? В кашубской деревушке ведь не учат игре на фортепьяно. Господи, да это же немыслимо!» Про уроки музыки Ганс Касторп и вправду ничего не знал, но готов был бы согласиться с Иоахимом, что даже в мещанских домах, где, как и у них, придерживались республиканских взглядов эпохи былого величия, о подобных отношениях с прислугой и речи не могло идти. Строгие требования вкупе с подчеркнутой вежливостью обеспечивали должную дистанцию, хотя сенатор Томас Касторп, например, иногда позволял старику Фите некоторую фамильярность. Однако чтобы сенатора когда-нибудь увидели играющим со слугой, скажем, в карты или домино – нет, такое и представить себе было нельзя!
Так что же происходило в тот вечер в гостиной госпожи Хильдегарды Вибе? Ганс Касторп чувствовал, что под портретом обер-лейтенанта царит весьма непринужденная атмосфера; впрочем, воздавались ли таким образом почести покойному супругу или скорее это была демонстрация – тут уж он догадаться не мог. После «Отголосков весны» звякнуло стекло, послышались негромкие фразы и затем явственный смех обеих женщин. Уснуть Касторпу не удалось, и он решил закурить, когда же полез в ящик за «Марией Манчини», пальцы наткнулись на пакет в веленевой бумаге. И хотя это вовсе не входило в его намерения, хотя внутренний голос подсказывал: «Не надо, забудь об этих русских», – он подергал тонкую тесемку, узелок поддался, бумага развернулась, и вот уже наш герой держал в руке книгу, которая не ему была предназначена.
И очень удивился. Поднося томик к кругу света от ночника, он рассчитывал увидеть что-то экзотическое, по меньшей мере – кириллицу на обложке, непонятную книгу с загадочного Востока, но это оказалось немецкое издание романа Теодора Фонтане «Эффи Брист», с которым он в свое время уже свел поверхностное и не слишком приятное знакомство. Произошло это в последнем, выпускном классе, когда, простудившись, он вынужден был провести несколько дней в постели. В поисках чего-нибудь для чтения в библиотеке дяди Тинапеля Касторп наткнулся именно на эту книгу. Ему показались скучными описания господского дома в Гоген-Креммене и характеристики героев, с которыми он не находил ничего общего. Ухабистая песчаная дорога в Поморье или воскресная проповедь деревенского пастора – как далеко это было от его собственной яркой жизни под сенью портовых кранов и океанских судов, биржи, международной торговли и колониальных товаров. Дочитав до того места, где описывалось предсвадебное веселье у фон Бристов, он отложил роман и больше к нему не возвращался, уверенный, что не много потерял. Теперь, однако, все обернулось иначе. Запах фиалковых с примесью мускуса духов вдруг заполнил его комнату, будто незнакомка только что побывала здесь и, ни слова не сказав, оставила ему, вместо письма, эту книгу. Можно было не сомневаться, что в гуще разворачивающихся на страницах романа событий, диалогов и описаний скрывается информация о ней, несостоявшейся читательнице, которую – теперь он признался себе в этом без колебаний – он полюбил с первого взгляда, едва увидев на веранде сопотского курхауса. Полюбил горячо, страстно, со всей наивностью и безыскусностью юной души.








