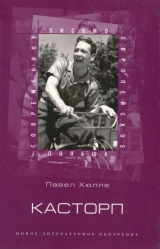
Текст книги "Касторп"
Автор книги: Павел Хюлле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Надежда что-либо разузнать у доктора Анкевица тоже не оправдалась. Тот только прописал вместо тинктуры со стрихнином соли Эрленмейера – по столовой ложке три раза в день – и, весьма удовлетворенный состоянием пациента, порекомендовал заменить водные процедуры интенсивным движением на свежем воздухе. Касторп, обеспокоенный формулировкой «интенсивное», напрямую спросил, не имеется ли в виду нечто вроде армейской подготовки на случай вероятной войны. Доктор от души рассмеялся.
– Молодой человек, – он протянул Касторпу рецепт, – поглядите, какая прекрасная весна! Радуйтесь жизни, а войны оставьте генералам и императорам.
Трудно было отказать доктору в правоте. Почки на деревьях готовы были вот-вот взорваться, под лучами солнца неистовствовали стайки воробьев, Кашубке выбивала во дворе ковры, а в порту на Мотлаве царило оживленное движение. На пасху Ганс Касторп решил поехать домой. Он написал дяде Тинапелю теплое письмо, купил билет до Гамбурга с пересадкой в Берлине, навел порядок в шкафу и комоде. Быть может, он взял бы с собой «Эффи Брист», но в день отъезда, буквально за четверть часа до того, как пора было отправляться на вокзал, Кашубке вручила ему конверт с маркой из Сопота.
«Спешу сообщить, – писал сыщик Герман Тишлер, – что первая часть задания выполнена. Дама, про которую Вы изволили спрашивать, не русская, а полька, Ванда Пилецкая, двадцати девяти лет, проживает в Варшаве. Мужчина – русский, Сергей Давыдов, тридцать лет, ротмистр кавалерии, недавно представлен к званию капитана и переведен из Варшавы в Люблин. У меня в бюро Вас ожидают еще некоторые подробности, весьма любопытные, которые, однако же, я предпочитаю изложить Вам лично. Со второй частью придется повременить, ибо пока невозможно установить, во-первых, поддерживают ли связь интересующие Вас особы, и, во-вторых, если поддерживают, то какие у них планы. В обычной ситуации я нашел бы кому это поручить или сам бы отправился за границу, однако же – я уж не упоминаю о дополнительных расходах, которые не были оговорены, – события, происходящие сейчас в России, отнюдь не благоприятствуют путешествиям и тем более сбору конфиденциальной информации».
Касторп дважды – а потом и еще раз – перечитал письмо. Необычайно старательный, чуть ли не каллиграфический почерк сыщика свидетельствовал о его педантичности. А вот выражение «однако же» достаточно было бы употребить один раз. Впрочем, не об этом думал Ганс Касторп в мчащемся на запад поезде. Его мысли занимал вопрос, лежит ли большой цветной атлас Брокгауза, которым он пользовался в гимназические, на своем прежнем месте в дядиной библиотеке. И где на карте России находится город Люблин, куда перевели капитана Сергея Давыдова.
X
Распрощавшись с водолечебницей, Касторп не распрощался с Сопотом и все свободное время проводил теперь на курорте. Можно даже сказать, что он стал его горячим почитателем и знатоком в одном лице и широко пользовался предлагаемыми удовольствиями. Например, подъезжал на конке к Королевскому холму, откуда – даже без бинокля – можно было любоваться великолепной панорамой Гданьского залива с кораблями на рейде, монументальной башней Марьяцкого костела и светлой лентой Висляной косы, которая тянулась далеко на восток, исчезая в бескрайнем пространстве воды, света и облаков. У подножья холма раскинулся Сопот. Крыши домов, башенки пансионов, парки, аллеи, площади полого спускались к морю, завершаясь темной линией мола, возле которого уже появлялись трубы пароходов. Чистый весенний воздух побуждал не только любоваться пейзажами. Если уж Касторп взбирался на поросший лесом склон, он частенько отправлялся дальше и, добравшись до корчмы «Большая звезда», с аппетитом съедал тамошнее фирменное блюдо: котлеты из молодой баранины с травами, к которым заказывал свой любимый портер. В Сопот он возвращался тоже на конке, которая с часовым интервалом курсировала между железнодорожным вокзалом и лесным ресторанчиком. Однако чаще всего Касторп проводил не менее или даже более приятные часы в нижней части города.
Поскольку в солнечные дни тянуло полежать в шезлонге, он брал в курхаусе или на террасе в Северных Лазенках это полотняно-деревянное устройство, чтобы поваляться пару часов в упоительном безделье. Такое времяпрепровождение прекрасно отвечало характеру Ганса Касторпа, поэтому он никогда не чувствовал себя лучше, чем в те минуты, когда, подремав с четверть часика, открывал глаза и с удовлетворением убеждался, что солнце продолжает ярко светить, на деревьях поют птицы, а непрестанный шум моря призывает снова вздремнуть, и даже дольше прежнего. Время тогда останавливалось, словно бессильный поршень невидимого компрессора, позволяя отключаться сознанию нашего героя. Ничто не нарушало этого блаженного состояния: ни одна, даже самая мимолетная, картина и ни одна – пускай подсознательная – мысль. После такого на редкость полноценного отдыха он неторопливо прогуливался по променаду и сравнивал достоинства различных меню – начиная от харчевни Адлера и кончая рестораном в гостинице «Вермингхофф». По причинам, ранее описанным, он избегал обедов в курхаусе, хотя, по правде говоря, его единственный прошлогодний опыт не был типичен для тамошней кухни. После обеда, завершавшегося кофе и рюмкой портвейна, он обычно проходил из конца в конец весь мол. Дважды послушал в концертном зале попурри из известных мелодий, хотя оркестр, видимо приберегавший силы к новому сезону, особого удовольствия ему не доставил. Еще он позволил себе сыграть в кегли, несколько раз посетил камеру-обскуру «Каскад», прокатился в бричке по берегу моря, один раз пострелял из лука и – тоже один раз, поддавшись внезапному импульсу, – поднялся на палубу судна, доставившего его прямо в Гданьск, на Долгое побережье. Так он коротал время. Точности ради признаемся, что он все чаще пропускал занятия в политехникуме, однако тогдашняя, чрезвычайно либеральная система обучения и обретенное Гансом Касторпом в результате свободного образа жизни умонастроение это допускали, больше того – способствовали учебе: теперь он успевал гораздо лучше, чем когда с поистине прусской дисциплинированностью посещал все лекции и семинары.
Если вечером, еще до ужина, он брался за «Электротехническое оборудование современных судов» Рёдерера, всё – даже сложная схема генератора паровой турбины Лаваля – легко и беспрепятственно укладывалось у него в голове. Он не путал шариковые подшипники с роликовыми, а шпиндель с ручным крутилом сумел бы нарисовать по памяти, даже разбуди его ночью, подобно тому как мог в любой момент перечислить все классы из списков германского Ллойда[32].
Полученные от Тишлера сведения не потребовали от Касторпа хоть сколько-нибудь изменить образ жизни. Ванда Пилецкая после смерти отца – будучи единственной наследницей – получила в собственность поместья на востоке бывшей Польши. Они ежегодно приносили изрядный доход, что позволило ей купить в Варшаве дом и проводить время в свое удовольствие: на Ривьере или путешествуя по Италии и Швейцарии. Полгода назад, в памятном солнечном октябре она впервые посетила Сопот и пробыла там недолго – всего три дня. Сергей Давыдов принадлежал к семье со славными военными традициями, его предки отличились в сражениях с Бонапартом. В Сопот он приезжал под видом торговца древесиной Бориса Ивановича Платонова; так значилось в его, похоже, специально с этой целью выправленном паспорте. Касторп всего лишь поручил Тишлеру дать ему знать, если они снова приедут, и не воспользовался предложением сыщика «собирать и впредь важную информацию». Интуиция подсказывала ему, что он встретит обоих еще в нынешнем году, – этого пока было вполне достаточно.
По-настоящему его заботило только одно: что он не выполнил всех рекомендаций Анкевица. Доктор настаивал на интенсивном движении на свежем воздухе, имея в виду занятия спортом, – лесные походы в «Большую звезду» или прогулки по молу лишь отчасти их заменяли. Впрочем, как-то Касторп выбрался в гребной клуб и в качестве одного из шестерых членов команды совершил нехитрое путешествие по Мотлаве, от Лабазного острова до Польского мыса и обратно. Натерев на ладонях мозоли, обозлившись на донимавших его своими замечаниями других гребцов и горластого рулевого, он поклялся себе, что, если и займется каким-нибудь видом спорта, там и в помине не будет духа коллективизма. Выбор он откладывал со дня на день, а между тем в середине мая у него закончились соли Эрленмейера и следовало бы узнать у доктора, конец ли это лечения, и если нет – попросить новый рецепт. Так или иначе, ему бы пришлось ответить на вопрос, как обстоит дело с интенсивным движением на воздухе. Короче, он не пошел к врачу, придумав себе оправдание: «Я ведь прекрасно себя чувствую, кто б на моем месте стал думать о лекарствах?» И, вероятно, окончательно пренебрег бы предписанием доктора Анкевица, когда б не очередная случайность, произошедшая, разумеется, в Сопоте.
Однажды, полежав в шезлонге, Касторп отправился в Южный парк, где начиналось строительство новых купален. Неподалеку он обнаружил неизвестную ему прежде рыбацкую таверну, которую держал некий Павлоский, чех из Микулова. Усевшись в садике, он заказал картофельный суп с лососем, судака в укропном соусе, графинчик белого мадьярского вина, а к кофе – торт с кремом из каймака и рюмку портвейна. И пришел в превосходное настроение, поскольку давно не едал так вкусно и так недорого. Закурив «Марию Манчини», он подозвал хозяина и завязал разговор о грядущем курортном сезоне, прислушиваясь к забавному акценту, в котором австрийская мягкость соперничала с чешской, типично славянской напевностью. Когда выяснилось, что Касторп – студент, чех, извинившись, скрылся в подсобном помещении. И тут, повернувшись лицом к морю, Ганс Касторп увидел на аллее парка трех граций. Девушки ехали гуськом на бициклетах. Яркие платья и ленты на шляпах развевались так же, как – годом раньше – на палубе «Русалки», где он обратил на этих девушек внимание. Прелестная сама по себе картинка заставила его задуматься о загадочных свойствах времени: разделенные долгими месяцами события повстречались, будто в синематографе, создавая обманчивое, но убедительное впечатление непрерывности.
– Это барышни Ландау, – сказал хозяин, вернувшийся с подносом, на котором стояла рюмка водки. – А это от фирмы. – Он поставил перед Касторпом «бехеровку». – Они с отцом убежали сюда с Украины, после погрома, лет пять назад. Можете себе представить? Их мать, госпожу Ландау, застрелил на улице казак.
Ганс Касторп – чего с ним никогда не бывало – залпом выпил настойку, расплатился, поблагодарил хозяина и торопливо зашагал на вокзал; меньше чем через час он уже входил в велосипедный магазин Руди Вольфа на Главной улице Вжеща.
– Я хочу купить мужской бициклет, – сказал он, – и к нему насос, комплект запасных шин, заплатки и клей. А также, если есть, прищепки для брюк – английские булавки я считаю непрактичными.
– Да, конечно, прошу вас. А какую модель вы предпочитаете? – поинтересовался приказчик.
Поскольку Ганс Касторп в марках велосипедов не разбирался, состоялась демонстрация моделей.
Определенными достоинствами, главным образом благодаря современной конструкции тормозов, обладал английский «Ровер». Однако он был тяжеловат, да и седло казалось не слишком удобным. К тому же, из-за отличия английской метрической системы от европейской, некоторые болты – если б понадобилось их менять – пришлось бы заказывать в Британии. Таких проблем не могло возникнуть с французским «Пежо». Победитель прошлогоднего Tour de France, предлагавшийся аж в трех расцветках, привлекал рулем особой конструкции и оригинальным звонком. Зато производившаяся в Гаггенау «Бадения» могла служить образцом немецкой солидности: у велосипедов этой марки по сравнению с прочими было меньше всего изъянов и, соответственно, к ним реже предъявлялись рекламации. «Марс-Редер» с Нюрнбергской фабрики тоже выглядел весьма соблазнительно. Последняя модель – «Вандерер» с фабрики в Хемнице – понравилась Касторпу больше других, и именно такой велосипед он выбрал, однако не из-за его достоинств, со знанием дела перечисленных приказчиком. Пока тот, демонстрируя модели, давал им краткие характеристики, наш Практик разглядывал раскрашенный от руки плакат, висевший над кассой. На фоне пологих холмов очаровательная девушка в голубой шляпе вела за руль велосипед, держа в свободной руке букет полевых цветов. Каждому было ясно: девушка нарвала цветы на ближайшем лугу и ждет юношу, который вот-вот подъедет на идентичном, только с мужской рамой, бициклете марки «Вандерер».
Таким образом, благодаря трем барышням Ландау и удивительному свойству времени, которое в садике при таверне подало нашему герою таинственный знак, а также благодаря доктору Анкевицу и, наконец, рекламному плакату Ганс Касторп подкатил к дому на Каштановой на великолепном синем «Вандерере». На багажнике в картонной коробке лежали запасные камеры, заплатки, клапаны, клей и две элегантные прищепки для брюк; насос, крепящийся к раме специальным зажимом, был, как и руль, хромирован.
– Теперь-то уж на вас трамваи, не скажу худого слова, ни пфеннига не заработают! – воскликнула госпожа Хильдегарда Вибе, вручая Касторпу ключ от чулана во флигеле.
Она не сильно ошиблась. Даже в дождливые дни, если только не свирепствовал ветер, наш Практик, укрывшись под лоденовой пелериной, с небольшим финским рюкзаком на спине, мчался по Главной улице, а затем по Большой аллее до аллеи Госслера, где ему приходилось прилагать несколько больше усилий, ибо эта улица – как мы уже не раз отмечали – вела в гору. Пелерину, финский рюкзак с изысканным плетеным каркасом, а также очки-консервы, замшевые перчатки – когда день выдавался холодный – и застегивавшийся под подбородком шлем, новые брюки-гольф и подобранные в цвет высокие носки Ганс Касторп приобрел в торговом доме Штернфельдов на углу Вжещанского рынка и Ясековой долины. Впервые после приезда в Гданьск он потратил больше денег, чем обычно расходовал за месяц. Однако это его нисколько не огорчило. Долгов у него не было, а вынужденная бережливость ничуть не противоречила новому образу жизни. Из завсегдатая курорта он превратился в настоящего путешественника, и эта почти не составившая труда перемена настолько его устраивала, что он с присущим юности оптимизмом видел только хорошие ее стороны. Да и были ли плохие? Мы и днем с огнем вряд ли бы их отыскали даже при обостренном критицизме или врожденной неприязни к велосипедистам.
Касторп вновь наслаждался необычайной прелестью ранних утренних часов. Город, еще не совсем проснувшийся, но уже сверкающий на солнце, сулил новые сюрпризы, раз за разом открывая неизвестные прежде калитки, тайные проходы и лазейки. Внезапно, будто вернувшись в сады детства – тот, что раскинулся перед домом деда на Эспланаде, и тот, который окружал дом Тинапелей у Гарвестехудской дороги, – Касторп стал ощущать острые запахи весны, обещавшие, что лето не за горами. Перед занятиями он заезжал на цветущие луга Заспы, в долину Стшижи, в парк на Кузьничках или, намеренно выбрав окольный путь, катил вдоль границ городской застройки, упорно одолевая подъемы, чтобы на взгорке вместо трамвайных звонков услышать пение петухов и жаворонков. Во второй половине дня он отправлялся через центр в Старый, Главный или Нижний город. Ему нравилось, остановившись над каналом, смотреть, как плывут по зеленой воде облака. Кружа по закоулкам Лабазного острова, Оловянки, Старой и Новой Шотландии, Оруни, Бжезна, Заросляка, он все лучше познавал диковинную структуру города, состоящую из столь разнообразных и необычных элементов, что, пожалуй, только человек с душой поэта мог бы увидеть их единство. Со временем, однако, – хотя он не был и ни в малейшей степени не ощущал себя поэтом – это единство, или, скорее, целостность Касторп начал постигать интуитивно: интуиция убедила его в существовании нескольких основных слоев, совмещающихся как во времени, так и в пространстве.
Кашубы и поляки, различить которых по языку он, впрочем, не мог, представлялись ему серым слоем земли, давно прикрытым брусчаткой и выступающим на поверхность лишь там, где сохранились старинные постройки: пригородный трактир, портовые склады, убогий домик в низине, иногда лавчонка в предместье, куда не доходили ни городской водопровод, ни трамвай, ни газовое освещение. На этой болотистой, вязкой почве возвышались кирпичные стены Ганзы, былая гордость купеческих династий и рыцарей; успешная торговля зерном определила облик строений: лабазов, домов, ворот и костелов. Время голландских фортов и амстердамских аттиков наступило гораздо позже, хотя в языке следов не оставило, если не считать разве что надписей на кладбищенских плитах. Евреи, как и везде, являли собой пестрое сборище, среди которого выделялись – чаще всего одеждой – пришельцы из России и Галиции; здесь, в отличие от Гамбурга или Франкфурта, их было не так уж много и своего обособленного района они не имели. Витавший надо всем этим дух прошлого преграждал дорогу будущему: стоявший некогда на главном торговом пути город теперь жил словно бы на обочине, без крупных инвестиций, лишенный размаха и воображения, которые придавали Гамбургу или Щтетину современный вид и дарили мощный жизненный импульс. Только военные гарнизоны – пехота, гусары, моряки и артиллеристы – создавали, быть может иллюзорное, представление о значимости города. Порт, верфи и несколько окрестных заводов были недостаточным источником энергии; впрочем, город – со своими холмами на юге, заливом на севере и огромной чашей долины Вислы на востоке под клубящимися тучами, безустанно ползущими с моря, – обладал бесспорным очарованием.
Наш герой не ограничивался постижением сущности Гданьска. Больше всего он любил, оседлав велосипед и водрузив на спину набитый провизией финский рюкзак, выезжать за старые рогатки Седльце, Оруни или Оливы. Это были прекрасные моменты: проселочная дорога, словно готовая расступиться перед Странником зрелая нива, обещала открытия уже за ближайшим поворотом. Обычно так оно и случалось, и Касторпа охватывали прежде не свойственные ему чувства. Какая-нибудь верба, склонившаяся над прудом, аист на лугу или березовая роща могли настолько его зачаровать, что он слезал с велосипеда и порой добрых четверть часа разглядывал это чудо, будто оно и было целью экскурсии. Если, разогнавшись при спуске с горки, он ехал быстрей обычного, слова песни Странника сами срывались с языка. Он выкрикивал их, с особым удовольствием повторяя: das Wandern, das Wandern! Но самые сильные, до душевной дрожи, эмоции вызывали лужи. Те краткие минуты, когда он вспарывал отражающиеся в воде небо и облака и видел в луже свое искаженное лицо, таинственным образом заставляли Касторпа почувствовать себя в темном пустом храме, только что покинутом последними адептами давно забытой секты. Поэтому ему нравилось ездить после грозы: едва из-за туч выглядывало солнце, в мир бурых зеркал вливался ослепительный, резкий свет, испещряя подвижную картину яркими бликами. Когда вечером, приняв после ужина приготовленную Кашубке ванну, он ложился, чтобы через минуту без малейших затруднений заснуть, перед глазами проплывали образы мест, которые ему хотелось навсегда сохранить в памяти. Луг в излучине Радуни, где он лежал в тени развесистого вяза, прибрежные дюны Собешевского острова, откуда он увидел стадо тюленей, холмы Эмаус, поросшие степными травами и ромашкой, или дубы в Дубовой долине, где он дремал, убаюканный тишиной и густым, как смола, запахом трав, – все это казалось Касторпу не столько неотразимо прекрасной частью дивного сада природы, описанию которого любой пастор с волнением и восхищением посвятил бы по меньшей мере половину воскресной проповеди, сколько поверхностью громадной, разлившейся, будто озеро, лужи, в которой отражались предметы и отблески, а также появлялось на мгновение и исчезало его преображенное движением, сосредоточенное лицо.
У настоящего озера, впрочем, ему однажды довелось пережить нечто совсем иное. Из-за холма под громкий аккомпанемент флейты и двадцати с лишним юных голосов появилась зеленая шляпчонка Вилли Штокхаузена. Вилли наигрывал мелодию, а хор пел: «Кто тебя, прекрасный лес, вознес прямо до небес?». «Перелетные птицы» – Ганс Касторп сразу вспомнил название их организации – явно облюбовали ту же, что и он, солнечную полянку на берегу. Не обращая внимания на велосипедиста, лежащего в траве рядом с прислоненным к сосне велосипедом, Перелетные птицы, не дожидаясь команды, разделились и занялись каждый своим делом. Они рубили сучья, готовили костер, набирали в котелок воду, сооружали шалаш – работа так и кипела под веселые перекрикивания, шутки, звяканье фляжек и треск ветвей.
– Так это ты! – Вилли Штокхаузен узнал поднимающегося с травы велосипедиста и крепко пожал ему руку. – Я приметил твою печальную физиономию еще тогда, в «Café Hochschule», помнишь? Я знал, дружище: когда-нибудь мы встретимся, но мог ли предположить, что и ты отправишься странствовать? Ох, нет, ничего не говори, чудесное совпадение, ты остаешься с нами, не спорь. Мальчики! – крикнул он. – У нас гость, это Ганс, студент политехникума! – И снова обратился к Касторпу: – Ты даже не представляешь себе, как я рад!
Вежливым кивком наш велосипедист продемонстрировал, что он тоже рад, а затем сказал, подчеркнув последнее слово:
– Я на прогулке.
Таким образом он дал понять Вилли Штокхаузену, что «странствовать» – неподходящее определение, отнюдь не передающее сути дела. Они ведь не в горах и не в канадских лесах, а в часе езды на велосипеде от городского предместья.
– Мы тоже обожаем прогулки, – Вилли Штокхаузен взял Касторпа под руку и подвел к костру, где под котелком уже занялся огонь. – Покинуть задымленный город, дышать полной грудью, вырваться из мещанского окружения – это же прекрасно, согласен? Бедняк или богач, сын сапожника или врача – какая разница? Звезды светят для всех одинаково. Фальшь нашего времени, деньги и лицемерие – все это мы оставляем в городе. Ты поймешь это вечером, когда мы запоем у костра.
Ганс Касторп молчал. Присев рядом с Вилли на пенек, он наблюдал, как Птицы готовят луковый суп – огонь под котелком уже разгорелся.
– Людям кажется, будто, читая в газетах о разных изобретениях, они начинают понимать, что такое новые времена, – продолжал Вилли. – Вздор! Неужели это все, на что способен человеческий разум? Когда я увидел тебя тогда, в орущей толпе, я сразу проникся к тебе симпатией. Такой человек, как ты, конечно же думает по-другому, независимо. Мы считаем это очень важным: быть независимым. От условностей. Узость ума столь же обременительна, сколь теснота в квартире. Мы освобождаемся от того и от другого. Странствуем и поем. Ты спал когда-нибудь в стогу сена? Пил простоквашу из крынки, протянутой натруженной рукой земледельца? Ночевал в лесу, у костра? Тому, кто просыпается с пеньем птиц, дано познать вкус жизни. Вот к чему мы стремимся. Нравится тебе такая философия?
Все время, пока Вилли говорил, Ганс Касторп представлял себе, как с суковатой палкой идет по деревенской улице под лай собак. На беду, у него всегда вызывала тошноту сама мысль о простокваше, а уж тем более в глиняной, наверняка засиженной мухами крынке, протянутой жилистой крестьянской рукой.
– Понимаю, – подумав, ответил он, – каждый чего-то ищет. Согласен. Но не называй это философией.
– Почему?! – возмутился Вилли и посмотрел Касторпу прямо в глаза. – Что, этим понятием имеют право пользоваться только профессора? Бездушные слуги рассудка, которые носа из города не высовывают? И копаются в мелочах, не зная жизни? Мы принимаем жизнь такой, какая она есть. И никаких заумных теорий. Простота, понимаешь?
– Философия, – заметил Касторп, – ищет истину. А вы? Проводите время на свой лад. Вот и все.
– Истина, – рассмеялся Вилли. – А что это такое? Абстракция, придуманная в спертом воздухе библиотек! Чтобы ее постичь, не нужны книги. Об этом ты никогда не думал?
Ганс Касторп не испытывал желания делиться с ним своими мыслями. И уж наверняка не собирался сидеть тут до вечера, чтобы у костра наслаждаться вместе с Перелетными птицами вкусом простой жизни. Он хотел вежливо попрощаться и уехать, но Вилли Штокхаузен протестовал так горячо и настойчиво, что в конце концов Касторп согласился разделить с ними трапезу. На обед был луковый суп с хлебом, намазанным смальцем со шкварками, а также чай без сахара. Есть пришлось не своей ложкой, из чужого котелка. Чай Касторп отхлебывал из общей кружки, после каждого глотка тщательно вытирая губы пучком травы. Вилли Штокхаузен делал то же самое, но весьма небрежно. Зато он беспрерывно повторял: «Вкуснотища!» или: «Ничего нет лучше еды на свежем воздухе!» А когда наконец настало время прощаться, сердечно расцеловал Ганса Касторпа в обе щеки и сказал: «Мы наверняка еще когда-нибудь встретимся на дороге странствий!»
Приунывший Практик проехал через сосняк до дома лесника, откуда свернул к деревне. Едва миновав последние дома Отомина, он почувствовал сильную резь в желудке. Остановился, лег на траву, пытаясь справиться с судорогами и ужасными звуками, которые издавали его кишки, однако не тут-то было. Подавить этот кошмарный бунт можно было лишь одним способом: поминутно слезая с велосипеда и опрометью бросаясь в кусты – если таковые оказывались поблизости. Приседая в придорожной канаве, Касторп едва не терял сознания от мысли, что его увидит какой-нибудь проезжающий мимо крестьянин. По причине, понятной без объяснений, он в конце концов перестал взбираться на седло и толкал велосипед перед собой, с трудом переставляя ноги по песку обочины. Его трясло, явно поднялась температура. Наконец он добрался до холма, за которым виднелись крыши деревни под названием Красивые Поля. Из последних сил дотащив свой «Вандерер» до небольшого камня, из-под которого бил родничок, Касторп напился холодной, кристально чистой воды и почувствовал некоторое облегчение. Утолив жажду, он растянулся на траве и долго смотрел в небо, по которому ползли барочные, ослепительно светлые облака. Ему вспомнились давнишние наставления доктора Хейдекинда: глубоко дышать, массируя ладонями живот! Так он и сделал, и – о чудо! – ему стало лучше. Судороги прекратились, а опорожненные кишки, будто эта простая манипуляция их умилостивила, великодушно позволили ему передохнуть. В таком состоянии Ганс Касторп лежал с закрытыми глазами, мечтая о наполненной теплой водой ванне, расстеленной кровати, грелке и горячем, не очень сладком чае, который в фарфоровой, с золотым ободком чашке принесет ему в комнату Кашубке. Все эти мечты могли исполниться – и исполнились, но не в самом скором времени.
Когда Касторп услышал два знакомых голоса из прошлого, ему почудилось, что он на корабле, в офицерской кают-компании «Меркурия», где напротив него сидят, перешептываясь над тарелками, преподобный Гропиус и мадам де Венанкур – служитель аугсбургско-евангелической церкви с легкомысленной католичкой. Однако то был не сон, голоса продолжали звучать и после того, как он открыл глаза. Ну конечно, сомневаться не приходилось: по лугу вдоль ручья, который, будто на роскошном олеографическом пейзаже, вился среди высоких трав, медленно шли рука об руку пастор Гропиус и мадам де Венанкур. Чуть подальше щипали клевер две лошади – сивая и гнедая, впряженные в покинутую пассажирами пролетку. Парочка уселась под явором на расстеленной француженкой шали, пастор достал из корзинки провизию, бутылку вина и рюмки. Ганс Касторп только чуть погодя осознал всю сложность своего положения: он, правда, мог, оставаясь незамеченным, за ними наблюдать, но если бы поднялся, чтобы взять лежащий в траве велосипед, или, что хуже, вынужден был внезапно – по понятным причинам – вскочить с тоже понятной целью, они бы немедленно его увидели и, вероятно, узнали, что – при нынешнем, также известном положении вещей, не говоря уж о разных других обстоятельствах – ему уж никак не было нужно, хуже того: страшно бы его скомпрометировало. Какие муки он испытывал, опасаясь, что расстроившийся желудок в любой момент опять может взбунтоваться, мы не намерены описывать. Достаточно сказать, что, все больше изнемогая, со все большим жаром мечтая о той минуте, когда можно будет отправиться домой, он вынужден был созерцать достойные названия fêtes galantes[33] сцены под явором, в которых истинно германская, протестантская основательность сочеталась с католическим, подлинно французским пылом. Розовое dessous[34] мадам де Венанкур идеально контрастировало с черными чулками пастора Гропиуса. Зонтик дамы покоился подле Библии в переплете с серебряной застежкой.
«Адам и Ева, – думал со злостью Практик. – Как жаль, что они не наткнулись вместо меня на стаю Перелетных птиц».
Под вечер, когда он наконец добрался до Каштановой, силы его были на исходе. Поскольку у Кашубке неожиданно оказался выходной, ему пришлось самому развести огонь под колонкой, а после ванны, уже в халате и шлепанцах, заварить в кухне чай.
– Чего это вы так рано ложитесь? – удивилась Хильдегарда Вибе. – Ведь, не сказать худого слова, лето на носу. Читали сегодняшнюю газету? Пудровского этого, который убил золотильщика, приговорили к смертной казни – голову ему отрубят. И невесте его тоже, хотя пишут, что император, возможно, ее помилует: она якобы не убивала и не четвертовала, а только помогла парню распихать части тела по мешкам. Ничего себе штучка, а? И вообще, господин Касторп, мне кажется, что времена теперь просто варварские. Говорят, в России все чаще бастуют и царь повсюду вводит войска. Неужто такое возможно? Ах, чуть не забыла, вам письмо, из Сопота.
Хозяйка принесла газету и конверт. Касторп сразу узнал почерк Германа Тишлера и тем не менее, оставшись один у себя в комнате, не торопился вскрывать письмо. Вначале он внимательно просмотрел «Анцайгер». Про Россию ничего не писали, а вынесенный подмастерью приговор обсуждался исключительно с точки зрения техники его исполнения: в окружной тюрьме не было гильотины, отчего процедура могла быть проведена традиционным способом, но не попахивало ли это Средневековьем? Автор заметки, хотя прямо этого не высказывал, явно был на стороне прогресса. Отложив газету, Ганс Касторп прочитал письмо сыщика.
«Многоуважаемый господин Касторп, – писал Тишлер, – спешу сообщить чрезвычайно важные известия. Ванда Пилецкая прибудет в пансион „Мирамар“, что на улице Загайники, ровно через неделю, считая с сегодняшнего дня. Она зарезервировала одноместный номер на втором этаже (№ 10) с видом на море. Относительно же намерений ее друга, господина Давыдова, мы пока никакой информацией не располагаем. Весьма вероятно, что их встреча уже запланирована, поскольку Пилецкая сняла номер на все лето. Это дает основание полагать, что она будет его ждать, а также что Давыдов не может заранее указать точную дату своего приезда, а стало быть, появится при первой же возможности, то есть практически в любой момент. Смею заверить: у меня все под строжайшим контролем, так что в случае приезда русского я оповещу Вас об этом письмом, а если будет слишком мало времени, вышлю телеграмму следующего содержания: „Встреча в гостинице…; в номере…; кланяюсь, дядя Герман“. Поскольку я не получил от Вас никаких дополнительных распоряжений – исполнить которые я готов, однако же лишь после того, как будут оговорены связанные с этим расходы, – то до момента возможных изменений характера моих услуг я прекращаю наблюдение за Вандой Пилецкой. С уважением – Герман Тишлер».








