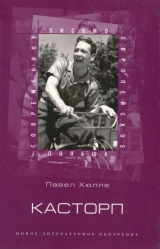
Текст книги "Касторп"
Автор книги: Павел Хюлле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
V
После пяти дождливых, туманных и очень холодных дней октябрь вступил в дивную пору бабьего лета. Извлеченные из шкафов осенние пальто, калоши, шарфы, ба! даже перчатки вернулись обратно на вешалки и в бездонные комоды. Было так тепло, что женщины выходили на улицу в летних шляпах, а мужчины – в особенности из низшего сословия – позволяли себе вышагивать по тротуарам без пиджаков, в жилетах, а часто и завернув рукава сорочек.
Касторп, который первые дождливые дни провел в весьма подавленном настроении – от полного уныния его спасало лишь обилие новых обязанностей, – теперь радовался каждой минуте. Бодрящие сверкающие утра ждали его уже за порогом дома, когда он с портфелем, набитым записями лекций, и картонным тубусом с чертежами, пройдя несколько шагов, сворачивал за угол Каштановой и направлялся к трамвайной остановке. Воздух был такой чистый, что всякая мелочь, на которую падал взгляд, вырисовывалась отчетливее обычного. Карниз дома, падающий кленовый лист или дуга подъезжающего трамвая одинаково доставляли Касторпу радость бескорыстного наблюдения. Большая аллея, в которую врывался разогнавшийся на горке трамвай, горела рыже-золотым пламенем, а огромное здание Высшего технического училища – которое все называли просто политехникумом – казалось на своем холме таким же невесомым и легкомысленным, как один из замков безумного короля Людовика[19]. Касторп, обычно внимательно слушавший лекции по начертательной геометрии, основам кораблестроения, прикладной математике и сосредоточенно выполнявший упражнения по техническому черчению, время от времени отвлекался и, подперев кулаком подбородок, поглядывал в одно из больших окон, за которыми по чистой синеве торжественно плыли ослепительно белые кучевые облака.
Обративший однажды внимание на погруженного в мечтательную задумчивость студента профессор математики Мангольдт громко спросил:
– И какой же, интересно, корень вы можете извлечь из этих облаков?
– Простите, господин профессор, – ответил сконфуженный Касторп, – но если учесть то, что вы минуту назад сказали о последовательности первых цифр, вытекающей из теоремы Ферма, я бы подумал о… бесконечности.
По аудитории прокатилась волна смеха, однако Мангольдт с серьезным видом кивнул и произнес:
– Действительно, это проблема чистой математики, мы же, однако, вернемся к нашим практическим задачам!
Залившийся краской Касторп склонился над своими записями; разумеется, он никак не мог предположить, что в результате этого незначительного инцидента, развеселившего аудиторию, за ним прочно закрепится сорвавшееся у кого-то с языка прозвище. С тех пор однокашники стали звать его Практичным Касторпом, или – проще и короче – Практиком.
Итак, наш Практик вел жизнь идеально упорядоченную, не допускающую никаких случайностей. Вставал он ежедневно в половине седьмого. Сделав при открытом окне от силы три-четыре гимнастических упражнения (будучи уверенным, что большее их количество окажется чересчур утомительным), он совершал за ширмой тщательный туалет. Затем, уже полностью одетый, отправлялся на кухню, где Кашубке – так он называл про себя прислугу госпожи Вибе – подавала ему горячее какао и две булочки. Одну он сразу же с аппетитом съедал, а другую Кашубке заворачивала ему в вощеную бумагу. Эти торопливые завтраки за кухонным столом сопровождались обоюдным молчанием, если не считать коротких «доброе утро», «пожалуйста», «спасибо», «до свидания». Лекции начинались в восемь, трамвай подъезжал к остановке перед Высшим техническим училищем в семь сорок две. У Касторпа оставалось восемнадцать минут, чтобы преодолеть двести метров по плавно поднимающейся вверх аллее Госслера, которую мы уже описали. Поэтому он шагал не торопясь, иногда примечая, что со вчерашнего дня на кладбище прибавилась еще одна могила. В огромном, чуть помпезном вестибюле он проглядывал доску официальных объявлений и направлялся в аудиторию, чтобы ровно без трех минут восемь занять свое место. «Свое» – поскольку всегда садился в пятом ряду как можно ближе к середине.
Обедал он в студенческой столовой, решив – хотя меню оставляло желать лучшего, – что так оно удобнее и дешевле. Если послеполуденные занятия начинались не сразу, он спускался на Большую аллею, по которой не спеша доходил до «Café Halbe Allee» или «Café Stoeckmann». При первом, расположенном ближе к центру и довольно популярном, был изрядных размеров сад, зато во втором, находящемся на краю Вжеща, посетителей ждали плюшевые диваны и посеребренные ложечки. В обоих подавали отменный кофе и газеты. И там и там Касторп, покуривающий любимую сигару, чувствовал себя, как нигде, в своей тарелке. Из того и другого кафе открывался вид на Аллею, по которой в эту пору катили конные экипажи, пролетки, трамваи, автомобили, прогуливались пары. Если же перерыв между занятиями был недостаточно долгим, после обеда Касторп шел в сквер перед главным зданием политехникума и тут, усевшись на скамейку и удобно вытянув ноги, с ненамного меньшим, чем в кафе, удовольствием закуривал «Марию Манчини». Вечера он проводил исключительно на Каштановой. Кашубке с разрешения госпожи Вибе ужин приносила ему в комнату.
Этот в высшей степени размеренный образ жизни удовлетворял Касторпа по нескольким причинам. Во-первых, отдаленность жилья спасала его от опрометчивых знакомств. Разумеется, кое с кем из сокурсников – о которых речь впереди – он охотно болтал на переменах, в столовой, маленькой читальне или на бульваре, но эти мимолетные беседы не требовали ничего, кроме сдержанной открытости, а Касторпу такое отношение к миру импонировало больше всего. Во-вторых, он быстро понял, что, если не хочет опозориться на первых же коллоквиумах и экзаменах, должен трудиться гораздо усерднее, чем это ему казалось в Гамбурге. Потому после ужина он открывал свои тетради и всякое сложное задание расчленял на отдельные элементы долго и основательно, пока не добирался до самой сути. Случалось, он засыпал, уронив голову на учебник начертательной геометрии, однако, проснувшись, никогда не жалел, что не сидит сейчас с приятелями за кувшином пива или не разгуливает в веселой компании по городу. В-третьих, неукоснительно выполняя установленные раз и навсегда правила, он чувствовал себя гораздо свободнее, чем если бы, закрутившись в водовороте связей и отношений, вынужденно тратил время на множество разных дел, не вкладывая, правда, в это душу. Так, Касторпу благополучно удалось не стать членом Северонемецкого общества гребцов, Гданьского певческого союза, Студенческой кассы взаимопомощи, Общества молодых лютеран, пребывающих за пределами отчего дома, Общества распространения немецкого духа и культуры в восточных областях, Союза абстинентов, Общества любителей античности «Омфалос», Академической лиги нравственного развития, Пангерманского объединения викингов и одной из двух уже упоминавшихся корпораций: «Германии» либо «Пруссии». Одной из двух, поскольку, в отличие от всех остальных обществ и союзов, каждая из этих элитарных корпораций не допускала участия своих членов в любой другой.
Общение с госпожой Вибе, сведенное к необходимому минимуму, тоже не составляло для него труда. Доплатив не так уж и много, он пользовался ванной по понедельникам, средам и субботам. Кашубке тогда растапливала чугунную колонку, и Касторп лежал в теплой воде, уткнувшись взглядом в разноцветные стеклышки витражного окна, столько, сколько ему хотелось. Единственное, чего госпожа Хильдегарда Вибе «не могла ему простить» (здесь мы повторяем ее выражение), так это его отсутствия за воскресным столом, тем более что, желая привлечь «ужасного нелюдима в общество» (это тоже ее слова), она предлагала Касторпу отменный обед с кофе и десертом за полцены.
Но у него на этот счет было свое мнение. По воскресеньям он спал дольше обычного или по крайней мере до девяти валялся в кровати. После завтрака, на который Кашубке подавала яйца всмятку, белый хлеб с ветчиной, дрожжевые булочки и кофе, Касторп возвращался к себе в комнату, где еще с полчаса предавался приятному ничегонеделанию. С чашкой недопитого кофе и зажженной сигарой он смотрел через открытое окно на далекие холмы, луга, сады и трамвайные пути. Созерцание широких просторов создавало приятное настроение легкой меланхолии. Час спустя Касторп уже выходил из трамвая у Зеленых ворот и отправлялся бродить по улицам старого Гданьска. Неторопливо и методично он осматривал исторические здания, отвечающие ганзейским традициям и близкие архитектурному стилю его родного города, однако чем-то неуловимо отличающиеся. Проголодавшись, он заходил в первый попавшийся скромный ресторан, где, угостившись для начала рюмкой местной водки и превосходной селедочкой, заказывал сытный обед, неизменно заканчивавшийся кофе, газетой и любимой сигарой. Потом он долго гулял по набережным Мотлавы, поглядывая на неподвижные подъемные краны, пустой фарватер и пришвартованные к причалам суда. Сонная воскресная атмосфера старого порта приводила на ум отдыхающий механизм; понятно было, что достаточно его запустить, как загудят буксиры, оживут краны, заскрежещут на стрелках вагоны, и вся эта сложная система вновь примется за работу, будто сердце, нагнетающее кровь в аорту.
Прежде чем направиться через Старый город к трамваю, он заходил в портовый кабачок «Под оленем». Набившиеся туда мужчины перекрикивались, кажется, на всех языках мира, но Касторпа, смакующего свой стакан портера, привлекала не столько матросская экзотика, сколько кельнер, за которым он с интересом наблюдал. Тот лавировал в страшной толчее с небольшой обезьянкой на плече, и всякий раз, когда зверек брал в протянутую лапку предназначавшиеся хозяину деньги, вокруг раздавался свист и аплодисменты. Кельнер был похож на Фите. Как его изрытое морщинами лицо, так и некоторые жесты напоминали старого слугу из дедушкиного дома на Эспланаде. Однако самое сильное впечатление на Касторпа произвели две детали, напрямую не связанные с внешностью кельнера: на шее у него был классический старомодный галстук, а правое ухо украшала широкая серьга, смахивающая на обручальное кольцо. Забавы ради Касторп представлял себе, как дед в просторной столовой заговаривает с Фите на южнонемецком наречии, между тем как наряженная в матросскую тельняшку обезьянка крадет с блюда кусок вкусного сыра. И деда, и Фите давно уже не было в живых, дом на Эспланаде, проданный чужим людям и перестроенный, изменился до неузнаваемости, однако воспоминание о них обоих – дедушке и его слуге – всплыло в памяти именно здесь, в кабачке «Под оленем», куда никто из членов семьи Касторпа по собственной воле, пожалуй, ни за что бы не заглянул. Кладя в обезьянью лапку плату за портер, молодой человек почувствовал, как в груди разливается тепло, хотя прикосновение твердых и к тому же черных пальцев зверька трудно было назвать приятным.
Так Касторп провел два воскресенья кряду. Конечно, он понимал, что вскоре в Старом городе не останется ни одного неизведанного места, но пока на карте Гданьска, где он скрупулезно отмечал уже изученные объекты, еще далеко не все пункты были зачеркнуты. Много интересного обещала прогулка от Старой оружейни вдоль укреплений, помнивших осажденного там короля Лещинского[20]. Еще Касторп не видел костела меннонитов, Большой синагоги, не побывал во Дворе Артуса, не посмотрел голландских мастеров в городском музее, не зашел в знаменитую библиотеку маркиза Бонифацио. Из менее значительных объектов оставался, например, переулок Святого Бартоломея и дома с черными перекрестиями балок за голландской плотиной. Отдельной экскурсии заслуживала крепость Вислоустье, которую он приметил, когда вплывал на «Водяном» в город.
По-прежнему стояла солнечная, необыкновенно теплая для октября погода. Даже в городской «Данцигер анцайгер», которую он однажды пролистал в «Café Stoeckmann», напечатали статью о климатических изменениях. Автор доказывал, что через сто лет, примерно в 2005 году, балтийский климат уподобится средиземноморскому, что приведет к неслыханному расцвету курортов и водолечебниц. С научной точки зрения это была довольно наглая чушь, однако Касторп, читая статью, улыбнулся: шелестящие под ветром пальмы на Долгом побережье и впрямь радовали бы взор. Он представил себе высохшего канцеляриста, строчащего докладную записку с предложением соорудить в городе по меньшей мере полсотни новых фонтанов. Перед ним же самим рисовалась гораздо более близкая перспектива – следующее воскресенье он собирался провести подобно двум предыдущим. А то, что получилось все совсем не так, было результатом чистой случайности.
Уже в четверг утром, когда, перед уходом из дома, он собрался положить в портсигар две любимые бременские сигары, оказалось, что деревянный ящичек с надписью «Мария Манчини» пуст. Тот, что он опустошил неделю назад, Кашубке убрала с подоконника, но у него должен был быть еще один – быстро вспомнил Касторп, – на дне чемодана. Но ящичка он не нашел – ни там, ни где-либо в другом месте, хотя тщательно обыскал шкаф и комод. Необъяснимая пропажа вызвала крайне неприятное чувство; разнервничавшись, Касторп опоздал на свой трамвай и – в результате – на первую лекцию по физике, которую читал профессор Ганновер.
Наверное, не надо объяснять, в каком скверном настроении Ганс Касторп повернул латунную ручку двери аудитории номер семь, где вот уже десять минут профессор излагал волновую теорию Гюйгенса. И дальше все складывалось плохо. Чтобы успеть купить сигары до закрытия магазинов, наш Практик пропустил лекцию по материаловедению, но «Марии Манчини» нигде не нашел. Ни в изысканном табачном магазине у Вжещанского рынка, расположенном бок о бок с кафе «Антония», ни в лавочке Левинской сразу за железнодорожным виадуком, ни в одной из прочих лавок с колониальными товарами в ближайших окрестностях. На следующий день Ганс Касторп не пошел в столовую, посвятив обеденный перерыв поискам бременских сигар в центре и закоулках Старого города. Следует ли добавлять, что, сойдя после этого путешествия на остановке у политехникума, он понял, что опять опоздал и, хуже того, опять остался без «Марии Манчини»? Ему, правда, предлагали «Окассу Заротто», «Вирджинию», «Пенсильванию» и даже ввезенную контрабандой из России якобы настоящую кубинскую «Гавану», но его любимых сигар не нашлось нигде, даже на оптовом складе Куммера в Зеленых воротах. Как будто в Гданьск не заходили суда из Бремена! «Забыли, видно, – с горечью подумал Касторп, сидя на лекции по машиностроению, – что первые наши торговцы этим товаром шестьсот лет назад прибыли из Бремена». Но от этой мысли, хоть и исторически верной, ему нисколько не полегчало.
Вдобавок вечером того же дня у него произошла небольшая стычка с госпожой Вибе. Вдова обер-лейтенанта не могла понять, почему молодой человек не кладет свое белье в специальную корзину. А когда он объяснил, что лишь фрейлейн Шаллейн – единственная в его родном городе особа, которой можно доверить стирку, осмотр, починку и утюжку рубашек и белья, словом, когда прямо, без церемоний, заявил вдове, что уже отправил посылку в Гамбург и – да-да – ждет скорого прибытия чистых вещей, госпожа Хильдегарда Вибе просто задохнулась от возмущения.
– Выходит, – сказала она, – на портвейн и вообще вам не жалко денег, а на воскресном обеде экономите?!
Куря египетские папиросы, купленные с горя у Куммера, Касторп смотрел из открытого окна своей комнаты на последний трамвай, свет от фонаря которого вспарывал темноту над садами и огородами. Вагон был похож на светлячка, ощупью пробирающегося во мраке.
В субботу утром на аллее Госслера он повстречал Николая фон Котвица. Беседа их, хоть и довольно бессодержательная, навела нашего героя на новый след.
– Сигары? – захихикал юный барон. – Ну и заботы у тебя, дружище, кто б мог подумать! «Мария Манчини»? Ничего не слыхал про такую гадость! Но есть магазин, где можно купить всё. Поезжай в Сопот, только смотри не заплутай: от вокзала вниз по Морской, а потом направо на улицу Вильгельма. Если у Калиновского не найдется таких сигар, отдаю тебе мой перстень, поместье и фамилию!
Ганс Касторп ни на что подобное не претендовал. Однако спросил, незаметно улыбнувшись:
– Ну а герб? С гербом-то как быть? Тоже отдашь?
И вот тут Николай фон Котвиц продемонстрировал всю палитру своих вокальных возможностей. Стоя на тротуаре, он просто ревел от смеха, поминутно выкрикивая:
– Ну, это потрясающе, дружище, просто потрясающе!
Касторп предусмотрительно отстранился, и лишь поэтому огромные, как лопата, ручищи приятеля не обрушились на его спину. Когда они уже поднимались по лестнице, ему вдруг припомнилось объявление, которое каждые несколько дней помещало в «Анцайгере» Общество каботажного судоходства: «В связи с прекрасной погодой регулярные рейсы продолжаются вплоть до отмены, цена билетов остается прежней».
Больше всего его удивила легкость, с которой он принял скоропалительное решение, продиктованное, как он посчитал, высшей необходимостью. Разумеется, если бы магазины и табачные лавки были открыты по воскресеньям, хотя бы до полудня, он бы поехал в Сопот на следующий день. Но поскольку это было не так, он прошел мимо аудитории, куда вливалась толпа первокурсников, и быстро покинул здание политехникума.
В девять пятнадцать от Долгого побережья отходила в Сопот «Русалка». Касторп – приобретя в деревянной будочке билет – не торопясь занял место на открытой палубе судна. Его радовало решительно все: прекрасная, почти безветренная погода, чайки, покрикивающие над палубой, мерный гул паровой машины, попадавшиеся навстречу корабли и даже ленты на шляпах трех молодых женщин, которые, опершись о перила, без умолку весело щебетали. «Русалка» по дороге заходила на Вестерплатте, в Бжезно и Елитково, делая короткие остановки, на которых пассажиров все прибывало. К удивлению Касторпа, большую их часть составляли курортники; это, конечно, объяснялось погодой, и потому его сложившееся еще в детстве представление о краткости балтийского курортного сезона за время рейса существенно не изменилось. Скрывая любопытство, он наблюдал за двумя русскими купцами в безупречных светлых летних костюмах: они успели до Сопота вылакать пять бутылок шампанского, щедро наделяя кельнера чаевыми. Может быть, поэтому, несмотря на выразительные знаки, которые подавал ему Касторп, негодяй так и не принес во второй раз портер? Впрочем, даже единственный бокал, с наслаждением выпитый между Бжезно и Елитково, привел нашего героя в преотличное настроение. Шагая по молу под бравурную музыку духового оркестра, обряженного в матросскую форму, разыскивая улицу Вильгельма, наконец, покупая в магазине Калиновского десять ящичков «Марии Манчини» (девять из которых, разумеется, с доставкой на Каштановую), Касторп ощущал, как в нем нарастает легкая, но будоражащая эйфория, которая подхватывает его и уносит в ясную, теплую, безоблачную курортную атмосферу. Спускаясь в курхаус, а затем усаживаясь за столик на веранде кафе, он был счастлив: это была та краткая минута беззаботного счастья, какая порой выпадает на нашу долю, когда, заслушавшись шума моря или обычного уличного гомона, мы вдруг с изумлением обнаруживаем, что находимся где-то совсем в другом месте – трудно сказать, где именно, но уж наверняка не там, где реально пребывает наше тело.
VI
Когда он сел в самом углу веранды и заказал портер, соседний столик еще пустовал. После первого, небольшого глотка, покуривая «Марию Манчини», сизый дымок которой быстро рассеивался полуденным бризом, полузакрыв глаза, Касторп погрузился в приятное оцепенение. Сквозь немолчный шум моря, точно сквозь музыкальный фон, в его сознание пробивались отдельные звуки: гудки прогулочного кораблика, веселые детские голоса, перекрикивания кельнеров, звон монеты, кружащейся на каменной столешнице, наконец, мелодия одного из популярных вальсов Штрауса, которую заиграл струнный ensemble на подиуме кафе. Именно тогда он услышал фразу, произнесенную по-французски с показавшимся ему незнакомым акцентом:
– Сколько еще мне мучиться?
Минуту спустя другой голос, на сей раз мужской, ответил тоже по-французски:
– Сейчас я не стану просить об отставке.
Они сидели за соседним столиком. Мужчине было лет тридцать пять. Он был в костюме английского покроя и панаме, вероятно из-за чересчур широких полей которой казался коренастым. В тот момент, когда Касторп посмотрел в их сторону, мужчина наклонился к своей спутнице и, обхватив ее запястье, добавил:
– Положение серьезное. Это политика.
Только теперь, когда, решительно вырвав руку, женщина невольно подняла голову, Касторп увидел ее лицо. Что-то позволило ему сразу же интуитивно определить славянский тип красоты этого лица, в котором едва заметно ощущалось далекое дыхание Востока.
– Ненавижу политику, – сказала она. – Ты знаешь, как сильно. Даже в письмах я не могу этого выразить.
К их столику подошел кельнер. Мужчина обратился к нему по-немецки с мягким певучим акцентом, тем не менее резко отличавшимся от того, который, по крайней мере здесь, считался специфически польским. Дожидаясь заказанных шоколада и пльзеньского, пара не обменялась ни словом, будто они пришли сюда лишь затем, чтобы с веранды курхауса полюбоваться морем. Но и после того как на столике появились напитки, беседа не стала оживленнее. Похоже было, ссоры, угрозы разрыва, многократные обещания, наконец, радость от владеющего ими чувства у них уже позади, и даже не имевший опыта в подобных вещах Касторп догадался, что сейчас они только повторяют то, о чем не раз говорили в гостиничных апартаментах или во время прогулки по берегу моря. Отставив едва початую кружку, мужчина сказал:
– Прости. Зря я утром раскипятился.
На что она ответила:
– Я же тебя ни в чем не упрекаю.
– Зато я себя упрекаю. За все. Даже за то, что я такой, какой есть. Порой слишком часто. Понимаешь?
Неприкрытая откровенность, с которой мужчина анализировал свое душевное состояние, просто-таки возмутила Касторпа. То, что он говорил по-французски, вероятно полагая, что никто вокруг не знает этого языка, ничуть его не оправдывало. Слушать такого рода излияния столь чувствительному молодому человеку, как Касторп, было стыдно: он смутился гораздо больше, чем если бы увидел этих двоих целующимися в тени аллеи. Не став дожидаться кельнера, он отсчитал нужную сумму за портер, положил деньги на столик и направился к променаду. Уходя, он еще увидел ее руку: затянутая в шелковую перчатку, она вначале поправила панаму на голове продолжающего без умолку говорить мужчины, чтобы затем нежно коснуться его темных, ровно подстриженных волос на затылке, чему сопутствовало произнесенное со вздохом искреннее признание:
– Как же я люблю все эти твои глупости – ты даже не представляешь как!
Возмущение улеглось не сразу. Касторп решил отправиться на долгую прогулку по берегу моря до самого Бжезно, откуда в его район шел прямой трамвай. Правда, легкие полотняные туфли совершенно не годились для похода по пляжу, но разве утром, отправляясь в политехникум, он мог предвидеть такой поворот событий? Шагать в одиночестве, вслушиваясь только в монотонный шум волн и крики чаек, идти так, ощущая под ногами хруст раздавленных ракушек, поскрипыванье песка, приятную мягкость пляжа, брести по краю пускай лишь кажущейся бесконечности – это казалось ему самым подходящим и единственным из всех возможных сейчас занятий. С первых же шагов он почувствовал необычайную легкость, как будто воздух на берегу залива оказывал меньшее сопротивление, чем в городе. Разумеется, с точки зрения классической физики – а иной он не знал – это было просто невозможно, однако с другой стороны, – размышлял Касторп, перепрыгивая через студнеобразное пятно медузы, – с другой стороны, можно ли с уверенностью исключить существование таких особых мест? Утверждать, что их нет нигде – то есть не только здесь, на Земле, но и во всем преогромном космосе? Он вспомнил, что на последней лекции профессора Ганновера одно из отступлений касалось à rebours[21] подобной проблемы; термин «особость» был несколько раз повторен вкупе с фамилией английского астронома. Более ста лет назад тот разработал теорию звезды, не излучающей света. Такое представлялось просто абсурдным, смешным, противоречащим здравому смыслу, черное солнце нельзя было даже вообразить, а уж тем более наблюдать, но аргументы Джона Мичелла были обезоруживающе логичны. Кто-то из поэтов – Касторп тщетно пытался вспомнить его фамилию – говорил о «кубке, полном темного света»[22]. Эти слова свидетельствовали о проницательности автора; астроном выразил то же самое с помощью последовательности цифр и уравнений – вот и доказательство некой общности поэзии и математики. Возвращаясь же к загадкам природы: если определенная «особость» возможна где-то там, в невообразимо огромных пространствах космоса, то иная по своим свойствам, но тоже «особость» могла иметь место и здесь, на берегу холодного моря, по которому он шел на удивление легким шагом, вдыхая запах водорослей и сырого песка.
Касторп отдавал себе отчет в том, что эти рассуждения, хоть и опиравшиеся на серьезные предпосылки, сумбурны и не могут привести к верным выводам, однако служили они совсем другой цели: как черная звезда, так и феномен морского воздуха позволяли не думать о тех двоих, оставшихся на веранде курхауса. На полдороге к Бжезно, близ рыбацкого поселка, Касторп, впрочем, отвлекся от своих размышлений. Наступив на что-то, он остановился и поднял кусок янтаря размером с грецкий орех; внутри покоилось насекомое, похожее на шершня. Держа в двух пальцах янтарь и разглядывая его на солнце, Касторп услышал явственную, хотя и заглушаемую шумом волн мелодию. Несмотря на кажущуюся беззаботность, она была какой-то очень трогательной, словно открывающийся из окна поезда пейзаж осенних полей, перерезанных сизыми дымами костров. Пела молодая девушка, которая, забрав у мужчин в лодке полную рыбы корзину и поставив тяжелый груз на правое плечо, несла его по широкой полосе пляжа. Босые ступни на каждом шагу с поскрипываньем погружались в песок, льняная юбка сдерживала движения, а свободно завязанный на голове платок сползал на глаза, мешая смотреть. Тем не менее, а возможно, именно поэтому девушка пела с такой самозабвенной радостью, будто все тяготы бытия были ей нипочем.
Песня, слов которой Касторп не понимал, заставила его замедлить шаг и тут же направила мысли на веранду курхауса. Ему почудилось, что случайно подслушанная там фраза, произнесенная слегка дрожащим, с хрипотцой голосом, то самое «Сколько еще мне мучиться?» адресована непосредственно ему и место ей – в глубине таинственного колодца, где память хранит смутные, расплывчатые картины, оживающие на краткий миг, чтобы затем вновь померкнуть и продолжить свое скрытое хрупкое существование.
В комнате матери пахло камфарой и болезнью, доктор Хейдекинд осторожно притворил за собою дверь, а отец, покинувший комнату минуту назад, молча сел за рояль и заиграл самую печальную песню из всех, что когда-либо были написаны. «Как ты можешь сейчас, когда она… – укорил его дедушка Томас. – Это же просто неприлично…» Именно так сенатор Томас и сказал: «неприлично», однако отца это ничуть не смутило, он продолжал играть с каким-то страшным автоматическим самозабвением, пока вышедший из комнаты матери доктор Хейдекинд не произнес: «Embolia cerebri, увы…» И тогда в квартире воцарилась глубокая тишина, прерываемая лишь тиканьем мейсенских часов да тарахтеньем пролетки за приоткрытым окном. Отец уже никогда больше не сел за рояль, с тех пор он целые дни проводил запершись в своем кабинете, а на его письменном столе росла белая гора корреспонденции, присылаемой из конторы, где он вообще перестал бывать. Однажды – незадолго до Рождества – Ганс Касторп увидел его у камина: стоя в небрежно наброшенном на пижаму шлафроке, он швырял в огонь неразрезанные конверты, а заметив устремленный на него пристальный взгляд сына, тихо проговорил: «Дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось, как мне… запомни…», будто в чем-то оправдываясь, хотя прозвучало это скорее как жалоба.
Только в трамвае музыка вытеснила воспоминания. Никогда еще с ним не бывало ничего подобного: мелодия, которую отец наигрывал на рояле, и песня юной рыбачки странным образом звучали в его голове одновременно, чисто и безошибочно, нисколько не смешиваясь; можно было подумать, что Шуберт – автор первой мелодии – прекрасно знал и вторую или даже – что за абсурд! – сочинял свою песню о трех солнцах-призраках не столько под влиянием той песенки, сколько как ее отражение, однако не зеркальное, симметричное – нет, это было отражение на воде, то есть живое и беспрестанно меняющееся. Касторп с его склонностью к скрупулезному анализу воспроизвел в уме обе мелодии в виде математических функций, которые, перемещаясь в полной пустоте – будто в зоне абсолютной тишины, – резко расходились, чтобы через точно отмеренный промежуток времени пересечься в заранее назначенном пункте и тут же начать поиски собственного пути. А поскольку окно, у которого он сидел, быстро запотело (не без участия его насквозь мокрых туфель и штанин), Касторп начертил на побелевшем стекле обе эти линии и разглядывал их примерно с таким же чувством, с каким еще недавно наблюдал за взбаламученной винтом «Меркурия» морской пучиной.
Это музыкальное настроение, не покидавшее его до самой Каштановой улицы, куда он шел пешком от остановки Брунсхофер, испарилось, едва он переступил порог квартиры госпожи Вибе.
– Так рано? – напустилась на него вдова. – Вы же по субботам никогда раньше шести не приходите! По лужам бегали? Дождя сегодня, не сказать худого слова, не было!
Одетая в шелковый, расписанный китайскими драконами халат, госпожа Хильдегарда Вибе как раз направлялась в ванную комнату, откуда Кашубке, наполнявшая ванну, кричала, перекрывая шум льющейся воды:
– Уже не такая горячая, теперича будет в самый раз!
С туфлями в руках, оставляя мокрые следы, Касторп прошлепал в свою комнату. Девять аккуратно уставленных в ряд на секретере ящичков с «Марией Манчини» свидетельствовали о необыкновенной расторопности сопотской фирмы Калиновского: пока он бродил по берегу моря, ждал трамвая, наконец, ехал на нем из Бжезно среди полей и садов, покупка была доставлена на место, хотя он ждал ее не раньше понедельника. Повесив носки на спинку стула и выжав брюки над тазом, Касторп стоял посреди комнаты в одних кальсонах и расстегнутой рубашке, озираясь в поисках полотенца, когда дверь отворилась и к нему – без стука! – ворвалась Кашубке с кувшином, из которого валил пар.








